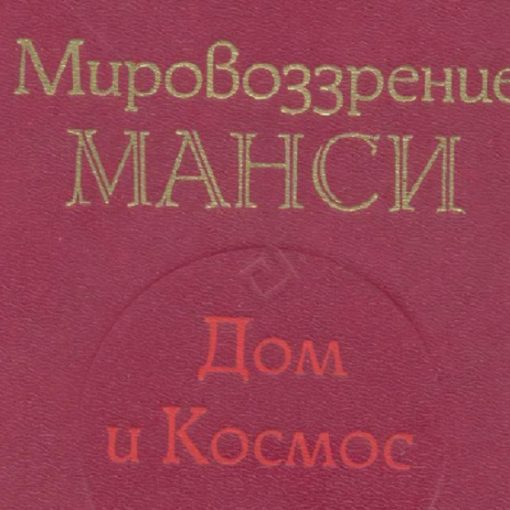Р.П. Митусова
Дети
Дети ко мне пошли не сразу. Уж очень их напугали.
— Оппой, оппой, — говорили им, указывая на меня, и ребята испуганно косили свои глазенки. Еще бы: «оппой» значит «старший», так и медведя называют.
Но шоколад и конфеты сделали свое дело. Невиданное сладкое понравилось, хоть сначала и страшно было брать: схватят и бегом назад.
Недели две спустя мы уже играли вместе, и свои игрушки они меняли мне на лакомства. Лаской их не удивишь. Самоеды, как и остяки, удивительно нежны к детям, постоянно целуют и ласкают своих и чужих ребят и не ленятся делать для них всякие игрушки. Но самоедские дети более нервны, а потому и капризнее остяцких.
Сегодня Чекаль, сын Халу, четырехлетний, со светлыми волосами, но черными глазами и смуглым широким лицом, румяный и неповоротливый мальчишка, с утра капризничает: Уччи, двоюродного брата, взяли прокатиться, а его оставили. Чекалю обидно, потому и плачет. Его целуют, уговаривают, ничего не помогает: ревет во все горло и катается по шкурам, выбиваясь из рук окружающих. Наконец, отец, выведенный из терпения, взял снегу и… насыпал ему за ворот. От неожиданности мальчишка замолчал, а когда раскрыл рот, чтобы снова закричать, отец, показывая целую горсть снега, строго сказал:
— Ша, ша, касянохат дятнас дехкарт, хытля ан канном. (Тише, сейчас рубашку сниму и на снег вынесу.)
Ребенок жмется, всхлипывая, к матери.
— Мась, мась, ман мань гумо. (Довольно, будет, скажи: «Я хороший») — говорит мать.
И Чекаль чуть слышно сквозь слезы пищит:
— Мань гумо.
Через несколько минут он убежал из чума. Покачиваясь, ходил взад и вперед и важно сосал «трубку», сучок кривой сосны, и еще заплаканными глазами смотрел, как я кормила лисиц.
У Нотю выкармливаются живые лисенята, прикрепленные на цепочках к столбу. Когда лисица достаточно вырастет и будет иметь длинную шерсть, ее убьют. Красивое хищное животное пугливо отбегает, звеня цепью. Положишь ей пищу, отойдешь — через несколько минут лиса подкрадывается, часть съедает, часть зарывает в снег. Обычно дети вместе со мной ходили кормить лисиц. Но сейчас сердитый на все и всех Чекаль не подходит, а, надувшись, только смотрит издали, важно положив свою руку на деревянный нож у пояса. В такой позе — он маленькая копия отца.
— Каппи томна, каппи томна! (Остяки приехали!) — закричали где-то.
Все высыпали из чумов, и я с Чекалем побежала навстречу запряжке оленей. Оказывается, приехал остяк Антон Касаткин с женой и моим любимцем Андрейкой. Вот радость-то! Самоеды и самоедки обступили приехавших и целуются с ними. Мне прежде всего бросилось в глаза хорошенькое личико Андрейки, румяное и белое, особенно в сравнении с самоедскими смуглыми лицами. Одет он был в малицу из лебяжьих шкур, покрытую сверху яркой пестрой материей, которая делала его похожим на цветок среди снега. Его так затормошили самоедки, что под конец он не выдержал и заплакал.
Антон приехал покупать шубу для жены, привез белок на обмен, пороху, дроби и материи. Хорошая женская шуба стоит сто белок, или на деньги 100 рублей. Остяки приехали с ночевкой, так как зимняя их юрта далеко. Рассказывают, что обо мне очень скучает Алексей, которому я вылечила ногу, четырнадцатилетний мальчик. Он прислал мне тетерок и рябчиков своей охоты. Андрейко вспомнил меня, пошел ко мне и угощался сладким чаем с печеньем, сиди у меня на коленях. Его веселая рожица очень гармонировала с общим настроением. Антон ушел к Пенелю в чум, а так как жена его совсем не знала по-самоедски, то наш общий разговор больше походил на разговор глухонемых; конечно, смеялись мы при этом много.
После чая мы с Андрейкой вышли из чума играть и знакомиться с самоедскими детьми. Начали бегать. Андрейко, самый младший из всех, был самый проворный и, утомленный долгим сиденьем на нартах, бегал без конца. Чекаль едва мог поймать его. Андрейко, когда спотыкался и падал в пушистый снег, протягивал мне свои ручонки, лукаво поглядывая большими карими глазками на разрумянившемся личике. Так и не отходил от меня, и спать его уложили рядом со мной.
Мы все еще долго сидели и вспоминали мое житье летом у остяков. Ими, жена Антона, участливо качала головой, жалея меня и сетуя на неудобства чума. У меня с непривычки голова от дыма разболелась. Передавали мне поклоны от аганских остяков. Рада я была, что они добром меня вспоминают.
А во сне я видела Ленинград и своих так ясно, что, проснувшись, не сразу сообразила, где нахожусь.
Жертвоприношение
Уже 22-е октября нов. ст., а я еще не двигаюсь дальше. Ждем, пока окончательно замерзнут болота и реки. Тоска напала, захотелось и газет, и писем. Да и постоянное внимание и любопытство самоедов утомляют. Временами так скучны и обстановка чума, и дым, и даже дремлющие, седые от инея сосны кругом… Хочется большего простора и движения.
Самоеды, угадав мое настроение, предложили прокатиться с ними к верховью р. Каван-яун, к местам летней рыбной ловли, чтобы привезти оставленные там запасы копченой и сушеной рыбы. Живо собрались и отправились. Едем по полузамерзшим болотам и целому ряду озер, из которых и вытекает река. Низкие берега ее занесены снегом. Надо всем повисли серые, скучные облака. Неприветливо выглядели остов чума и разбросанные старые ящики-нарты с рыбой.
Уже темнело, когда мы вернулись. Дома нашли гостей — ван-яунских самоедов. В их числе и Паята с отцом, тоже шаманом. Он долго расспрашивал меня о новых порядках в Сургуте, об уничтожении старых торговцев, о новых торговых предприятиях. После начал шаманить. Ну и хитрец же! Поняв, что действительно «новое» то серьезно, объявил всем, что будто во время камлания дух-покровитель сообщил ему о «новых хороших людях и удачной торговле в Сургуте», но все же, мол, нужно принести жертвы божествам и попросить у «рут-ими» (русской женщины) «нипек» и бумаги, т.е. я должна дать рекомендательные бумаги. Пришлось каждому хозяину чума давать «нипек», где я просто обращалась в Сургутский РИК с просьбой принять самоедов гостеприимно и направить их в Госторг и кооперацию.
Когда позже, весной, я возвращалась от самоедов и проездом остановилась в Сургуте, мне передавали, что самоеды остались очень довольны приемом. Были устроены собрания и выбраны старшины. Им объяснили, почему с них не берут ясак (подать).
Взыскание ясака теперь отменено. Вначале это вызвало испуг у самоедов, боялись, чтобы от них не отняли угодий, за пользование которыми они платили ясак царскому правительству.
Долго шаманил отец Паяты. Утомленная дневной поездкой, я тихонько укладывалась спать и под последнюю тихую песнь шамана заснула. Часть гостей в чуме уже спала…
На утро начались приготовления к жертве божествам – очередной ежегодной жертве перед началом охоты. Прежде всего нашили к новым малицам на капюшонах сзади блестящие медные пуговицы, по одной на каждый (по-видимому, это связано с поклонением солнцу). Затем положили в горячие угли маленький кусочек бобровой струи, и женатые мужчины и все женщины «обкуривались»: проносили между ногами это блюдце с душистым дымом. После обкуривания стали загонять оленей в загон из молодых сосен и отобрали семь совершенно белых оленей и три самых темных. Недалеко от священных нарт развели костер и начали раскрывать идолов.
В ящичках под шкурами лежали небольшие деревянные изображения божества. Нум, божество неба, со свинцовыми глазами и носом, держит в объятиях одну из своих жен — Аган-пушя с головой выдры. Рядом грозное божество — Мунута, бог грозы. А вот добрая и ласковая покровительница юности — Дятля-пушя. У нее в груди под знаком солнца вдавлена пятнадцатикопеечная серебряная монета. Почти в каждой нарте есть и Петл-ваку, старик, покровитель реки Пур. Каждая река имеет свое божество.
Кроме этих главных персонажей, лежат сухие щуки, шкуры лебедей, гусей, орлов, покровителей рода, и жертвы божествам. Все открыты и поставлены лицами на юго-запад — в ту сторону, откуда приходит тепло. Белых оленей привязали перед нартами тоже головами к юго-западу, а трех темных — головами к северо-востоку, в сторону злого духа, посылающего холод. Все приготовлено, бубны нагреты на костре, чтобы лучше звучали.
Шаман подошел к белому оленю, одной рукой схватил его за рога и другой занес нож над его затылком и поднял голову: лес дрогнул от громкого крика — молитвы шамана небу, нож сверкнул, и олень тяжело упал на землю. Снег окрасился кровью. Аркан, накинутый на шею оленя, быстро стянули, животное забилось в агонии. Все принялись кланяться, а мужчины заколотили в бубны. Душа оленя пошла на небо как искупительная жертва за человека, за его удачу в охоте, за прибыльную торговлю с русскими, за хорошую, мягкую зиму.
Так проделывают с каждым белым оленем. Все мужчины колотят в бубны, прыгают и носятся вокруг нарт с идолами, кланяются оленям, даже вертят их вокруг себя. Идет мягкий снег, тепло. Пот с них катится градом. Женщины в стороне только молча кланяются — им нельзя подойти к священным нартам, они нечисты… Долго молились самоеды. Затем закололи темных оленей — жертву злому духу. Тут только кланялись и в бубен не били.
Но пора и шкуры снимать. Быстро принялись за дело. И первым долгом собрав кровь, стали ею поить своих божеств, не жалея, мазали кровью идолов, бубны, нарты. У Халу среди идолов была православная иконка Богородицы, и ее напоили кровью… Шкуры развесили на высоких березовых шестах у нарт. Мясо и кровь поровну разделили по чумам.
К вечеру небо прояснилось, и косые лучи заходящего солнца ярко осветили окровавленные шкуры принесенных жертв. А в чумах шло пиршество: объедались еще теплой кровью и свежим сырым мясом оленей…
У Илюко
В ночь после моления ударил сильный мороз. Решено было, что на другой день меня повезут дальше на север к Илюко, а по дороге я заеду в чум Кольчу, жена которою приехала к нам в гости.
Воспользовавшись съездом гостей, я начала антропологические измерения. Работала лихорадочно, радовало доверие самоедов. Беспокоило только испуганное лицо жены Кольчу и быстрое ее исчезновение. Она еще мало меня знала, испугалась измерений и тихонько уехала домой.
На утро назначили отъезд. С тяжелым чувством собираюсь – за месяц сжилась со всеми. А главное, рассказывают, что жена Илюко, Ката-пушя, очень грязная и нечистоплотная. Мать Нотю принесла грязную от собак берестяную куженку и показывает ее — мол, в чуме у Илюко все так же — «чукай вайма» (худо, грязно). Смеемся, а все же тревожно.
Поехали меня провожать почти все. Из нашего чума только жена Нотю не поехала, муж ее не пустил. Я присутствовала при их ссоре. Нотю заставлял жену ехать за дровами и после остаться хозяйничать в чуме, а она упрямо твердила, что хочет ехать со мной, стала даже запрягать своих оленей в нарядную свадебную свою упряжь, с кистями из ремешков, выкрашенных оранжевой краской. А Нотю взял свою маленькую жену — она мне еле до плеча доходила — за пояс и отшвырнул от оленей в сторону. Я и ахнуть не успела, как она, словно мягкий комочек, упала далеко в сугроб. Снег мягкий, не ушиблась, только от обиды глаза налились слезами. Нотю сразу остыл, уже весело погрозил ей и пошел увязывать мои вещи…
Меня вез Пенелю на тройке оленей. Мороз был только -16°, и никто из нас не одел кумышей (верхней одежды мехом наружу). Длинным поездом в 12 нарт, запряженных выезженными оленями, с ездоками в разноцветных «верхницах» на малицах мы быстро неслись по лесам и
болотам. Удовольствие пути в солнечный день отогнало грусть, и мы весело перегоняли друг друга и перекликались. Перед чумами Кольчу нарты со мною пропустили вперед и с гиканьем быстро подъехали.
Пусто… Никто не встречает… Сошли с нарт, стали обыскивать чумы. Нашли только одну дрожащую глупенькую жену Али. Ее подвели ко мне. От страха лицо перекосилось, глаза забегали. На волосах у нее рваная тряпка, шуба грязная, засаленная. Стараюсь ласково ее успокоить, ничего не отвечает. Отпустили. Как дикий олень, она отпрыгнула в сторону, рассыпав «гостинцы», и быстро скрылась при общем смехе моих спутников. А у меня настроение упало. Я досадовала на себя, зачем при жене Кольчу начала измерения — они испугались и уехали. А если и дальше так будет?.. Потолковали между собой и решили ехать дальше — к Илюко…
Вечером подъехали к одинокому чуму на берегу небольшого озерка. Кругом — искривленные сосенки, покрытые снегом. Показались олени, залаяли собаки, и подошли люди. Какое-то чумазое существо с широко раскрытым ртом и черными от табаку зубами наклонилось ко мне и поцеловало в нос. Как хорошо, что лесные самоеды не целуются в губы! В сравнении с приехавшими со мной нарядно одетыми самоедами мои новые знакомые в закоптелой домашней одежде больно кольнули глаза. Долго не входили в чум, перекладывали вещи. Нотю и Халу устраивали мое место в чуме, женщины грели у огня мою шубу, чтобы я скорее могла переодеться и согреться. От тревоги и усталости целого дня езды у меня разболелась голова.
Первое, что мне бросилось в глаза при входе в чум, — это группа собак, доедавших что-то в котле, в котором варится пища для всех. И еще — приподнявшийся полуголый больной старик Илюко. Чемодан и постель уже лежали на месте. Села, осматриваюсь. Собак отогнали и, не выплескивая даже остатков от них, прибавили воды и положили мясо варить… Отказалась от еды, да и в самом деле не хотелось есть.
Привезшие меня торопились назад — будут ночевать в чумах Кольчу. Надо было прощаться. Признаюсь, мне стало тяжело. И когда добрая старуха, мать Нотю, такая всегда заботливая и внимательная ко мне, стала покрывать мелкими поцелуями мой нос и щеки, мне захотелось прижаться к ее мягким, толстым щекам и не отпускать. Все окружили меня, целовали — кто руку, кто лицо, говорили, что еще приедут повидаться со мной… Уехали. Я начала молча укладываться спать. Отодвинула свою постель на снег, подальше от досок у очага: по ним ползали насекомые. С ужасом смотрела я на грязь и копоть кругом, на лица самоедов, с остервенением поедавших еле сварившееся мясо.
Не было сил разговаривать, и я быстро улеглась спать. Но, представив себе весь дальнейший путь, еще долгие месяцы грязной обстановки чумов, недоверие туземцев, я вдруг упала духом и, зарывшись в подушку, горько заплакала от тоски и одиночества.
У Илюко в чуме немного народа — только две дочери, одна замужняя, а у другой жених живет третий год и «зарабатывает» себе жену. Он пасет стадо оленей, получает за это в год 14 голов — собирает калым за невесту. Дочка Илюко — забавная шестнадцатилетняя девушка с мальчишескими замашками: и оленей пасет, и на охоту ходит. Она отличается ловкостью и силой: прекрасно бросает аркан на оленей, быстро и ловко правит ими. Длинную палку, которой подгоняют оленей, мне тяжело было даже поднять, не только управлять ею, а Лянкытсяй – хоть бы что.
Илюко на другой день моего приезда снялся с места, и во время перекочевки я ехала с его дочкой, — вот и подружились. Лянкытсяй — самая веселая и неутомимая из всех. На остановках она уже бегает со своей собачонкой или племянницей Эмой, и далеко слышится их веселый смех, сливаясь со звоном колокольчиков, пришитых у рукавов их шубок.
Ехали мы большею частью лесом, и иногда на резких поворотах обе падали в пушистый, мягкий снег, и она первая весело начинала смеяться над своею неловкостью. Впрочем, это барахтанье в снегу имело в моих глазах большое значение: когда снег тает на лице, то невольно его нужно вытереть, и я услужливо подавала ей из своего запаса тонкие стружки, которые в этих краях служат вместо полотенец. Это и было единственным ее умыванием. Да, пожалуй, еще летом, когда дождь помочит. Дочь Илюко никогда не умывалась. Неряшливая и грязная, она была нестерпимой, и свою постель я отодвигала от нее подальше, что не мешало нам быть друзьями. К жениху своему она относилась равнодушно, спокойно ожидая своей участи. Лянкытсяй предпочитала бродить по лесу, рубить дрова, исполнять «мужскую» работу вместо грязной возни со стряпней и чумом. Свое кремневое ружье она очень любила и почти никогда не расставалась с ним. Во время езды, подгоняя стадо оленей, она то и дело охотилась за белками, в день убивая их по пятнадцати и более штук. Правда, мужчины за день убивали от 35 до 40 штук, но они специально этим и занимались, да и ружья у них были более новой системы.
Очень жаль было смотреть, как убивают белок, и сама Лянкытсяй, убив живого и грациозного зверька, сочувственно начинала причмокивать и гладить пушистую шерсть. Иногда, жалея заряда, убивали просто палками. Это отвратительное зрелище. Если белка попадет на отдельно стоящее дерево, его окружают со всех сторон, науськивают собак. Перепуганное шумом и лаем, несчастное животное делает отчаянный прыжок на другое дерево, но не достигает его, падает на землю и попадает к собакам… Зато мясо белок очень нежно и вкусно, и мне до половины декабря пришлось питаться почти исключительно им.
На четвертый день остановились посреди озера. Кругом леса удобное место для охоты на белку. Мужчины на целый день уезжали за ними. А я занялась стиркой. Удивление самоедов было безгранично. Лянкытсяй так и просидела целый день, следя с раскрытым ртом за кипячением и мытьем белья, и, захлебываясь, рассказывала мужчинам все подробности.
В тот же вечер шаманил жених Лянкытсяй: Илюко с каждым днем чувствовал себя все хуже и хуже. Илюко снова хотел спросить богов, чем помочь своей болезни. Наутро закололи двух оленей. Белого заколол сам Илюко, прочитав громко молитву-просьбу Нум-Нэми, матери бога, божеству, очень почитаемому у лесных самоедов. А темного заколол шаман, чтобы злой дух принял душу оленя и выпустил болезнь из Илюко. Как полагается, колотили в бубен, кланялись, но скакать-то уж Илюко не мог. Женщины только немного покланялись и ушли в чум работать по хозяйству. Было морозное солнечное утро, и на фоне снега и голубого неба маленькая группа самоедов, молящаяся неведомым божествам, казалась беспомощной и жалкой.
Как хочется жить этому трясущемуся старику с провалившимся носом! И что делать, когда и божество, и эта странная, приехавшая издалека женщина отказываются помочь?.. Торопясь, расплескивая дрожащими руками еще теплую кровь, поит Илюко из чайной чашки своих богов, даже нарты вымазал кровью. И солнце играет на фигурах окровавленных божеств.
Только началось обычное пиршество сырым мясом и кровью, как приехал самоедин из рода Пяк с р. Пура. На пятерке усталых оленей подъехал. Дикий и сумрачный, исподлобья смотрит, молчит. Всклокоченные волосы, старая оленья малица по подолу обшита мехом собак-лаек. Молча сел к огню. Ему подали корытце с мясом и кровью, ни о чем не расспрашивая. Наелся, отодвинул, чисто вытер поданными стружками лицо и руки от крови и снова насупился. Желая познакомиться с ним поближе, я передала ему сахар, печенье к чаю и кусок шоколада. Подсел к огню, разглядывает, лизнул, откусил наконец. Понравилось. Пробормотал что-то. Ему ответили, назвали меня. Встал и подошел ко мне, несколько раз кивнул головой, поздоровался за руку, — его рука немного дрожала.
Это был гонец от лесных самоедов с р. Пура. Там узнали о моем приезде и послали разведать, кто такая едет и зачем. Разговор начался, и самоеды, перебивая друг друга, с живостью начали рассказывать обо мне, даже стирку белья не упустили. Вечером он совсем развеселился, дал даже намазать помороженные щеки вазелином. И рано утром уехал назад, уже совсем успокоенный, в восторге от подарков моих: пистонов, пороха, дроби, бус и хлеба.
Решили, что теперь можно будет кочевать дальше по р. Пур — к Пякам, в самую гущу лесных самоедов.
Дальше на север
Пасмурно. Едем целый день то озерами, то лесом, временами – высоким сосновым бором. Уж стемнело. Луна в первую четверть слабо светит сквозь легкий туман. Ветер шумит. Утомилась, но голове стало легче. Дремалось и хотелось ночлега, но не могли сразу найти чумы и лишь в 10 часов вечера подъехали к ним. Встретили приветливо, только дети с криком отбежали: поразились, увидев вместо женщины «мужчину» (одета я была в самоедский мужской костюм). Подвели плачущую девочку-подростка, сироту, — два дня назад схоронила мать. Я ее поцеловала, и она совсем расплакалась. Все ее жалели и ласкали.
Поместили меня в чуме, очень плохо обложенном в основании снегом: дует со всех сторон, но я так довольна, что наконец-то приехала к Пуру, что совсем забыла о нездоровье, шутила, смеялась, разговаривала отдельными словами и жестами, раздавала всякую мелочь. Познакомилась со всеми, и на утро все охотно измерялись, даже дети быстро освоились. Обрадованные конфетами, они бегали разгребать снег, еще не глубокий, и приносили мне целые горсти клюквы. Хотели было угостить меня мясом павших оленей, да я отказалась.
Горе стряслось в этих чумах. У самого старшего брата пало в несколько дней около трехсот оленей от болезни копыт, поэтому мясо можно было есть. Из зажиточного он сразу превратился в бедняка: осталось всего около шестидесяти оленей. Это событие, еще недавнее, — злоба дня. Подробно рассказывают, как падали олени.
Припасы мои быстро уничтожаются. Раздаю уже не печенье, а муку, чтобы сами хлеб пекли. Вот и сейчас невестка старика стряпает пресные лепешки, бросает их в горячий бульон из мяса павших оленей — и через несколько минут хлеб готов. Стряпает их и напевает детскую песенку, без конца повторяя имя мальчика: «Олинэ, Олинэ, Олинэ», а дочка Ангэльта сидит рядом, жадно следит глазенками за стряпней матери и глотает слюнки, предвкушая лакомую лепешку. Говорит мне: «гумо, гумо нянь» (хороший хлеб) и звонко смеется, когда я отказываюсь от склизких, бледных и сырых лепешек, замешанных на воде и крови оленя.
К вечеру все собираются в чум. Обсуждается мой отъезд дальше; рассказы и расспросы про города, про торговлю. Снова вынимаю журналы, открытки, даже про аэроплан умудряюсь рассказывать. Слушают, как сказку, и просят прилететь к ним на этой «машине». От шума, гама и напряжения устаешь и засыпаешь сразу же, не чувствуя, как постепенно гаснет костер, становится в чуме морозно и инеем покрываются от дыхания волосы, ресницы и простыни у лица… Завтра — снова в путь…
Утром встала рано, но ловля оленей для запряжки тянется долго. Полукругом составили нарты, веревку протянули, чтобы полукруг получился, и я вместе со всеми женщинами и подростками держу веревку. Загоняют оленей в такой «невод» долго — около двух часов. Целый лес рогов. Даже жутко смотреть на ловко управляющихся с оленями самоедов. Связывают по три, по четыре и выводят из круга.
Для меня запрягли «парадный» выезд: тройка белоснежных оленей, нарты покрыты белой шкурой, и сами мы одеты в белые кумыши. Красиво.
Теперь всё время буду кочевать в бассейне р. Пура. На западе большинство речек принадлежит роду Пяк, на востоке — роду Айвасята.
Едем водораздельными болотами — тундрой. Снегу еще мало. Тундра бугристая. Часто между буграми озерки, словно оконца, блестят ото льда. Олени несутся без всякой дороги прямо на север. Солнце чуть поднялось над горизонтом и золотит бесконечную даль. Вот снова «оконце». Тройка оленей легко взбежала на лед и — трах… разом бухнула в воду. Тонкий еще лед не выдержал их тяжести. Нарты от толчка подскочили, и я, как мячик, вылетела из них. Еще секунда — и нарты под водой. Благодаря толчку я упала на берег, только пэмы замочила.
Возница же почти весь окунулся в воду. Благодаря свободной запряжке олени благополучно выскочили на берег. Решили, что возница должен ехать назад, домой, и скорее переодеться. Я тут же переоделась в запасные пэмы. И вскоре мы уже смеялись над приключением.
Наступила ночь, а чумов все еще не видно. Наконец подъезжаем к низенькому леску. На утоптанном снегу видны следы оленей, но чумов и самоедов нет — перекочевали. Нужно искать чумы. Решили, что я останусь с обозом, а возчики на легких нартах поедут разыскивать самоедов. Быстро разостлали мой спальный мешок и оленью «постель» — шкуру на снег. Уселась я с баранками и куском мерзлой тетерки в руках — за день-то проголодалась — и осталась ждать своих возчиков. От таинственного света луны серебром блестят дали; рядом низкие кустики березок да понурые олени в запряжке, некоторые улеглись в снег. Пустынно, безмолвно. Спать не хочется — жутко немного.
Больше двух часов проездили самоеды, пока нашли чумы. Оказались они сравнительно недалеко. И в третьем часу ночи мы добрались до людей. Но ожидаемого горячего чая не оказалось. В чуме были только котел, ведро да маленький тазик, в котором мне подали вареное мясо, — даже деревянных корытцев нет. Пришлось распаковать свой чайник, небольшой, достала и кружку запасную. Пока кипятился чайник, в ведре свежий снег вновь растопили для питья.
Я устраивалась на ночлег и раздавала, по обыкновению, «гостинцы» — угощала хлебом и сахаром. Дети никогда не видали конфет и не знали, что это такое. Но больше всего их поразила свечка: горит, а дыма нет. Один мальчик девяти лет тихонько спросил: «чукай ту?» (это — огонь?). Я поднесла свечку ближе, и ожог пальца уверил его, что это действительно огонь. А когда я вынула зеркало и в нем отразилась обстановка чума, смеху и крикам конца не было. Долго рассматривал каждый себя, гримасничая и делая страшные рожи, и все до упаду хохотали.
Знакомство было сделано, и наутро все охотно измерялись…
«Важный старик»
Пробираюсь дальше на северо-восток. Работа идет успешно. Для музея уже собрала много вещей. Самоеды охотно измеряются, только антропометрических инструментов немного побаиваются.
Запасы мои быстро исчезают. Муки здесь давно не видали, хлеба — тем более, поэтому особенно ценны кажутся мои «подарки», собственно, плата за провоз и гостеприимство.
В чумах все больше середняки — владельцы трехсот-четырехсот оленей. У некоторых имеются запасы пушнины, и я уговариваю их выехать на торговлю.
Сегодня остановилась в чуме самоеда Таз. Целый день, короткий, правда, измеряла и очень устала. Ребят так много, что сразу не могу разобраться, чьи они. Путают еще «молодые» пары. Здесь в чуме мальчик и девочка. Я считаю их братом и сестрой, а оказывается — муж и жена. Мужу двенадцать лет, жене — четырнадцать…
А вот еще пара из соседнего чума: жене тринадцать, а мужу пятнадцать лет — совсем еще дети. Приводят маленькую, бледненькую и худенькую девочку девяти лет, оказывается, — жена тридцатилетнего мужчины! Сами сознают, что так плохо, да зато за маленькую можно небольшой калым платить, а то купишь жену и сам без оленей останешься. Закон об отмене калыма введен позже — в 1926 г. и в быт еще не проник.
Дети смышленые… Уже в двенадцать лет становятся помощниками отцу и матери. Вот младший сын Таза — Ойля, бойкий мальчишка, любимец матери, ни минуты не сидит без дела: то младшим детям мастерит игрушки, вырезая их из дерева, то дров матери принесет, то к оленям едет. Он умеет сочинять песенки.
Вот и сейчас вырезает малышу оленей из лучинок и напевает:
«Лемпо Медя камдяй,
Чоня то камдяй.
Мынчих то симдяй».
Это значит: невестка Лемпо бежит, лисица бежит, а у лисицы на животе дырка, — песня про лисицу, раненную в живот, которая вырвалась из рук невестки и убежала. Все смеются, даже ленивый, неповоротливый, уже женатый старший двенадцатилетний брат.
Вдруг послышался лай собак. Дети выскочили из чума, вышел и Таз. Через несколько минут вкатывается в чум Ойля и с испугом в глазах громким шепотом, задыхаясь, произносит:
— Норко ваку томна, Норко ваку томна! (Важный, большой старик
приехал!)
Оказывается, сам Данила Касаткин приехал. Данила — богатый остяк, женатый на самоедке, уже давно поселившийся среди лесных самоедов и ведущий самоедский образ жизни. У него больше пяти тысяч оленей…
Ойля смотрит на меня с удивлением, его простое и свободное обращение со мной исчезло: еще бы, сам «норко ваку» приехал познакомиться с этой женщиной!
Хозяйка испуганно засуетилась, достала новую оленью шкуру — «постель», прибрала кругом, подбросила дров в костер – вскипятить чайник (чайник мой, у Таза пили только воду). Дети исчезли, Ойля забился в уголок.
Но вот снаружи послышался скрип снега. Хозяйка быстро приподняла входную завесу-«дверь», и в чум вошел невысокого роста остяк с хитрыми черными глазками, лицом и улыбкой почему-то напомнивший мне Вольтера. Одет он был поверх малицы в черную суконную «верхницу» и в темно-коричневые щегольские пимы. Только богато украшенный бисером пояс с ножом в ножнах из мамонтовой кости красивым пятном выделялся на его строгом костюме.
Данила важно подошел ко мне, поздоровался по-русски и уселся рядом на шкуре. За ним вошел его старший сын Никита, рыжеватый блондин, поразивший меня красивым профилем и довольно длинными косами у висков с яркими лентами. Одет тоже во все черное.
За ними вошли человек десять самоедов из рода Айвасята. Поразили меня их тонкие профили и прямые носы. Все одеты в темные малицы, но верхницы уже из бумажной ткани. Волосы, как у самоедов рода Пяк, острижены в кружок, но у некоторых оставлены на затылках пряди волос. По этому признаку и род их называется «Айвасята», что значит, собственно, прядь волос, коса.
Подражая Даниле, все чинно здороваются со мной за руку и рассаживаются по местам. Хозяйка, скорчившись, садится у дверей. Разговор налаживается плохо. Я боюсь быть неучтивой и, по самоедскому обычаю, не начинаю разговора с гостями первая. Данила искоса поглядывает на мои приготовления к чаю. Вынимаю сушки, конфеты, печенье, посуду. Данила не выдержал и, увидев мою чайную массивного серебра ложку, берет на руку и взвешивает.
— Тагорн, ем, ем (тяжелая, очень хорошая), — говорит он по-остяцки, переводит по-самоедски, передает ее соседу, и моя чайная ложка пошла ходить по рукам.
Откупорила банку с консервами-персиками. Данила забыл всю свою важность, с любопытством разглядывает, нюхает, но попробовать боится. Кроме лука и картофеля у русских в Сургуте, он никогда не видывал других овощей и фруктов. Рассказываю по-остяцки и по-самоедски, что это вроде больших ягод и растет на деревьях. Снова, как во всех чумах, пошли в ход картинки и рисунки, и разговор сделался общим.
Но персики не понравились. Увидев, что я спокойно их ем, все стали пробовать, при этом морщились, а один даже выплюнул. Из всех моих запасов только эти персики (у меня и было-то всего восемь банок) да еще чеснок не понравились самоедам, и я съела их сама к большому своему удовольствию.
Желая быть любезной, я угостила всех невиданным лакомством — касторкой, каждому по чайной ложечке дала. Очень она им по вкусу пришлась — самоеды любят всякий жир. Позже, когда у меня кончились конфеты, — увы, уже в середине декабря от двух пудов ничего не сохранилось — касторка осталась единственным лакомством, которым я угощала всех.
Затем я вынула нашатырный спирт, дала понюхать — и пошел тут смех.
— Гумоно чуди, гумоно чуди (хорошенько понюхай)! — всем говорил Данила. Хоть слезы и текли, а нравилось. Одному старику дала в бутылочке с собой, — говорит, голове легче.
Когда стали пить чай (по очереди, посуды не хватило) и я угостила печеньем и конфетами, гости совсем освоились. Данила первый начал расспрашивать о новых порядках, почему «ясак» (подати) с них никто не берет, не отбирают ли оленей. После чая Данила, а за ним и остальные, усиленно начали приглашать меня к себе в гости.
На ночь часть приезжих разошлась по другим чумам, часть осталась у нас. Когда я начала устраивать себе постель и вынула две простыни, каждый подошел и потрогал полотно. Пришлось объяснять, почему я сплю между простынями. Некоторые думали, что я «большой лекарь» и потому свое «священное» тело покрываю белым, ведь шаманы же одевают на себя белую рубаху поверх малицы. И, по-видимому, не очень-то верили моим объяснениям. Лишь практичный Данила удивленно заметил по-остяцки:
— Сколько материи зря пропадает!..
Довольная налаженным знакомством с представителями рода Айвасята, я быстро заснула.
Наутро закололи оленя.
Закусив сырым мясом (для меня сделали «шашлык» олений), начали собираться к отъезду и загонять оленей. Перед этим часть молодежи стала бросать арканы — кто дальше кинет. Не выдержали «старики», оставили ловлю оленей и тоже занялись игрой. Даже Данила нарушил свое олимпийское спокойствие и сошел с нарты.
Все бросали аркан по три раза, соблюдая очередь. Победа оказалась на стороне старшего поколения. Гумату, тридцатипятилетпий самоед, лучший охотник, дальше всех бросил аркан.
Когда начали состязаться, кто дальше прыгнет, то победила молодежь.
Самоеды так увлеклись состязаниями, что и оленей забыли. Однако Данила спохватился и заторопился ехать. Не обошлось без приключения.
Один мальчик нечаянно выронил лямку от передового оленя — и вся тройка с пустой нартой понеслась по тундре. Моментально все вскочили на свои нарты и понеслись вслед. Настоящая гонка! Небо, все алое от чуть поднявшегося над горизонтом полуденного солнца, розовым светом озаряло легко несущихся по озерам и болотам оленей и в розовом тумане вдали сливалось с тундрой. А у чумов, встревоженные криками, метались на цепи у столбов «кормленки»-лисицы да лаяли оставшиеся собаки.
И на этот раз победил Гумату: тройка его прекрасно выезженных оленей оставила всех далеко позади. Он нагнал убежавших оленей и ловко остановил их, накинув аркан на рога.
Только к вечеру, т.е. к трем часам — дни здесь короткие – удалось Даниле уехать. Условились, что через неделю я приеду к нему…
В чуме богача
В верховьях Большого Пура, впадающего в Тазовскую губу, на свободных, не занятых лесными самоедами землях кочует огромное стадо Данилы. Он разделил его на пять частей, и под надзором трех старших сыновей с наемными рабочими пасутся олени в разных местах. Это делается для того, чтобы избежать повального падежа. И почти еженедельно сыновья ездят к старику-отцу на доклад. Сам он в своем огромном чуме живет настоящим царьком. Рядом стоит другой чум для работников да еще чум Никиты.
Приехала я уже затемно. Много народу высыпало встречать меня, но самого Данилы не было — два дня назад уехал вместе с Гуматой на охоту за дикими оленями.
Чум поразил меня богатым убранством. Поверх обычного «дямп» — редко сплетенных сучьев ивы — весь «пол» застлан циновками, сделанными из трав, постланы свежие оленьи постели. Снегу почти нигде не видно. На костре кипятился медный, хорошо вычищенный котел с крышкой, а на священном месте перед очагом стоял… никелированный трехведерный самовар. Я точно родного увидела — так обрадовалась самовару.
Еще раз здороваюсь с хозяйкой. Она берет меня за руку и подводит к постланной для меня оленьей шкуре. Не в пример самоедкам, которые все очень маленького роста, жена Данилы высокая, выше мужа женщина, с прекрасными белокурыми волосами и самоедским толстым лицом, с добродушной улыбкой и маленькими ласковыми серо-голубыми глазами. Это единственные светлые глаза, виденные мною в стране лесных самоедов. Она имеет четырнадцать человек детей, начиная от старшего женатого Никиты до семилетней девочки. В глазах самоедов — это ее главное достоинство.
Пока я устраивалась в чуме, приехал и Данила с младшим сыном. Четырнадцатилетний мальчик — точная копия отца — важно поздоровался со мной и уселся молча на шкуру. Маленький мальчик, лет девяти, сирота, взятый на воспитание, раскурил и поднес Даниле трубку. Женщины захлопотали, принесли шубу и накинули ее на Данилу, когда тот снял с себя малицу. Шуба из прекрасного неплюя (небольшого осеннего оленя), на меху из черно-бурых лисиц. Я сначала даже не поверила глазам — не могла понять, откуда у него такие меха, но наутро все стало ясно. Гумату, сердитый на Данилу, который помешал его охоте на диких оленей, пришел сказать, что уезжает домой, и спросил у него два фунта дроби. Принесли весы. Сам Данила отвешивает. Заинтересованная торговлей, я слежу за их разговором. Оказывается, за фунт дроби Данила берет шесть белок! Тут я не выдержала:
— Послушай, Данила, ты знаешь, что в Сургуте фунт дроби в Госторге стоит 48 к., а белка стоит рубль шкурка?
— Здесь не Сургут! У нас своя цена на белку — восемь копеек, — сердито ответил он. — Мне самому приходится покупать дорого у остяков.
— А почем?
— Не помню, — отрезал Данила…
Обращаюсь к Гумату:
— Оставь белки себе, выйдешь на ярмарку — продашь дороже, а дроби и пороху дам тебе, когда после повезешь меня дальше на север, к Тазовской губе…
Гумату охотно согласился. Данило насупился было, да начал расспрашивать про цены на пушнину и развеселился. У него одних белок оказалось до 8000 шкурок. В разговоре выяснилось, что олень ценится у них в 100 белок и больше, а у русских — 25-30 руб.
Из пятитысячного стада восемьдесят оленей нетрудно продать. А выйдет на ярмарку — на эти восемь тысяч скупит чуть не всю факторию и опять будет продолжать продавать втридорога беспечному и незапасливому самоеду… Несколько лет не выезжал Данила на торговлю, а еще и мука-крупчатка и чай лучшего сорта есть.
Много народу понаехало к Даниле, но на ночь уходили спать кто к работникам в чум, а кто к Никите. Вечером приехала молоденькая дочка Данилы с двумя прехорошенькими детьми. Меня поразило грустное выражение ее миловидного личика. Оказывается — вдова. Приласкала я ее, а она и расплакалась.
Всхлипывая, рассказала свое горе. Муж ее умер месяцев восемь назад, а она вместе с детьми, которые, собственно, и являются наследниками состояния, перешла к младшему брату мужа Оптаку во вторые жены. А Оптаку только что перед тем женился, взял себе в жены толстую самоедку и доволен. Вдову брата терпит как необходимость, молодая же его жена житья не дает, и бедная не знает, куда деться:
— Уйди от него, — советую я.
— А дети? Оптаку их не отпустит, оленей-то у них много, ему невыгодно, а у меня ничего нет…
Обращаюсь к Даниле…
— Ничего нельзя. Такой уж закон у нас, — отвечает он.
Что делать? Чем помочь? Невеселым мне показалось гостеприимство Данилы Касаткина. Хоть и положили меня на пуховую постель, все же долго не могла заснуть. Да и метель разбушевалась, ветер с визгом и воем набрасывается на чум, будто желая снести его. Чум трещит, но держится крепко.
Самоеды-бобыли
После Данилы Касаткина больше недели ездила по беднякам. Вблизи богача живут да рыболовством промышляют. У некоторых то отец, то сын пасти стадо к Даниле уходят — выгодно: оленей десять в год заработают да одежду кое-какую…
Дни стоят совсем короткие, но ясные. Солнышко на час чуть поднимется над горизонтом, да и спрячется; лишь обе зари разом пожаром охватят небо да позолотят тундру косые лучи солнца — и снова ночь.
Пока светло — еду, вечером приезжаю в чум, наутро измеряю и снова дальше, снова бесконечные дали, широкие горизонты. И вдруг тундра неожиданно сменилась густым, дремучим лесом.
— Катути — ейдяха, — говорит возчик. Катути — река, приток Пура.
Олени вязнут в глубоком снегу, с трудом пробираясь среди кедров и березняка к реке. Раза два останавливаемся — самоеды срубают деревья с дороги. Наконец, спустились на реку.
На высоких, обрывистых берегах стоит, как в сказке, зачарованный, засыпанный глубоким снегом лес. Сквозь сучья кое-где пробирается луч солнца и бриллиантами играет на лохматых ветках. Тишина. Только бег оленей да скрип полозьев по мерзлому снегу нарушают безмолвие. Не верится, что действительно едешь по местам, где русский человек не бывал никогда…
Но вот пологий берег, и струйка дыма потянулась над лесом, — это чум. Поднимаемся на берег… Встречают трое мужчин и мальчик. Двое еще молодые, но все с бледными, угрюмыми лицами, в грязной и рваной одежде. Чум — дырявый, отовсюду сквозняк.
— Пушя куны? (Женщины где?) — спрашиваю.
— Дику (Нет), — отвечают.
Удивленно расспрашиваю. У старшего года два назад умерла жена, остался сын девяти лет. А у трех холостых братьев нету оленей, чтобы заплатить за жен. Один ушел к Даниле на заработки, а остальные здесь рыбу да белку промышляют. Из посуды у них — только котел, даже ведра нет.
— Все было, — говорит вдовец, — да с женой в могилу положили, ей принадлежало. Не дать — нельзя, там ей понадобится, еще вернется с того света…
В могилу с покойниками лесные самоеды кладут личное имущество умершего. Для бедных семей этот обычай очень разорителен.
— А сестер-то нет?
— Была одна, да вот еще девочкой обменял ее на жену свою, — указывая на старшего, говорит другой брат, — а больше нет…
Я поясняю, что жениться теперь можно и без калыма.
— У нас нет такого закона. Да и как без калыма? Ничего не заплатишь, и жена ничего не принесет с собой, а у нас тоже ничего нет…
Так и живут бобылями, без женщин…
Припасы мои быстро приходили к концу. Но еще оставалась гречневая крупа — размазня. Я ее не пробовала варить у самоедов. Достала крупу. С интересом смотрят. Боюсь, понравится ли: нет ни соли, ни масла… Полный котел наварила каши. Уселись они около него, одна ложка нашлась, дала две свои, а мальчику положили в корытце отдельно, и он просто лучиной начал есть.
Едят сначала молча, медленно. Но вот постепенно лица розовеют, улыбаются. Чисто, даже котел выскребли. Веселее начали разговаривать, как наелись. Всю, что была, крупу оставила. Сама я только чаю напилась, даже от белок, предложенных моими возчиками, отказалась.
Написала хозяевам «нипек» — заявление в Сургутский РНК.
— У вас же есть пушнина, — говорю. — Сейчас она в цене поднимается, вот и заработаете себе.
— А как попасть? Хорошо, если Никита, сын Данилы, возьмет с собой. Оленей нет ехать, а Сургут далеко.
Один из моих спутников уверяет их, что Никита возьмет.
— Он добрый, не то, что старик Данила.
— Да и мать его помогает, — хвалит хозяин добрую жену Данилы, — вот малицу и пимы подарила сыну…
На ночь не остаемся: нет корма для оленей. Едем дальше. Лес еще красивее при лунном свете, но сказка кончилась. Осталась лишь нужда человеческая.
Новый год!
Последний день старого года. Новый 1925 год хочу встретить торжественно. Уже неделю кочую с семьей Гумату в тундре между средним течением р. Пура и Таза. Русские здесь «понт дику» (никогда не были), как говорит моя приятельница, первая жена Гумату, самая чистоплотная из всех пян-казовских самоедок, с длинными черными косам ниже колен. Она полная хозяйка в чуме, даже Гумату ее побаивается и слушается.
В чуме у нее чистота, котлы всегда моются, вычищенные поднос и медные тазики блестят, рухлядь у стены чума прибрана, открытые от шкур места всегда посыпаны чистым снежком. Она не только сама моется каждый день, но и Манкыля, сына второй жены Гумату, моет, и четырехлетний малыш каждый раз после мытья подбегает ко мне и показывает свои пухлые чистые ручонки. Я целую его, но, увы, уже нет ни сахара, ни конфет, чтобы поделиться с ним. Осталось только то, что берегу к встрече Нового года.
— Подожди, Манкыль, сегодня сахар получишь, — говорю я ему по-
самоедски.
Сегодня выехала рано. Мороз только 34° по Реомюру, но начинается ветер. Едем на север. Местность холмистая. На склонах редко-редко маленькие, искривленные лиственницы. Ледяной ветер пронизывает, несмотря на меха; порывы его временами замедляют легкий бег оленей. Вот исчезают последние деревца. Кругом тундра, как море, с застывшими волнами — сугробами снега.
Ветер усилился, поднимает мелкую снежную пыль, колет лицо, дыханье захватывает. Небо темнеет и скоро в бешеном вихре сливается с тундрой, точно не хочет пускать нас дальше. Но мы все же упрямо движемся вперед. Переглядываюсь с Гумату, и оба весело, звонко смеемся: уж очень потешны наши оледеневшие лица…
Остановились на озерке. Буря утихла, и на западе алела узенькая полоска зари. На ее фоне четко вырисовывались силуэты оленей, после распряжки быстро отбегавших в сторону. Поставили чум, и скоро весело запылал огонь — бревна везли с собой.
Вымылась перед костром, одела новый белый свитер и уселась на свою постель расчесывать волосы. Не тут-то было: с волос сыплются хлопья снега — села слишком далеко от костра, и мокрые волосы моментально покрылись инеем. Пришлось подвинуться ближе и сушить волосы у огня.
Маленький, но старый кедр воткнули прямо в снег перед костром. Я прикрепила к нему огарки — свечей давно уже не было. Достала специально сохранявшиеся к этому случаю коробку печенья, плитку шоколада, чай и полбутылки красного вина. Была целая бутылка, да замерзла, пробка выскочила, и часть вина пролилась.
Устроила на чемодане, покрыв его белой бумагой, «стол». Всех нас в чуме было девять человек. Манкыль, тоже вымытый, выспавшийся за дорогу, сидел рядом со мной. Зажгла «елку», разлила всем в чашки понемножку вина, раздала печенье и по кусочку шоколада… И вот стрелки часов на руке показали двенадцать. Я встала, и Гумату, как мы раньше уговорились, начал ударять по подносу. Все за мной подняли чашки с вином. Вот двенадцатый удар…
— С Новым годом вас поздравляю! — сказала я торжественно по-русски.
Ничего не поняли, но все выпили с удовольствием. Налили хорошего душистого чая и моментально уничтожили печенье…
Мужчины пошли закалывать оленя. Я вышла вслед за ними. Мороз усилился. На севере горело яркое сияние, потухая и снова вспыхивая. Зеленые волны таинственного света заливали тундру, тревожа ночь… Мысли неслись к Ленинграду, вспоминались родные, друзья…
Принесли свежее мясо и кровь в чум. Началось обычное пиршество. Даже я съела кусок сырого оленьего мозга — «кайму», из ножных костей оленя; вкусно, как свежее масло. Живописная группа самоедов с вымазанными кровью лицами и рядом догоравшая «елка» — своеобразная картина встречи Нового года в тундре…
Наутро не поехали дальше. Прибежал Качу, родственник Гумату, и громким шепотом произнес:
— Нум-ты! (Дикие олени!)
Сразу смолкли громкие разговоры, Гумату и Качу поспешно одели свои широкие и короткие лыжи, схватили винтовки и понеслись в тундру. Гумату недаром славится как меткий стрелок — наповал с одного выстрела убил оленя.
Вернулись они запыхавшиеся, но довольные и сияющие. Быстро запрягли нарту и поехали за мясом. Смотрю, хозяйка стала расчищать снег на священном месте «син» и приподняла покрышку чума. Оказывается, мясо дикого оленя не вносят в дверь чума. Может кровь накапать, а олень дикий священен и кровь его топтать нельзя, особенно женщине — заболеть может.
Когда привезли оленя, уже разрезанного на куски, все высыпали из чумов навстречу, поставили нарты рядом со священными нартами и начали кланяться, по обыкновению, оленьему мясу. Затем куски мяса протаскивали в сделанное в стенке чума отверстие и клали на «син», часть положили варить. Ели, сидя на корточках, и после еды все, даже женщины, тут же мыли руки, а стружки, вытерев ими руки, бросали в огонь. Настоящий праздник получился.
Гумату и Качу оживленно рассказывали об охоте, вспоминали охотничьи подвиги, сказки рассказывали. Мне тоже было приятно отдохнуть от постоянной езды. Удачная охота развлекла и меня.
Новый год! Теперь скоро весна, скоро и встреча с русскими.
«Куропаткин чум»
Наступил март. Работа среди самоедов закончилась. Еду Тазовской тундрой к русским, в Хальмер-Седе — есть такое местечко за Полярным кругом, на берегу Тазовской губы. Туда пароходом раз в год привозят партию русских на рыболовные угодья Обтреста и оставляют до следующей осени. Назад я решила возвращаться по прибрежью Обской губы в Обдорск, а не в Сургут. Тороплюсь ехать, так как боюсь, что не смогу добраться до распутицы в Тюмень, а от Обдорска до Тюмени нужно сделать на лошадях 1800 верст.
Везут меня теперь тазовские самоеды-юраки. В условленных местах самоеды сменяют оленей.
Мучит жажда. Второй день без воды, чумов нет, а снег не помогает: сколько его ни глотай, все пить хочется.
Возница говорит, что больше смены оленей не будет. Поэтому ночью остановились — нужно, чтобы олени отдохнули. Покорно соглашаюсь, хоть и хочется поскорее добраться до русских. Мороз ниже 40°, ртуть давно замерзла.
Место для ночлега выбрали среди немного холмистой тундры, нигде ни деревца. Очень хочется пить. Скатываю снежные шарики и глотаю. Один самоед немного говорит по-русски.
— А где же спать будем? — спрашиваю.
— В «куропаткином чуме», — отвечает он и смеется.
«Куропаткин чум» — это жилье белой куропатки — снег.
Постелили мой брезент на снег, положили на него оленьи шубы. Я улеглась прямо в одежде, меня сверху закрыли шубами, собранными мною для музея, а затем… засыпали снегом.
Попросила только не зарывать голову.
— Озябнешь, под снегом теплей будет, — уговаривают меня.
Но я не могу, как-то неприятно думать, что будешь совсем зарыта…
Товарищей же своих самоеды зарывают целиком, а последняя парабудет спать «валетом», ноги друг другу в шубы.
Проснулась ночью, озябла почему-то одна нога. Приподнялась. Кругом широко расстилается тундра, вся освещенная ярким северным сиянием.
Утром решили, что я поеду на легкой нарте, иначе еще лишний день нужно будет ехать, а обоз мой придет позже.
Олени раскопали снег, ища себе корма. Мои подводчики решили развести костер из низеньких ползучих березок. На растопку пожертвовала одну берестяную коробочку из своей коллекции. Увы, пока горела коробочка — и огонь горел, а потом сырые сучья не разгорались. Но все же удалось в чайнике растопить немного снега. Мне досталось полкружки воды.
Выбрали четверку сильных оленей, остальных оставили пастись. Уселись мы на маленькой нарте вдвоем с возницей, еле поместились, и помчались на север.
— К русским! Сегодня я буду уже в настоящем доме!
От ожидания скорой встречи я даже меньше ощущала холод. Олени быстро неслись, тундра горела на ослепительном солнце, полозья кричали «домой, домой». Ничего, что еду в незнакомые места, все же к своим, к русским еду. Здесь каждого человека встретят с радостью.
Главное, зима позади. Впереди столько света, тепла и солнца!..
Об авторе. Митусова Раиса Павловна (1894-1937), этнограф. Окончила Петроградский университет, работала в этнографическом отделе Русского музея. В 20-е годы совершила несколько поездок на Тобольский Север, вела этнографические и антропологические исследования среди хантов бассейна реки Аган и лесных ненцев, собрала коллекции предметов быта этих народов, хранящиеся в музее этнографии в Санкт-Петербурге. В 1930-е гг. работала директором и научным сотрудником Кемеровского краеведческого музея. В 1937 г. была арестована и расстреляна. В 1957 г. реабилитирована.