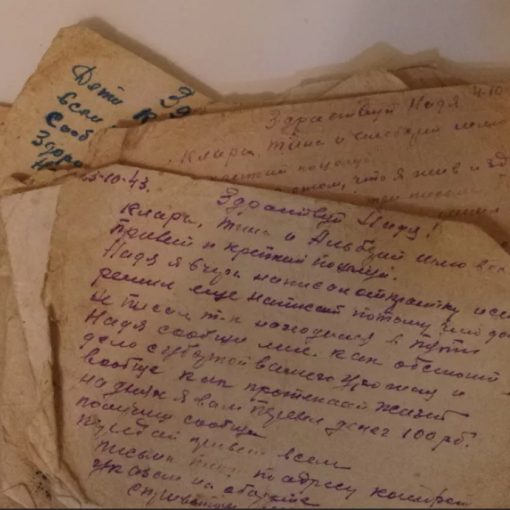Юрий Громов
Давно это было. Как-то ранним утром я отправился в лес по грибы. Солнце уже успело зацепиться за макушки кедров, стройных корабельных сосен. Долго блуждал среди стволов, оставляя на росистой траве следы. Красота. Лукошко, уже давно наполненное крепкими ядреными грибами, приятно оттягивало руку — но своя ноша не тяжела. Спасибо природе за ее дары.
Сориентировавшись по сучкам деревьев (они длиннее и гуще с южной стороны), вышел на опушку леса. Остановился, огляделся, прислушался.
Слышу, откуда-то из-за кустов можжевельника, рукой подать, доносится тонкий свист косы. «Вжик-вжик», — пела, выговаривала она, как бы подбадривая невидимого еще косаря. Прибавив шагу, иду на звук. И вот на маленькой поляночке вижу малорослого, щуплого мужчину. Он ловко и привычно орудовал косой, Присматриваюсь. На первый взгляд — это подросток, но тут же отгоняю эту мысль. Косарь- то ко мне спиной, поди узнай, кто это?
— Труд на пользу, — приветствую трудягу. Но в ответ лишь слышится — «вжик-вжик». Как будто и нет меня, и приветствие не принято, игнорируется. Обиделся я на незнакомца.
Но вот он, не оборачиваясь ко мне, неспешно взял из валка клочок травы, привычным движением протер жало косы, аккуратно отложил свое орудие, а затем тихим голосом ответил:
— Труд, мил человек, и рожден для того, чтобы хлебушко свой добывать в поте лица.
Я растерялся, просто онемел, Мой язык как бы прирос к нёбу. Ба-а, так ведь передо мной, совершенно слепой человек. Его глаза закрыты, как будто он спит… Из шокового состояния меня вывел приятный голос незнакомца:
— Никак удивлены? — словно прочитав мои мысли на расстоянии, поинтересовался косарь. Он ждал, что я отвечу, но я продолжал молчать:
— Так вот, я и говорю, — во второй раз вывел меня из задумчивости и растерянности старик. — Не удивляйтесь моей судьбинушке, так видно было на роду написано, чтоб я вот эдак-то боле сорока годочков прожил. Приспособился. Если времечко есть, то прошу покоротать чуток со мной, — старик прихлопнул рядом с собой по валку травы каждой рукой: — Падай, — и улыбнулся, блеснув ровными белыми зубами.
Я расположился рядом. Закурили, помолчали. Пыхнув сигаретой, Илья Петрович Пухленкин — так звали слепого косаря — спросил:
— Никак грибник?
— Ох, и не говорите, стыдно признаться в этом: в лесу бываю как дома, а тут что-то нашло на меня — заблудился.
— Бы-ва-ет.
— Простите за нескромность, вы один сюда пришли?
— Само собой.
— А что с вами произошло?
— Война.
— Илья Петрович, извините, если вам это не в тягость, расскажите, пожалуйста, как все это случилось? — попросил я.
— Коль охота — слушай. Когда началась Отечественная, я служил в милиции рабочего поселка Ханты-Мансийска. Так вот, несколько раз пытался пойти добровольцем, но получал отказы: я же был на брони. Но как бы то ни было, добился своего.
Прибыв на передовую, тут же попали, как говорится, с корабля да на бал. Заняли окопы, ранее подготовленные народным ополчением, и не успели как следует обжиться, как по цепочке передают приказ: «Приготовиться к контрнаступлению…».
— Жду, — продолжал, зажав цигарку в руке, рассказчик, — проверил боеприпасы, передернул затвор трехлинейки, подсчитал гранаты, патроны, а выдавал их старшина в ту пору строго по счету. Одним словом, получалось, что боеприпасов кот начихал. Волнуюсь, как перед первым свиданием с будущей женой. А команды «вперед» все нет и нет.
И вот наконец-то мы дождались приказа о наступлении: «Танки пропустить в тыл, их там встретят, а пехтуру фрицев отрезать и косить». Прет на нас громадина железная, гудит и гремит, а за ними с пьяными харями фрицы с автоматами на пузе: орут по своему, видно, для храбрости подбадривают себя.
Фашисты опередили нас, пошли сами в наступление. Выскочили и мы из окопов и вперед: «УРА-УРА!!» У них автоматы, а мы с винтовочкой времен царя Гороха… Я себе присмотрел верзилу и уже готов с ним в рукопашной пообниматься. Не заговорил я тебя? — прервал он свои воспоминания.
— Нет, что вы, слушаю…
— Так вот. Пошебуршили незваных гостей. Много их на веки вечные осталось гнить на нашей земельке, да и наших уйма полегла. Но зато мы их вышибли на приличное расстояние.
В тот же день после боя нас отвели во второй эшелон для «зализывания» ран, пополнения живой силы и техники, а заодно и передохнуть.
…В августе сорок второго мы снова заняли окопы на передовой. Немчура отдыхает после трепки, готовятся к будущей вылазке, злятся, что русские иваны погнали их от Москвы, А мы уже знали, что готовится большое наступление по всему фронту, и тот бой был просто разведкой. Ведь солдаты народ дотошный, все разнюхают. Прошел день, другой — тишина. Ни мы, ни фрицы не стреляем.
— На следующий день пополудни мы пошли в наступление. Танки вперед, а мы за ними, как за каменной стеной — бежим, едва поспеваем за техникой. И что тут было. Немецкие танки боятся тарана, а наши прут дуром и прямо в лоб, на таран. А мы — пехота на пехоту, озверели, одним словом. Не знаю, сколько я продырявил немчурят, но сам пока даже не поцарапан. И вот, когда увлекся боем и ни о чем больше не думал, вдруг и меня зацепила нелегкая, Шибануло крепенько, голова аж загудела, трехлинеечка из рук выпала, как будто кто ее силком вырвал.
Чувствую, побежала по лицу моя кровушка. И вдруг понял, что слепну. Да и ноги плохо держат, подгибаются, стали как ватные. Из последних сил держусь, чтоб не упасть. Закрыл лицо ладошками, а они все в крови. Вот и все, думаю, пришла за мной старуха с косой, и упал на землю-матушку. Не знаю, долго ли так я пролежал, — старик замолчал. Он долго чиркал спичками, но они ломались. Наконец, прикурил.
— О том, как меня подобрали санитары и переправили в полевой госпиталь, а затем в тыл, я узнал позже, долгое время был без сознания. Проснулся, чую, моя головушка перемотана, вдоль и поперек бинтами, слышу, разговор молодых солдат: ощупал себя под одеялом: ноги, грудь — кажется, цело все, кроме глаз; чую ласковое прикосновение рук сестрицы.
«Что, проснулся, касатик? — слышу голос пожилой женщины. — «Где я?» — интересуюсь. — «В госпитале. Дело, стало быть, пошло на поправку, коль заговорил. Две недели здесь лежишь и все без сознания. Операцию сделали, и ты даже не проснулся…»
Нянечка Нина, как она назвала себя, подоткнула мне под бок одеяло, поправила подушку и так это все ласково со мной говорит и говорит. От того так мне сделалось легко на сердце, что тут же уснул. Проснулся на следующий день, слышу, что мои собратья по несчастью ругают какого-то молодого красноармейца: «…Подумаешь, нога, да ее тебе смастерят новую, плясать с девицами будешь. Не хнычь. Бери вон пример с солдата. Привезли без сознания, контуженного, тяжело раненного, слепым наверняка останется на всю жизнь, и то не хнычет. А ты!..»
Вот оно что?! Значит, судьба сыграла со мной злую шутку… И пошло- поехало. Около десятка операций провернули мне, уж и со счета сбился, и все напрасно.
Прошел последнюю медкомиссию, тут-то меня и комиссовали. Дали пожизненно первую группу инвалидности. Из Красноярска до Самарово сопровождала молоденькая сестрица. Перед выездом она подала моей благоверной телеграмму, чтобы встречала нас. Но в то тяжкое время людей на почте не хватало и телеграмма пришла с запозданием, Мы с Полиной сидим уже дома, а Зинушка моя мечется на дебаркадере. Спасибо добрым людям, кто-то ей подсказал, что видели меня.
Ну, встретились, поплакали, не стесняясь слез своих, и начали жить. Помню, дочурка моя Любашка сидит на коленях у меня и лопочет: «Папа, папа», а я ее, касатушку, только и смогу что руками посмотреть. По личику поглажу — вот и все… А сколько своей Даниловне понаделал греха: то уроню кружку с чаем, аль разобью тарелку. А она, умница, не подает виду. И только меня все успокаивает. Зато ночью слышу, как она обливается слезами, уткнется в подушку, чтобы меня не разбудить, а я не сплю, все слышу. Вот так и начали жить…
Поднаскребли деньжонок, купили сруб, поставил свой домишко. Спасибо, милиция помогла, как ветерану. Помог материально и горком партии. Все ж я коммунист, партбилет получил в сорок первом прямо в окопах. Взносы плачу регулярно.
Семья наша прибавилась: Зинушка подарила мне еще дочерей да сына. Вывели их в люди. Теперь у нас одиннадцать внуков. Приобрели скотину: буренку да лошадку. Одним словом, живем не хуже людей. Прощаясь, Илья Петрович пригласил меня в гости, дал адрес.
…Прошел год. Забегался, закрутился, но все же вспомнил своего нового приятеля, Пошел навестить его, посмотреть, как же живет ветеран войны, инвалид первой группы? На пороге меня встретила хозяйка дома Зинаида Даниловна. Интересуюсь, как живы-здоровы ветераны, могу ли увидеть хозяина. А она с улыбкой и отвечает:
— Да вы что, его же, непоседу, дома не застанешь. Никак управляется в стайке.
Выхожу во двор — так оно и есть. Илья Петрович работал, ловко орудуя вилами: зацепит навильник навоза – и в ванну.
Я был поражен. Стою молча, наблюдаю. Но Илья Петрович почувствовал взгляд:
— Ты что ли, Зинушка?
— Да нет, Илья Петрович, это я.
— Никак грибник припожаловал?
— Он самый.
— Заходи в дом, гостем будешь, Я сейчас, сию минутку.
И вот мы сидим в светлой уютной передней, ведем беседу…
Хозяева доброжелательно отнеслись к моему приходу, вспоминают прошлое, перебивают друг друга.
Наблюдая за ними, подумал, что вот они полвека живут и не унывают. Зинаида Даниловна из тех женщин, о которых писал Некрасов: «…коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Да, это настоящая русская женщина, на которых и держится Русь.
— Зинаида Даниловна, скажите: а как вы скирдуете сено?
— О-о, здесь уже командир я, — улыбается она. — Ведь детушкам-то не всегда приходится к нам приехать и помочь в страду. Вот вдвоем и мыкаемся, но справляемся. Я стою на стогу, Петрович подает мне навильник, а я командую: «Влево-вправо». И получается… Глядишь, один-другой стожок сенца и стоит. А так-то мой Петрович мастак на все руки, в его руках и снег горит. Да уж об этом он сам и расскажет.
Не случайно тогда, при нашей первой встрече, фронтовик сказал, что человек и рожден для труда. Прав, ой как прав ветеран войны Илья Петрович.
1991