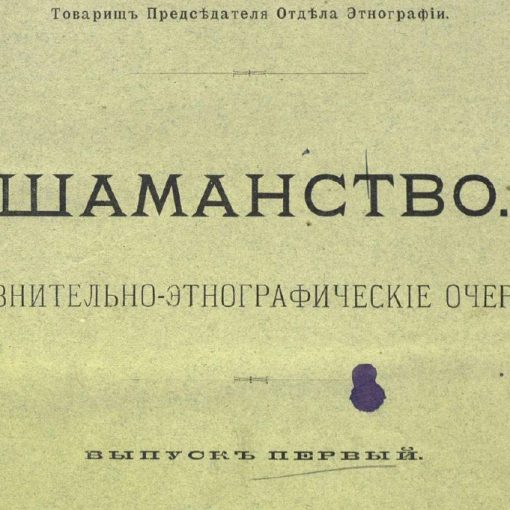Начальный этап смены культурных эпох, отчетливо наметившийся к рубежу XVI и XVII столетий, совпал с экстремальной ситуацией времен Смуты. В дальнейшем одним из достаточно заметных проявлений процесса культурной переориентации стал период «нестроений» в русской церковной жизни, сопровождавшийся ростом религиозного индифферентизма, на почве которого возникали духовные искания, нередко приводившие к отходу от общепринятых норм православия. На восточных окраинах страны, где позиции церкви на протяжении всего XVII в. были достаточно слабыми, а пришлое население в значительной степени формировалось за счет ссыльных, в числе которых было немало иноземцев, как принадлежавших к неправославным конфессиям, так и вынужденных принять православное крещение, эта проблема стояла особенно остро. Не случайно в одной из патриарших грамот 1622 г., адресованных первому сибирскому архиепископу Киприану, специально обращалось внимание на тот факт, что «в сибирских городах многие русские люди и иноземцы, литва и немцы, которые в нашу православную веру крещены, крестов на себе не носят, постных дней не хранят» и совершают иные бесчинства.
Представители светской власти в Сибири были в решении вопросов религиозного благочестия плохими помощниками тобольскому владыке. «Ведомо нам учинилось, — говорилось в царской грамоте, отправленной в том же 1622 г. верхотурским воеводам И.П. Пушкину и Д.И. Зубову, — что в сибирских городех служилые и всяких чинов люди в духовных делех богомолца нашего архиепископа Кипреяна и его десятилников слушати и под суд к нему ходити не хотят, и научают меж себя на архиепископа служилых и всяких чинов людей во всех сибирских городех шуметь, а вы, воеводы, им в том потакаете».
В этой связи заслуживает интереса характеристика взглядов А.Ф. Палицына, занимавшего в конце 20-х — начале 30-х гг. XVII в. должность второго воеводы в Мангазее. Являя собой, по определению С.В. Бахрушина, тип «своеобразного представителя московской интеллигенции начала XVII в. — интеллигенции, которая только зарождалась и умственные запросы которой были пробуждены событиями Смуты, А.Ф. Палицын был склонен к религиозному вольнодумству. «Не по одну пору говорил он многие слова, пристойные к ерести», утверждая, в частности, что спустившийся в ад Христос «всех свободил, и не осталось де во аде никто после воскресения Христова, и еретикам де и богохулникам муки не будет; бог бо в славе божества своего явися многим, и ангелам, и простым людям являлся». Нарушая устоявшиеся правила религиозного быта, Палицын «пил табак», долгое время не имел отца духовного, причащался не постясь, пел у себя в избе молебны без попа, сам при этом читал Евангелие и кадил образа. Привлекало его и чернокнижие, о чем знали многие. Недаром первый Мангазейский воевода Г. Кокорев, являвшийся его непримиримым врагом, угощая служилых людей конфискованным у Палицына вином, велел лить в него святую воду, «бояся от Андрея Палицына кудесу, чтобы служилых людей не смутить». А один из приятелей Палицына признавался: «…и сами де они того видят, что Андрей обошел их бесовским волшебством, своею ересью, не ведают де, что и делают».
Впрочем и клирики, даже из ближайшего окружения тобольского владыки, не отличались особым религиозным благочестием. Так, в 1623 г. священник Софийского собора Яков, подравшись со своим тестем, воскресенским попом Алексеем, и «побояся того, чтоб его в той драке не убили до смерти», «затеял» дело — стал «упрекать» Алексея в «порче» патриарха Филарета. А тот, в свою очередь, обвинил своего зятя в том, что он «хвалитца убить до смерти его, Олексееву, дочь, а свою попадью, и скуфью де он с себя хочет скинуть, и изодрал на четверо, и платье свое поповское переделывает по-дворянски. Да тот же поп Яков держал у себя под постелею понагею и на ней спал, и ногами стоял. Да он же приносил к себе на подворье крест золот с мощами, а сказал, что будто он тот крест взял» у самого архиепископа Киприана. «И сказывал в том кресте часть ризы Христовы. И тот крест носил на себе в нечистоте». Поскольку накануне поп Яков вместе с ризничим Феодосием, монахами Христофором, Андрианом и Аврамием, подьячим Михаилом Горяиновым и посадским человеком Петром Щепоткиным обвинил архиепископа Киприана в «духовном великом деле», его, как и остальных изветчиков, владыке, собравшемуся ехать в Москву, велено было взять с собой.
Сумев каким-то образом избежать сурового наказания, Яков «на Москве жил без места год», после чего решил самовольно вернуться в Тобольск, однако на Верхотурской заставе был остановлен. При обыске у него нашли «в коробье траву багрову, да три корени, да комок перхчеват бел». Во время допроса Яков дал письменные показания, что получил все это от тобольского казака Степана Козьи Ноги. В соответствии с царской грамотой от 13 октября 1625 г., «того попа Якова и коробью, что у него вынято с воровским кореньем», отослали в Москву, в Приказ Казанского дворца.
Следует отметить, что в борьбе с религиозным инакомыслием светские и церковные власти проявляли определенную непоследовательность и нередко обвиняли в ереси даже тех, кто лишь посягал на незыблемость традиции. В этом отношении весьма показательна судьба известного писателя первой половины XVII в. кн. С.И. Шаховского, который в связи со сватовством в 1644 г. датского королевича Вольдемара к царевне Ирине Михайловне письменно предложил ввести его некрещенным по православному обряду в церковь. В качестве наказания за это Шаховского послали на воеводство в Усть-Колу, затем перевели на Устюг Великий, а оттуда — в Сольвычегодск. По возвращении в Москву Шаховской вновь напомнил о своем письме. Дело возбудили вторично. В итоге князя обвинили в еретичестве и приговорили к сожжению, но помиловали и в 1649 г. «послали в Сибирь в опалу в Томской город», откуда он сумел вернуться в Москву только в конце жизни.
В связи с этим уместно будет вспомнить справедливое высказывание С.М. Соловьева: «Слово ересь в то время имело обширнейшее и часто превратное значение, ибо значение религиозное, вечное, неизменяемое, божественное придаваемо было и тому, что не имело ничего общего с ним, придаваемо было форме, внешнему, изменяемому; то, что в самом деле было ересью, какое-нибудь неправильное, нелепое толкование места св. писания, основанное на непонятном, искаженном месте церковного писателя, не казалось ересью; но страшной ересью являлось нарушение принятого, освященного древностию обычая».
В подобной обстановке обвинения в ереси могли стать неплохим источником дохода для беззастенчивых шантажистов, примером чему служит случай с чернецом Нижегородского Духова монастыря Павлом Коровкиным (в другом документе он назван Коровником), который в 1622 г. «продавал нижегородцов посадцких лутчих людей, затеев воровством ересное дело». Судя по всему, эго был профессиональный вымогатель, который еще до своего пострижения «приставливал» к своим землякам-балахонцам «посадцким людем во многих напрасных искех для своей безделные корысти… рублев в петинатцати и в дватцати, и мирися на рубле и на полуторе. И за воровство многажды был пытан и кнутом по торгом бит, и из города з Балахны збит. И после того в чернецах, живучи на Москве, многих же людей клепал воровством и продавал напрасно. И за воровство посылан тот чернец Павел в смиренье в Горитцкой монастырь. А велено ему в ножных железах работать на братью чорную работу. И тот чернец Павел из Горитцково монастыря из желез ушол и пришол на Балахну, и на Балахне и в Балахонском уезде своим воровством затеев в мире смуту великую». В 1625 г. за все эти «деяния» Павел был сослан в Тобольск. По прибытии чернеца архиепископ Макарий «велел ево послать в Знаменской монастырь к архимариту Макарию. И велел ево держать под началом и быти в черной службе в работе, и велел ево беречь накрепко, чтоб из монастыря никуды не ушол и дурна бы над собою никаково не учинил».
Не менее колоритной фигурой был подьячий Дружина Федосеев сын Ильин по прозвищу Кривошея. Еще в 1615/16 г. он вместе с Иваном Михайловым сыном Хрипуновым был дозорщиком вотчины Чудова монастыря в Костроме. Впоследствии за подделку документов и другие проступки его отставили от службы и сослали в сентябре 1627 г. в Соловецкий монастырь с повелением «за многое его воровство постричь и держать в ряду з братьею». В монашестве он получил имя Ефрем. Но не прошло и года, как от соловецкого игумена Макария «з братьею» в Москву поступила жалоба: «…тот де чернец Ефрем Кривошея в монастыре у них учал воровать — грамоты пишет немецким и полским языком, и иные грамоты и языки, сказывает, разумеет многие, и в монастыре великие смуты и вражды и мятеж меж братьи чинит, и уграживает им всякими стотьями. А которые опальные и иные люди по государеву указу посланы к ним в Соловецкой монастырь в государевых делех, иноземьцы и руские люди, и те опальные люди к нему, чернцу Ефрему, учали приставать. А место у них украйное. А того чернца Ефрема от воровства унять им немочно».
По царскому указу Ефрема Кривошею отослали «в Мангазею, в Тазовской город в монастырь», где он находился под усиленным надзором. Но и в Мангазейском Троицком монастыре Ефрем не ужился, в результате чего его перевели в Туруханское зимовье, где он содержался за счет мира и церковного прихода. За два года пребывания здесь склочный монах сумел перессориться со всеми. В своих жалобах на него в Москву жители Туруханска обвиняли его в многочисленных «поклепах» и «доводах», в постоянном на всех «ябедничестве» и угрозах (так, например, Ефрем говорил туруханцам: «Как де пущу беса в пазуху — лихо будет выживать!») и даже в истязаниях и убийстве в своей «келье» десятилетнего «купленного» якутского мальчика Христофора. Ссыльный старец, в свою очередь, обвинил туруханский мир и его церковного старосту Леонтия Иванова сына Толстоухова в том, что в местной церкви на аналое не было иконы Алексея человека Божия — патрона царевича Алексея Михайловича, а среди церковных книг находился Служебник литовской печати. Занимавшийся в 1634 г. этим делом Мангазейский воевода Г.Н. Орлов сам стал жертвой обвинения в «слове и деле» со стороны Ефрема Кривошеи, лживость которого была быстро доказана. В результате воевода заключил старца в тюрьму, мотивируя это тем, что от его происков «от часу воровства прибавливается», а на всех людей он своими «затейными словами и продажами» навел «страх и ужас великой».
Весьма показательным в приведенных выше материалах является то обстоятельство, что Ефрем Кривошея ставил в вину туруханцам хранение в церкви Служебника литовской печати. Причина этого заключалась не только в общей подозрительности побывавшего в польском плену патриарха Филарета по отношению ко всему, что проникало в Россию из-за западного рубежа, но и в конкретных событиях второй половины 20-х гг. XVII в., связанных с осуждением Евангелия учительного Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, которое было признано московскими экспертами-богословами еретическим. В результате этого в конце 1627 г. был обнародован указ царя и патриарха не только о розыске, отобрании и публичном сожжении ходящих по рукам «книг учительных и Евангельев архимарита Кирила Транквилиона Ставровецкого», но и о запрете под страхом сурового наказания покупать любые «литовские книги».13 В числе прочих соответствующие указные грамоты об этом были посланы в Тобольск, Верхотурье и другие сибирские города.
Отголоски этих событий нашли свое отражение в деле о вологодских еретиках. Началось оно в июне 1628 г. «по отписке и по роспросным речем», присланным в Москву вологодским и великопермским архиепископом Варлаамом. Как было установлено, в Вологодском Ильинском монастыре «объявилися в воровском вь еретическом деле … прихожие чернцы Ондреян с учеником своим с чернцом сь Яковом». Им удалось совратить в свою веру местных жителей — попа вологодской Никольской церкви Ивана Филимонова и подьячего съезжей избы Аггея Семенова. Их «воровство» и «еретичество» заключалось в следующем: чернец Андриан утверждал, «бутто он …приял Дух Святый и Бога видит на небеси безпрестанно во всей славе»; кроме того, он «с своими советники… противляся божественному писанию святых апостол и святых отец», еретика Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, «которого слогу книги печатные сожжены, похвалял и называл ево святым: бутто он Дух Святый принял так ж как и он, еретик чернец Ондреян, и бутто те книги сожжены не по делу. Да они ж, враги Божи, тот еретик Ондреян с товарыщи, Духа Святаго проповедали ложно — бутто исходит от Отца и от Сына, четверят Святую Троицу, разделяют Духа Святаго в два начала так ж как латыни — еретицы-папежницы».
По царскому указу «за то воровство и за ересь» Андриану и его товарищам было «на Вологде учинено наказанье и разосланы в розные монастыри под крепкие начала». В частности, чернеца Якова сослали в Вологодский Спасо-Каменный монастырь. Здесь его велено было «держати на чепи и в железех в великой крепости за сторожи» и регулярно приводить в церковь для покаяния. В феврале 1629 г. монастырскому начальству поступил на него письменный извет от «сибирсково попа Якова», из которого следовало, «что чернец Яков по-прежнему учителя своево еретика чернца Ондреяна во всем похваляет и воровством и еретичеством многие непристойные слова говорит». Сведения об этом были посланы в Москву. В результате по указу царя и патриарха решено было «чернца Якова из Каменного монастыря сослать в Сибирь, в Тоболской город, а в Тоболском городе быти ему в Знаменском монастыре под крепким началом в монастырской в чорной службе». 4 мая того же года он в сопровождении тобольского сына боярского Ивана Астраханца прибыл в Тобольск.
В Тобольском Знаменском монастыре, куда был помещен вологодский еретик, находились в конце 20-х — начале 30-х гг. и другие ссыльные. Так, например, в 1627 г. здесь оказались бывший архимандрит Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Варлаам и его товарищ по несчастью чернец Евфимий. А в начале 1633 г. сюда из Соловецкого монастыря доставили еще одного монаха, о котором следует сказать особо.
Еще в 1630 г. в Соловки был прислан по царской грамоте из Приказа Большого дворца новокрещенный поляк Матвей Ондрановский, «а велено… его постричь». В иночестве он получил имя Малафей (Малахия). Новоявленный монах оказался человеком весьма беспокойным. Уже 1 августа 1632 г. игумен Макарий «с братиею» жаловались на него царю и патриарху: «…живет де тот старец в монастыре самоволством, бесчинство и воровство чинит многое, а уняти его от воровства монастырским никаким смирением не мочно». Кроме того, Малафей завел себе друга — чернеца Митрофана. В монастыре этот человек появился при следующих обстоятельствах: в 1615 г., «как воевали литовские черкасы соловецкие промыслы», в Сумский острог «отъехал из литовских полков черкашенин, Михалком звали, а сказал, что он русской казак, родом черниговец». Вскоре по его челобитью соловецкий игумен Иринарх совершил над ним монашеский постриг и дал «имя ему в чернецах Митрофан».
Сойдясь с Малафеем Поляком, Митрофан стал с ним «жить советно и водитися тайно, и о всем про себя друг другу рассказали». Однако дружба их оказалась недолгой: 8 февраля 1632 г. Малафей, воспользовавшись откровенностью Митрофана Черкашенина, подал на него извет, в котором сообщил, что он — литовский уроженец, «а не русской казак», и что до своего пострижения «в православную и христианскую веру нигде не крещен». Допрошенный на монастырском соборе, Митрофан признался, «что уроженец де он литовского города Прилук, вотчины Збараского князя села Турбова, а живут де в том городе русь, крестьяне; а крещенья своего, как его крестили, не помнит». В свою очередь, Митрофан обвинил своего коварного друга в том, «что де он, Малафей, послан из Польши к Москве от отца своего для великого дела, и живет буттося он, Малафей, в том монастыре от королевича, и говорил многие слова дурные».
Изложив обстоятельства этого дела, игумен «с братьею» просили в своей челобитной избавить их от подозрительных чернецов, ссылаясь, как и в случае с Ефремом Кривошеей, на то, «что у них место украинное, порубежное» (следует помнить, что эти события происходили во время Смоленской войны). Идя им навстречу, царь и патриарх 16 ноября 1632 г. указали Малафея Поляка сослать в Тобольский Знаменский монастырь, а Митрофана Черкашенина — в Верхотурский Николаевский.
Оказавшись в Тобольске, Малафей Поляк, которого сибирские источники обычно именуют «ссыльным старцем Малахом», продолжал досаждать местным церковным и светским властям своими выходками. Так, например, «при архиепископе Макарье (умер в 1635 г. — А.Ш.) тот старец Малах в Софейском дому поваренную избу сжег». А в 1637 г. он подал извет «в воровском непристойном слове» на целую группу находившихся в тобольской ссылке «литовских» старцев. Главные обвинения выдвигались им против черного попа Знаменского монастыря Галактиона и келаря Аркадия, исполнявшего в тот период обязанности настоятеля, а также против «архиепископлих ссыльных старцов» Капитона и Михаила. В дело также оказались вовлеченными еще семь монахов «литовского» происхождения, живших в Знаменском монастыре. По утверждению Малафея Поляка, все они с презрением относились к православию, поскольку в душе оставались приверженцами «латинства». Так, например, когда в Тобольске стало известно, что русские рати двинулись под Смоленск, то в Знаменском монастыре молебнов о даровании победы православному воинству не вели, а в ответ на вопрос Малафея, почему это не делается, черный поп Галактион показал ему кукиш.
По царскому указу расследованием дела занимался тобольский воевода кн. М.М. Темкин-Ростовский, который «накрепко» пытал «ссыльного чернца Малаха» и доподлинно выяснил, что все это было затеяно изветчиком «напрасно». На основании такого вывода новый тобольский воевода кн. П.И. Пронский получил 24 декабря 1639 г. государеву грамоту с предписанием главного обвиняемого, «черново попа Галахтиона … свободить и велети ему в Тобольску в Знаменском монастыре быть по-прежнему. А ссыльного … чернца Малаха отослать в Знаменской же монастырь» и держать его здесь «под крепким началом в чорной работе». Однако 20 сентября 1640 г. от келаря Аркадия «з братьею» поступила «на тово ссыльново чернца на Малаха» челобитная с просьбой убрать его из монастыря. Светские власти пошли им навстречу: беспокойного старца «за ево воровство» велено было до царского указа «держать на архиепископле дворе в смиренье». А через несколько дней в воеводскую канцелярию поступила новая челобитная — теперь уже от приказных людей Тобольского архиерейского дома М. Трубчанинова и С. Есипова. В ней содержалась все та же просьба — забрать поскорее отсюда Малаха, пока он «Софейского дому не зажог и не покрал и иные какие пакости не учинил». После этого Малаха перевели в городскую тюрьму, а в Москву была отправлена соответствующая воеводская отписка. В конце декабря 1640 г. судьба «чернца-вора» была в Сибирском приказе решена: его предписывалось «сослать в Мангазею к Николе на Турухан и на Турухане велеть ему быть у церкви в пономарех и беречи ево, чтоб он с Турухана никуды не ушол».
В связи с делом, инспирированным в Тобольске Малафеем (Малахом) Поляком, необходимо развеять один историографический миф, возникший в результате высказанного А.А. Преображенским мнения, будто в опубликованной им отписке тобольских воевод в Москву от 27 декабря 1640 г. (на самом деле она была послана, как можно заключить из текста, в конце сентября, а 27 декабря, судя по помете, поступила в Сибирский приказ) «имеется прямое указание на то, что в Тобольске тогда находился в ссылке известный противник официальной церкви — Капитон, давший имя одному из сектантских направлений («капитоны»)». Следуя этой версии, В.С. Румянцева, занимавшаяся реконструкцией биографии Капитона, пишет, что в 1639 г. он «был взят под стражу и доставлен в ярославский Спасский монастырь, затем сослан в Тобольск, откуда совершил побег в родные края».
Между тем речь в документе, опубликованном А.А. Преображенским, идет о совершенно другом человеке. Как уже говорилось, им был ссыльный «литовский» монах Капитон, который служил в Тобольском архиерейском доме сушильным старцем. В этом качестве он упоминается в переписных книгах уже в 1636 г., т.е. задолго до того, как Капитон Колясниковский был арестован и доставлен в Спасо-Ярославский монастырь. Следовательно, «тобольский» эпизод из биографии знаменитого основателя «капитоновщины» нужно безоговорочно изъять.
В заключение необходимо сказать несколько слов о еретике Елизарии Гаврилове сыне Розинкове. В 1613/14 г. он был подьячим в Путивле, держал на откупе в Новгороде-Северском таможню и кабак, в 1624/25 — 1625/26 гг. вместе с кн. И. Волконским был писцом посада Вязьмы, в конце 30-х гг. XVII в. имел собственный двор в Москве. Однако в 1641 г. его за какую-то провинность сослали вместе с семьей в Красноярск,25 где он был поверстан в дети боярские. В 1649 г. священник красноярской Преображенской церкви Дмитрий Климантов подал воеводе М.Ф. Дурново извет на Розинкова с обвинением его в ереси. Во время обыска у него нашли две книги — Алфавит и Псалтырь московской печати. Именно эта Псалтырь и стала главной уликой при обвинении Розинкова в еретичестве. Как выяснилось, он ее «чернил … в Давидовых псалмах и в песнях пророческих во многих статьях, и приписывал», поскольку она, по его мнению, «была в речах неисполнена». Образцом Розинкову для «книжной справы» послужила «литовская Псалтырь».
Во время допроса воевода допытывался у Розинкова, с кем он «умышлял и сидел и думал — Псалтырь чернил и приписывал?» На это Елизарий отвечал, что исправления он делал самостоятельно, причем все «сложил по правилам святых отец, а расколу во Псалтыри никакова не сделал». По приказу воеводы исправленную Розинковым книгу вместе с его «распросными речами» отправили в Москву. Какова была дальнейшая судьба самого «вольного справщика церковных книг» (так Елизария Розинкова назвал Н.Н. Оглоблин) — неизвестно.