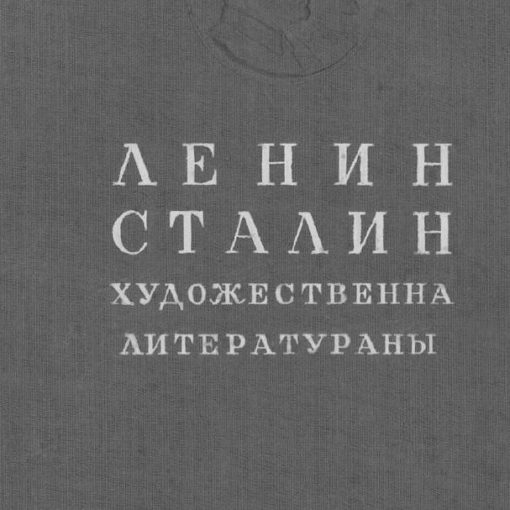Николай Коняев
Шёл 1958-й — четырнадцатый послевоенный год.
В колхозе жилось несладко, беда подступала за бедой: ураганные северные ветры с проливными дождями сменялись суховеями из казахстанских степей, хлеба то ломало, то гноило на корню, то выжигало зноем. Наши отцы и деды всё реже вели разговоры о минувшей войне, она для них отошла на задний план…
Только однорукий конюх дядя Семён, единственный сын которого, рассказывали, сгорел в танке, всё ещё донашивал полинялую фронтовую гимнастёрку, дотаптывал порыжелые, видавшие виды сапоги. Каждый вечер под окнами своей избы он бил себя в сухонькую грудь жёлтым кулаком, матерился и слёзно выговаривал спрятавшейся в горнице жене:
— Дура ты, Граньк! Ду-ра! Эт я-то пиньчужка? Да я вот этими руками под огненным Курском в сорок третьем вражину в дугу согнул! Да я кровушкой своей аж на самом Берлине расписался! А ты? Эх ты-ы!
А мы, пяти-шестилетняя деревенская детвора, выхвалялись друг перед дружкой в отбеленных временем армейских пилотках с тёмными отметинами звёзд, подаренных старшими братьями, и, выдавая пилотки за «всамделишные» — фронтовые, подражая дяде Семёну, колошматили себя кулаками.
Мы целыми днями носились по улице с деревянными пистолетами и автоматами наизготовку, и тишину оглашало наше пулемётно-автоматное «тра-та-та». Спали и видели себя на войне. И горевали, что опоздали родиться. Война для нас была далеко-далеко в прошлом…
Но вот на улице появлялась высокая седая старуха. Про неё в деревне шептались: мать Фимки-изменника. Мы прекращали «бои» и провожали её любопытствующими взглядами.
Сухая, как соломина, в расхристанном плюшевом жакете с подвёрнутыми концами облезлых рукавов, в грязно-белых валенках на калошах, она шла, сутулясь, с отрешёнными глазами на плоском бескровном лице. Такой она и запомнилась мне — Плоской женщиной.
Домик её, скособоченный от ветхости, по окна вросший в землю, с мшистой прозеленью на трухлявой крыше, обнесённый высоким глухим забором, стоял на задах, где мы, детвора, летом играли в лапту, зимой на плашках и салазках катались с горки, а взрослые каждый год устраивали бегунцы — бега верхом на лошадях.
Плоская жила одна. Хозяйства, не считая многочисленных собак и кошек, у неё не бывало. Только почтальонша раза два в последние полгода принесла ей весточки от сына, который, по слухам, отбывал срок за предательство в плену. Нигде старуха не работала. Говорили, правда, что в войну со всеми наравне чертоломила в колхозе, но однажды приняла неловко мешок с зерном или мукой и рухнула наземь – надорвалась.
На людях Плоская почти не показывалась. А если и выходила изредка из таинственного своего мирка, то шла по улице всё как-то боком, боком, скорёхонько, не поднимая глаз, и не только мы, детвора, сторонились её, но и взрослые невольно расступались. Очередь при её появлении в магазине умолкала, собравшиеся посудачить у колодца или на лавочке бабы спохватывались и расходились.
Жизнь Плоской являлась тайной. В деревне высказывались самые немыслимые и противоречивые догадки и предположения. Почтальонша уверяла, что в домике полным-полно икон, каждая сама по себе светится, а хозяйка (хотите — верьте, хотите — нет!) с ног до головы в чёрном тенью ходит по комнатам, замаливает Фимкины грехи.
Сельповский сторож, древний старик, доказывал, что, напротив, не Богу служит Плоская, а сатанинской силе, сам видел, как — свят, свят! — ночью из печной трубы выкатился огненный шар размером с клубок, завис над крышей, потом взметнулся ввысь и рассыпался искрами…
Однажды, это случилось зимой, из городского автобуса вышел незнакомец: громадный — глыба глыбой. С бельмом на глазу, в замызганной до лоска ватной телогрейке, в шапке-ушанке с одной болтающейся на ветру завязкой.
Я и теперь ясно вижу его мясистый нос, тяжеловесный, раздвоенный лиловым шрамом подбородок, толстые неопрятные губы, красный лоб и жилистую шею. Он вышел из автобуса с полупустой котомкой, которую держал перед собой обеими руками, словно там был пуд соли. Тогда он показался почти стариком, хотя, думаю, ему не было и сорока.
Под изумлёнными взглядами оказавшихся поблизости баб и мужиков, под шелест старушечьих губ («Фимка-христопродавец вернулся!») незнакомец скорым шагом через всю улицу проследовал к домику Плоской. Вскоре за оградой вскрикнула и заголосила хозяйка, взлаяли посаженные на цепи собаки, потом всё стихло, а через час-другой на огороде затопилась баня…
Вечером того же дня мы, детвора, с неизменной дразнилкой «Дядя Сёма из назёма» увязались за пьяненьким дядей Семёном. Обычно бежали за ним от конюховки до магазина, свистели в четыре пальца. Конюх не злобился, часто останавливался посреди дороги, топтался на месте, негнущимся крючковатым пальцем манил к себе. Мы робели, но смельчак всегда выискивался, подходил, с настороженным любопытством глядел, как долго одной рукой дядя Семён шарил по карманам и в конце концов протягивал своему преследователю пересыпанную табачной трухой горсть медных монет. Затем, хлопнув пятернёй по колену, как бы всплясывал и не запевал — выкрикивал с молодецким задором: «Только вышел на да-ро-гу, штой-то свистнуло у ногу, три часа би-из па-а-амяти лежал!». Тряс головой и шёл к своей избе, а мы облепляли счастливчика, пересчитывали выручку и, недолго думая, бежали в магазин, покупали комок слипшейся карамели, которая, помнится, никогда там не переводилась.
Но в тот вечер дядя Семён был неузнаваем. От конюховки зашагал не домой мимо магазина, как всегда, а на зады, к домику Плоской. За спиной у него болталось ружьишко с обмотанным медной проволокой ложем. Он обернулся на выкрики и так грозно глянул, что мы отпрянули и, недоумевая, стали следить за ним издалека. Но любопытство перебарывало страх, помаленьку двигались следом. Дядя Семён шёл, держась прямее обычного, ступая широко и твёрдо, и, казалось, не было в те минуты силы, могущей остановить его. Он дошёл до калитки, саданул её сапогом, затряс, задёргал изо всех сил. Взлаяли собаки.
— Здравствуй, Фимушка, сын Иудин! — чужим голосом сказал дядя Семён, яростно громыхая калиткой. Она не поддавалась, видно, была изнутри на вертушках, и это выводило конюха из себя. – Выходь поздоровкаться, землячок, давненько не виделись! Заждался я тебя, разжеланного! – И столько нечеловеческой злобы, ненависти, отчаянной решимости прозвучало в его голосе, что нам сделалось нe по себе. Мы уже догадались, что сейчас на наших глазах произойдёт нечто страшное, непоправимое…
— Самолично спросить тебя желаю, за сколько кусков продался, за сколь нашенских жизней свою поганую выкупил? Ты думал, всё, сполна расплатился? Думал, смыл кровушку нашу с рук своих? Не-ет, не будет тебе, душегубу, на земле покоя!
Из домика, однако, никто не показывался. Собаки рвались с цепей, захлёбывались лаем. Обессилев, дядя Семён грудью навалился на калитку, задохнулся в беззвучном кашле. Но вот он резко выпрямился, сдёрнул из-за спины одностволку, взвёл курок, держа ружьё под мышкой…
Прогремел выстрел. На лавке у крыльца вдребезги разлетелась стеклянная банка. Ружьё выпрыгнуло из руки, отлетело в сторону. Хватанув ртом воздуха, дядя Семён опустился на снег. На выстрел сбежался народ.
Мужики подхватили конюха, поставили на ноги, растормошили. Он, сам ещё, по-видимому, не осознавая, что произошло, стоял покорный и послушный. Его повели домой, и он не сопротивлялся.
— Как же так, — шептали его губы, — Фимка, стервец, вернулся, Фимка будет жить, а мой парнишка?..
Через неделю Фимка уехал. Ранним утром его видели на большаке всё с той же котомкой. Одного. Плоская не провожала.
С отъездом cынa она, казалось, вовсе отрешилась от всего земного. Её неделями не видели и не слышали. Только ночной перебрёх собак, бряцанье цепей, тусклый квадратик света на завалинке из единственного выходящего на улицу окна свидетельствовали о жизни за глухим забором…
В деревне праздновали масленицу. Днём откатали на тройках, отугощались блинами, вечером в домах наяривали гармошки, топотали плясуньи, из окон выплёскивались озорные частушки.
И вдруг неистово залаяли у Плоской собаки.
Старуха в ярости крушила забор. В проломе было видно, как сплеча она лупила колуном по упругим доскам, а они, прогибаясь, пружиня, дребезжали и звенели. Колун отскакивал, как от резины, удары с каждым замахом становились всё глуше, бессильней.
И опять, как на выстрел дяди Семёна, сбежался народ. Никого вокруг не видя, ничего не слыша, Плоская лупила и лупила по неподдающимся доскам, вкладывая в удары всю свою остатнюю силушку. И не кричала уже, а выла, выла, медленно оседая на снег, босая, взлохмаченная…
Все в каком-то мрачном оцепенении стояли поодаль.
— Господи! — перекрестилась одна из старух. — Да что же это делается, а?
— Жись, — глубокомысленно изрекла другая. — Чужая жись — потёмки.
— Фимка, стервец, запродался, а матери каково? Она-то тут при чём? — вставила третья.
В кругу заговорили, загалдели:
— Воспитала змейку на свою шейку, вот и расплачивайся теперь горючими слезами!
— Яблоко от яблони недалеко, сказывают…
— Разве она его на изменушку толкала?
— Нехорошо так, люди добрые! Не по-людски!
А Плоская всё выла…
Откуда ни возьмись, очутился подле неё дядя Семён. Трезвый. Он, к нашему сожалению, не пил с того памятного выстрела. Конюх выхватил из рук обезумевшей Плоской колун, запустил его через забор в сугроб.
И тотчас Плоскую окружили бабы и старухи. Кто-то заохал, заахал, кто-то запричитал, кто-то помог ей подняться на ноги, но она вырывалась, выскальзывала, снова падала в снег, билась головой о край обледенелой доски, изгибаясь длинным телом. А мы во все глаза таращились на неё, пока тот же дядя Семён не гаркнул на нас, и опять он был неузнаваем, только в глазах блестела не злоба и решимость, а боль и сострадание…
Шёл 1958-й, четырнадцатый послевоенный год…
Мы, детвора, спали и видели себя на войне. И горевали, что опоздали родиться. Война для нас была далеко-далеко в прошлом. Теперь я понимаю, как близко она была. Она и по сей день живёт во мне смутным отголоском надрывного стона Плоской.