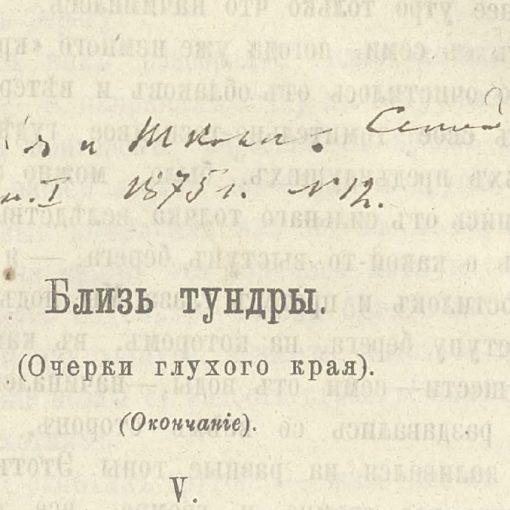Николай Коняев
…Под утро она все же впала в полузабытье. И приснился сон. За кухонным столом в деревенском доме она заводит тесто на субботние блины, Григорий с папироскою в зубах сидит на корточках у печки с открытым поддувалом, а сынок, Сергунька, шлепает босой по голым половицам крашеного пола от стола к порогу, катит за бечевку гремучий самосвальчик. А от неприкрытой Григорием двери стелется понизу холод. «Гриша! — окликает она мужа, — закрой плотнее дверь — простудится ребенок!» Оборачивается, а Сергуньки нет. Самосвал сам по себе катится к порогу, а Сергуньки нет. Исчез. Будто растворился в наплывавших с улицы клубах морозного пара…
— Вам не здоровится, гражданка?..
Разлепив воспаленные, с колющей простудной болью веки, она приподняла от скомканной, проволглой на паркетном полу вязаной кофты тяжелую голову, подобралась и села, вытянув перед собою ноги. Морщась от болезненности каждого движения, растирая на груди занемевшую за ночь руку, затравленно огляделась…
В трех шагах, в углу, под лестницей, ведущей на второй этаж аэропорта, как и вчера, располагалась тихая компания. Сухой жилистый мужчина с нависшими на сальный воротник черного пальто сивыми неприбранными космами сидел между двумя синюшными кроткими женщинами в одинаково линялом, замызганном тряпье. Но сегодня к троице добавился четвертый — высокий и костлявый белобрысый парень в сером выщипанном свитере. Мужчина коротко, вполголоса сказал что-то костлявому и обратился к ней с участливой улыбкой:
— Вам не здоровится, гражданочка?
Затурканные женщины и не шевельнулись, не подали голоса. Обе отрешенно смотрели на захлопнутую дверь служебной комнаты за стойкой регистрации, куда, звонко простучав каблучками черных, отблескивающих лаком туфель, прошла стройная девица с копной белых вьющихся волос, в синей форменной одежде.
— Нет, что вы, все в порядке!..
Успокоительно кивнув, косматый продолжал рассматривать ее. Глубоко запавшие, темные глаза его из-под крутых надбровных дуг смотрели проницательно и строго. Он словно силился понять, кто она, откуда и почему здесь, с ними на полу, а не в зале ожидания наверху, где в креслах с подлокотниками дремлют безмятежно пассажиры? А если тоже бомж, то почему же не прибьется к «стае»? Ему было невдомек, что вчера она подумала о том же. Все ж таки не так сосуще одиноко будет на душе и тяжело на сердце, думала она, если с этими двумя безропотными женщинами поделится бедой. Какие — никакие, а ведь все же люди — были и они когда-то матерями. Не пьяные да буйные, не сказать, что безобразные — вонючие да вшивые, как те, что день-деньской толкутся в центре города у мусорных бачков. Она уже, было, решилась, да страх за деньги, вшитые в подкладку старого пальто, в последний миг сдержал ее порыв…
Парень в сером свитере полуобернулся, исподлобья коротко глянул на нее. Но и от брошенного вскользь, исподлобья, взгляда бесцветных, водянистых глаз с улыбкой деревенского блаженного, каких она немало видывала на своем веку, ей стало вдруг не по себе. Она схватилась за пальто, слегка его встряхнув, бегло, так, чтоб не заметил не спускавший с нее глаз мужчина, ощупала подклад — пакет с деньгами был на месте…
В первое мгновение и сама не поняла, почему так оробела от этого невидящего взгляда. Не сразу высветило вспышкой в заторможенном сознании: белобрысого она видела вчера! В этом сером свитере, но не в темных мятых брюках с подвернутыми до щиколоток штанинами, а в белых прочных джинсах на поясном ремне с болтающимся сбоку кожаным футлярчиком; не в резиновых стоптанных кедах, а в светлых тупоносых туфлях и в застегнутой на молнию короткой черной куртке со множеством карманов и застежек. Шла по мощенной дорожке к зеленой беседке у чугунной ограды больничного сквера, и этот парень вдруг возник на повороте, как из-под земли, чуть не столкнувшись с нею. Она в испуге оступилась на стерню, открывшуюся из-под вытаявшего снега, и он, слегка оторопевший, как бы споткнувшись, на ходу сдернул с тонкой переносицы темные очки с прямоугольными стеклами линз, глянул сверху вниз белесыми глазами и быстро удалился в противоположную ей сторону. Уже тогда ей что-то подсказало: она и раньше где-то видела этого блондина, запомнила его бесцветные, навыкате, глаза…
«И вот — он здесь, в аэропорту…Зачем? Случайно ли все это?» — не на шутку всполошилась, но тут же успокоила себя предположением, что парень может быть рабочим, явившимся на службу спозаранку и коротающим оставшееся до начала смены время никчемной болтовней с попавшим на глаза случайным бомжем…
Входная дверь уже не закрывалась — входили и протискивались боком увешанные багажом и кладью пассажиры ранних рейсов, становились в очередь у стоек регистрации, оклеивали скотчем сумки и узлы, шуршали упаковочной бумагой. Вверху, в зале ожидания, послышались шаги, сухой надрывный кашель, громкий плач ребенка, хлопки откидываемых кверху кресельных сидений…
Выждав несколько минут, пока затекшая рука нальется кровью и обретет подвижность, она встала, без оглядки на компанию с примкнувшим белобрысым с болью оглядела пальто на расстоянии. Во что превратилось оно за месяц ее скитаний! И в деревне не наденешь. Но если б и нашлась ему замена, все равно б не бросила — увезла б домой, повесила б на гвоздик где-нибудь на стенке, как память о Григории. Это синее пальто с роскошным по тем временам норковым воротником было куплено ей мужем по случаю рождения Сергуньки. На радостях Григорий оставил за него в сельмаге всю свою получку и в роддом прибыл с обновкой и охапкой живых роз. Счастливая, не знала, бранить за расточительность или броситься на шею благоверному — хмельному, безрассудному! Тридцать три года минуло с тех пор, десять лет, как нет в живых Григория, а подарок греет!
Она медленно, с трудом натянула на себя ветхое пальто в набрызгах засохшей глины, в пятнах и заплатах, с истлевшей, прорванной подкладкой, с облысевшим, как и у косматого, воротником, с затертыми до лоска обшлагами, застегнулась и под пристальными взглядами притихших в углу бомжей направилась к выходу, решив сюда уже не возвращаться.
***
Весна выдалась ранняя, но своенравная, взбалмошная. В оттепельные двое суток беспрестанно сгустками валил мокрый снег, затем вдруг крепко подморозило, а ночью и завьюжило. Снег в низинах и пустынных парках издырявило поземкой, измельчило в крупку и в довершение стянуло коркой льда поверху. С утра опять пригрело, и крупчатое крошево, освободившись от непрочного ледяного панциря, размякло, растеклось в хлюпающую, чавкающую под ногами слякоть.
На открытых буграх и полянах, на местах подземных теплоцентралей, свернувшись разномастными клубками, дремали неподвижно бродячие собаки. Земля еще не отошла от наркоза зимней стужи, но уже почувствовала оттепель, нутряным дыханием распрямляла жизнеспособные стебли прошлогодней травы. Еще дня три-четыре, еще чуть-чуть тепла — и вздохнет, задышит, заструится паром, разродится первой сочной зеленью…
Она не сразу догадалась, откуда доносило горький, привычный с детства мягкий запах дыма. Но когда одноэтажной деревянной улочкой направилась неспешно к центру города, увидела: на огородах в частном секторе — этом чудом уцелевшем островке полу деревенской жизни, жгли подвяленную солнцем прошлогоднюю ботву и сухие листья, вытаявший мусор и накопившийся в хозяйстве хлам. Щекочущий ноздри запах жженной ботвы и прелых листьев — предвестник подступившей череды огородных хлопот вновь вернул ее в мыслях в деревню. Но некогда было предаваться выжимающим слезу воспоминаниям. Она спешила к адвокату. Он сегодня вышел на работу после двухнедельной командировки. Нужно было подготовиться, собраться с мыслями, сжать волюшку в кулак, чтобы не расплакаться при встрече…
Скорее было в центр доехать на автобусе, всего-то две на третью остановки, но она привычно шла пешком. Экономила не только на разъездах, но и на чашке чая. Как и вчера, прошла мимо кафе с устоявшимися запахами беляшей и кофе. Кто знает, сколько дней придется провести еще в этом городе, взявшим в каменный мешок ее единственного сына, ее кудрявого Сергуньку… А на вшитые в подкладку деньги она не покусится ни под каким предлогом, даже под угрозой лютой смерти. Вот только чаю зря не выпила — знобит после тяжелой ночи, и голова от дыма или голода кружится…
***
Над входом в пятиэтажное здание из стекла и бетона на пересечении двух магистральных улиц среди многочисленных пластиковых вывесок она разглядела «свою»: «Адвокатское бюро «Евгений Суходол и партнеры».
Кабинет знаменитого адвоката располагался на втором этаже. В сером крапчатом костюме, склонясь над письменным столом, зеркально отражавшем подвесную люстру, он, подперев ладонью высокий бледный лоб, нервно перелистывал бумажки в прозрачной синей папке на металлическом зажиме….
— Вы ко мне? Простите, занят, — пробормотал на мягкий вздох открытой двери, не поднимая крупной, лысеющей с макушки головы. — Подойдите к вечеру… А лучше — с утра завтра. Вас с утра устроит?
— Нет! — сорвалось с языка придушенным вскриком.
Адвокат молниеносно вскинул голову.
— Ах, это вы?! Прекра-асно! Вы разве не уехали?
— Нет, Евгений Александрович… Как же я могу уехать, когда во всем неясность, неопределенность? И с вами так и не решили…
— Ну вот, что называется — снова да ладом! – Адвокат обескуражено закатил глаза и выразительно пожал плечами.
— А мне помнится, недели две тому назад мы с вами обо всем договорились. Я объяснил толково и доходчиво, что не могу взять на себя защиту вашего сына. У меня, повторяю, неоконченных дел под завязку! Я рекомендовал вам адвоката — серьезного, учтите!
Он в сердцах захлопнул папку, бросил ее в выдвинутый ящичек стола и, вздохнув, привстал.
— Напрасно. Уверяю вас, напрасно пренебрегли моим советом… Ну что ж теперь… Садитесь. Присаживайтесь вот, если уж пришли, — указал на кожаное кресло у приставного столика.
Благодарно кивнув, она прошла и села, не спуская с адвоката умоляющих, настороженных глаз.
Он кончиками двух коротких толстых пальцев демонстративно постучал по фиолетовому стеклышку несоразмерно крупных по руке часов, давая тем понять, что время строго ограничено.
— Пять минут, не больше, — уточнил и сел, по-ученически прилежно сложив перед собою руки на столе.
Всхлипнув неожиданно, она запричитала:
— Евгений Александрович, милый человек, спасите мне Сергея! Умоляю вас, возьмите дело сына. Один он у меня. Нет больше никого! Только вы и сможете помочь! Я знаю, вы творите чудеса!..
Адвокат скривился от досады.
— Ну как же вам не стыдно, право слово! Я все вам объяснил русским языком при нашей первой встрече! Мне больше нечего добавить! — И… и не входите ко мне в кабинет в этой… верхней одежде! — брезгливо потянув чувственными ноздрями, вскрикнул раздраженно. — Гардероб внизу разве не работает?
— Простите уж, Евгений Александрович, возьмут ли там мое пальто? — оно и на пальто-то не похожее…
Но Суходол завелся.
— Я понимаю ваше состояние… И уважаю чувства материнские. Но не до такой же степени изводить себя. Слезами горю не поможешь… Если б я был не адвокатом, а священником, к примеру, что, впрочем, исключено, — он чуть заметно усмехнулся потаенной мысли, — я посоветовал бы вам вернуться домой и молиться, молиться, молиться! За себя и за сына. Это все, что в ваших силах в вашей ситуации.
Склонившись над столом, адвокат налил из высокой бутылки в фарфоровую чашку игристого напитка и придвинул к ней.
— Успокойтесь. Выпейте. Возьмите себя в руки. И поймите, наконец: я — не враг ни вам, ни вашему Сергею, но и не всемогущий маг и уж тем более ни господь Бог, как кто-то вам, возможно, меня разрисовал! Я действую исключительно в рамках предоставленных мне законом прав и полномочий, а они, увы, не безграничны. И не велики.
Он встал, потер ладони и опять опустился на кресло. Но вид убитой горем женщины не позволил сухо распрощаться и указать на дверь:
— Я вскользь ознакомился с делом вашего сына. Больше, правда, понаслышке, по рассказам. Дело, как вы понимаете, отнюдь не рядовое. И обвинение серьезное — убийство. Причем, убийство не простое — заказное. Вы, надеюсь, понимаете, что все это значит?
— Разумом, Евгений Александрович… Разумом, конечно, понимаю… А сердце отвергает…
— Ваш сын — убил! — прихлопнул Суходол надежду, словно муху. — Смиритесь с этой мыслью, как ни кощунственно звучит. Вы не должны питать иллюзий. Предварительное следствие хоть и не закончено, но вина доказана. И насколько мне известно, ваш сын признал вину. Именно он расстрелял мерседес из пистолета ТТ. Всадил все восемь пуль. Убит коммерсант, ранены водитель и сынишка коммерсанта — пятилетний мальчик. Водитель, к счастью, отделался легкой царапиной, а мальчик получил серьезное ранение. Жизнь на волоске. Многое будет зависеть от исхода операции. Ваш сын будет жив при любом исходе — к счастью или несчастью, в этой стране, — он ткнул указательным пальцем в столешницу, — смертная казнь приостановлена. Все, что можно сделать для него — хотя бы ненамного скостить срок. И лучше б вам уехать до суда в деревню. Суд состоится не скоро, и, право слово, вам незачем здесь находиться. Есть ли у вас деньги на обратную дорогу? — вдруг спохватился адвокат, с ног до головы окинув ее беглым, оценивающим взглядом.
— Деньги есть, Евгений Александрович, но как же я смогу-то … — Она хотела что-то возразить или добавить к сказанному, да слов сразу не нашлось. Щепотью вытерла сухие губы.
— Да так вот, родная, и сможьте, пожалуйста. Не истязайте себя!
И опять бессильно всхлипнув, почувствовав, что может разрыдаться — опрометью кинуться в ноги Суходолу с бессмысленной мольбой о помощи, она приподнялась:
— Евгений Александрович, милый человек! Ведь я давно все знаю. И про коммерсанта, и про его сынишку. Я давно все вызнала в приемном отделении. Каждый день справляюсь о здоровье мальчика. Каждый день в окне палаты я вижу его мать, она дежурит день и ночь у постели сына. Бывает, смотрит из окна в больничный сквер… Я вижу ее. Она видит меня. Ей и в голову, конечно, не придет, что видит мать убийцы… Операция прошла позавчера. Успешно ли, не знаю. Я молюсь за этого ребенка… И жизнь свою взамен бы отдала!..
— Не разбрасывайтесь жизнями! — Суходол наморщил бледный лоб. — Жизнь — штука единичная. Это хорошо, что вы давно все знаете… На что же вы надеетесь?
— На чудо. На чудо и на вас. Ведь не все потеряно. Мой сын – не конченый злодей! Сам он никогда на это не решился бы!
— Что ж, в этом есть резон, — смягчился адвокат. — Действительно, не все в том деле ясно… Ваш сын — всего лишь исполнитель чужой воли. Киллер, так сказать. Важно выявить заказчика, выяснить мотивы преступления. Убийство мальчика, водителя, конечно, не входило в его планы. Не видел за тонированными стеклами «лишних» пассажиров. Есть резон, согласен!.. Из любой, даже самой, казалось бы, патовой ситуации иногда вдруг находится спасительный выход. И в ходе судебного разбирательства могут всплыть такие подробности, открыться такие обстоятельства, а, следовательно, и новые возможности для защиты, о которых, уважаемая, мы с вами сегодня и не догадываемся…
— Вот видите! — обрадовано вскинулась она. Слабая улыбка на мгновение оживила тусклые глаза, скользнула вниз по бледному лицу.
Суходол слегка смешался.
— Видеть-то, конечно, вижу, но у меня к вам есть вопрос. Знаете ли вы, что услуги нашего бюро стоят очень дорого? Очень, знаете ли, дорого. В состоянии ли вы оплатить расходы? Вы хоть представляете, в какую сумму выльется?
— В какую бы ни вылилось, Евгений Александрович! Все, что собрала, все, что наскребла!..
— Да что вы там собрали? Что вы наскребли? Или спонсоры подкинули? Дружки-приятели вашего Сергея? Что-то не хлопочут, не оседают с просьбами!
— Я продала свой дом в деревне.
Суходол оторопело пожевал губами. Она непроизвольно подалась в наклоне, не спуская с него глаз, опасаясь упустить близкое согласие.
— Что вы сказали? До-ом? — Ей показалось, Суходол не столько растерялся, сколько отчего-то испугался. — А где ж вы жить-то ду?.. — запнулся он на полуслове и вновь присел на кресло.
— Да уж где-нибудь… У сестры в деревне дом большой, летняя избушка, зимой курей в ней держит — не выгонит, поди, первое-то время…
— Отчаянная женщина, как я погляжу! А ну, сестра не пожелает в избушку вас впустить? Куда ж она зимой курей-то своих денет? Вы хорошо обдумали?
Внезапно — так, что она вздрогнула, из нагрудного кармана Суходолова костюма выпорхнула легкая мелодия звонка. Он выхватил плоский мобильник и, не взглянув на номер вызываемого абонента, нажал на «Сброс».
— Простите, все-таки спешу. Я жду вас с утра завтра. Обсудим и… договорим. Единственно, что я хотел бы уточнить — деньги при себе или на счете?
— Какой там счет, Евгений Александрович! Месяц при себе… Страху натерпелась!
— Отчаянная женщина!
***
«Ваш сын — убил, смиритесь с этой мыслью!» — приливами пульсирующей крови при каждом шаге отдавались в висках слова адвоката. Безжалостные, как приговор. Легко сказать — смиритесь! Если б даже сын признался бы при встрече: «Да, мама, грешен, я — убил!», и то бы отыскала в сердце место для надежды. «Сынок, — сказала бы она, — если и убил, то не по своей же воле? Не из жестокости и злобы? Кто-то тебя вынудил? Не под угрозой ли расправы, не под страхом ль смерти? Скажи, тебе зачтется. Осудят — да, но не навечно замуруют в каменный мешок, откуда, говорят, возврата не бывает.»
И все же после встречи с адвокатом отлегло от сердца. Затеплилась надежда на ум и хватку Суходола. Он будто сдвинул с души камешек, перекрывавший полное дыхание. Он молодчина, этот Суходол! Не зря его нахваливают знающие люди. И сестра, и зять, и все в ее деревне твердили в один голос: только Суходол сможет вытащить Сергея из-под гибельной статьи. О нем во всех газетах печатались легенды. Хороший адвокат, понятно, нарасхват, не за каждое дело возьмется, а уж если даст согласие, пусть и за большие деньги — считаться ли с деньгами в ее-то положении? — в лепешку расшибется, но выиграет дело. Хотя, она прекрасно это понимала, дело ее сына выиграть нельзя. Невозможно выиграть дело об убийстве. Единственно возможный выигрыш — сохранить жизнь сыну, дать надежду на спасение заблудшей, грешной, но родной души…
Договориться бы вот только с Суходолом окончательно, как говаривал Григорий, «ударить по рукам» да передать бы деньги. Не ввести во искушение лихого человека… Все же не случайно белобрысый оказался вчера в сквере, а сегодня и в аэропорту. Заподозрил, что пакет в подкладке, впал, прохиндей, в искус, выслеживает жертву… «Господи, спаси мя и помилуй!..»
Избавиться б от денег и решить, что дальше. Не в деревню ж возвращаться ни солоно хлебавши на поклон к сестре и зятю. Во что бы то ни стало дождаться того дня, когда ее Сергея, кудрявого Сергуньку, привезут на суд, увидеть бы последний раз хотя б издалека, пусть в железной клетке и в наручниках под стражей — вот только выдержит ли сердце, не разорвется ли на части, оно ведь не железное? А может, адвокат устроит и свидание? Он — молодчина, этот Суходол! Добиться бы свидания, встретиться б с Сергеем… Что в его глазах? Холодный блеск зрачков злодея без страха и раскаяния или — дай-то, Бог! — нежность и любовь, вина и покаяние? Мать увидит истину. Вот когда откроется: виновен или нет. До тех же пор никто ей не докажет, никто ей не внушит, что сын ее — убийца.
Домой, в свою деревню, она могла уехать и без рубля в кармане. Вышла бы на тракт, за железнодорожным переездом постояла час-другой. Во времена не столь и отдаленные, когда совхоз был в силе, а шофера из отделений знали каждого в лицо, пяти минут не простояла б. И сейчас еще найдется добрый человек из шоферов старой закваски. Три часа — и дома… Уехать — не проблема. Смутное предчувствие неминуемой беды в случае отъезда до суда над сыном без малого месяц удерживало в городе. Что-то изнутри держало в убеждении, что в трудные для них обоих дни она должна быть рядом. Ее присутствие в одном с ним городе, пусть и по другую сторону высокой тюремной стены, оплетенной поверху колючей металлической спиралью, должно добавить ему сил для грядущих испытаний…
Оживленной улицей вслепую шла по направлению движения легковых автомобилей, на скорости выстреливающих слякотью и грязью протекторами шин. И лишь когда вдруг очутилась у распахнутых ворот с ажурной вязью чугунных решеток по центру полотен, увидела, стряхнув оцепенение, что вышла, как всегда, к городской больнице. Вошла в больничный сквер по вымощенной гравием дорожке, направилась к зеленой беседке в стороне от центрального входа. Она успела полюбить этот тихий сквер с его мощеными дорожками, беседкой и сиренями… Но сегодня здесь было необычно многолюдно. Медсестры и врачи, весь персонал лечебных отделений вышел на субботник. Между кустами и березами виднелись стайки гомонящих студенток медицинского училища. Рассыпавшись по скверу, перекликаясь и дурачась, они шумно, бестолково граблями и лопатами скребли и чистили вытаявшие клумбы и газоны. Из мусорного бака в дальнем углу сквера, где вчера едва ли не столкнулась с белобрысым, черно-белыми слоистыми клубами поднимался дым, рассеивался в вершинах рассаженных по периметру ограды берез.
К полудню припекло. Она проверила на ощупь, на месте ли пакет? — убедилась, что на месте и свернула пальто вчетверо — вдоль и поперек. Глядела безотрывно в одинаковые окна палат второго этажа беленого кирпичного здания хирургического отделения…
Вот так же тридцать лет назад подолгу сиживала в сквере. Тогда на этом месте не было беседки, как не было газонов, кустарников и клумб, да и сквер как таковой только намечался в чьих-то планах — березки по периметру ограды были в ее рост, а строящееся здание новой поликлиники заслоняло снесенные десять лет назад (в год Гришиной кончины) неказистые, барачного типа строения терапевтического, детского и прочих отделений. В ту памятную осень привезла трехлетнего Сергуньку на операцию врожденного порока сердца. Всю неделю, пока сын находился на обследовании, она была с ним рядом, а на день операции и на последующие несколько критических, должно быть, дней ее попросили покинуть палату. Каждое утро с восходом солнца бежала из гостиницы в больницу, искала встречи с лечащим врачом — одним из первых, помнится, в городе профессором, и до поздней ночи просиживала в сквере с той же странной убежденностью, что пока она рядышком с сыном, под окном его палаты, пусть и по другую сторону кирпичной стены, все будет с ним в порядке, все благополучно завершится. Так же пристально, до боли, до черных мух в глазах всматривалась в третье с краю мутное окно на втором этаже, будто ожидала, что сын ее, Сергунька, вот-вот встанет из-под капельниц, нетвердыми шажками подойдет к окну, склонится через подоконник и окликнет: «Мама, мамочка, я жив!»
***
— И все-таки вам не здоровится!..
Она, кажется, вздремнула ненадолго. Вскинулась спросонок, неловким движением смахнула со скамьи свернутое вчетверо пальто. Оно упало и раскрылось…
— Кто вы? Что вам надо?
Поигрывая набором ключей на брелке, перед ней стоял бельмастый белобрысый. Все в том же сером свитере и белых прочных джинсах, плотно облегающих икры худых ног.
— Не бойтесь, мать. Вам нечего бояться. Я не маньяк и не грабитель.
— А кто же вы тогда? — спросила необдуманно со страху.
Незнакомец улыбнулся.
— Вопрос вполне логичен. Успокойтесь. Сядьте. И поднимите, наконец, свою одежду…
Она безмолвно и покорно подняла пальто, свернула, машинально сунула под мышку. Вновь села на скамью. Присел и белобрысый.
— Значит, так, — сказал он буднично и кратко, словно продолжил некстати разговор. — Кто я, откуда, как меня зовут — вам знать не обязательно. Достаточно того, что я вас знаю. Я вас однажды видел. Вас зовут Татьяна Николаевна, вы — мать Сергея Клокова…Я не ошибаюсь?
— Н-нет, не ошибаетесь…
— Слушайте внимательно, Татьяна Николаевна… Поклон вам от Сергея. Он, конечно, кается, просит вашего прощения за все случившееся с ним. Но — это лирика, вступление. Сергею стало известно, что вы продали домик в деревне, чтобы нанять адвоката. Он велел передать, чтоб вы ни рубля никому не платили, никакого адвоката для него не нанимали, а немедленно возвращались домой…
Она и не дослушала — впилась глазами в белобрысого:
— Вы видели Сергея? Когда? Здоров ли он?
— Я сам его не видел. Но он здоров и бодр — так вот и велел вам передать. Впрочем, не перебивайте. Я просил не задавать вопросов. Все, что можно, я скажу… Деньги верните человеку, купившему дом. О недостающей сумме позаботимся мы…
— Что ж вы все загадками… Кто это — мы?
— Ну, скажем так — друзья Сергея.
— А если он не согласится?
Теперь ее не понял белобрысый.
— Кто не согласится?
— Покупатель дома.
— Согласится. Еще как. А если возникнут сомнения, мы поможем ему их развеять.
— Да кто же вы? Как вы меня нашли?
— Мне понадобились сутки, чтобы разыскать вас в нашем городе.
Еще сутки я, признаться, следовал за вами по пятам, будучи в сомнении, вы ли — мать Сергея. Утром в аэропорту я вас узнал… Впрочем, я отвлекся. Все, что можно для Сергея сделать, сделаем мы сами. Всему свой час и свой черед. В этом вы не сомневайтесь. Завтра вы уедете из города от греха подальше. Сегодня же придется провести ночь в аэропорту. Подчеркиваю, только в аэропорту! Иначе я не гарантирую вашей безопасности и сохранности, — он едва заметно усмехнулся, — вашей сберкассы… С бомжами в порту я потолковал. Они уже пронюхали, что у вас в пальто, но вы их не бойтесь. Они сегодня сами будут вас бояться. Будут охранять ваш сон и… ваш багаж! Вот, кажется, и все! — Белобрысый неожиданно поднялся, бросил брелок с набором ключей в боковой карман куртки.
— Как это — все?! — встрепенулась она. — Подождите! Я ничего не поняла… Что могу я сделать для Сергея?
— Только одно: уехать домой и тем успокоить его и себя.
— Скажите, он виновен или нет? Он действительно убил?
Белобрысый и не приостановился, лишь махнул рукой:
— Не человека он убил — он отстрелил шакала. Это не одно и то же!
Все произошло так неожиданно и быстро, будто и не въяве, а во сне — не сразу и поймешь, к добру или к худу.
***
Последний раз она виделась с сыном лет пять тому назад, зимой, под Рождество. В самые морозы. Приехала по вызову вставить себе зубы. Кое-как, уже в потемках, с помощью подсказок припозднившихся прохожих, на заводской окраине, за диким пустырем на предпоследней остановке «Трамвайное депо» отыскала общежитие — одно из немногих в городе рабочих общежитий, такое же запушенное, неухоженное, как и холостая жизнь Сергея. Это было старое двухэтажное здание чуть ли не довоенных времен, понизу обшитое ядовито-зелеными, треснувшими по «волне» листами шифера, с окнами без стекол, сплошь и рядом заткнутыми желтыми, прожженными подушками и обрывками цветных одеял.
Бойкая, чернявая бабка — то ли вахтерша, то ли комендантша, обликом, движениями рук напоминавшая шуструю ворону, в комнату сына ее не пустила, хоть и поверила на слово, что приезжая — мать Клокова Сергея, а велела подождать в миниатюрном холле у беззвучно мерцавшего телевизора, даже стул сама придвинула. Вошедшего с улицы высокого, светловолосого парня попросила пригласить приятеля. «Серегу?» — уточнил вошедший и с любопытством взглянул на приезжую, вскинул бровь и улыбнулся. Но и мгновения хватило, чтобы надолго запомнить взгляд бесцветных водянистых глаз… Он коротко, по-свойски шепнул что-то вахтерше (или комендантше), та не поняла или не расслышала и с напускной досадой отмахнулась: «Да ну тя к лешему, ступай, зови сюда товариш-ша!..»
Вот где увидела бельмастого впервые! У сына в общежитии!
…Сын спустился в холл не сразу, и ей пришлось побеспокоиться, да не на смене ли Сергей, и если в ночь сегодня, куда ей подаваться в малознакомом городе? Работал он по графику — то в день, то в ночь, то на подмену, без выходных и праздничных. «Да не пр-реж-живайте! — неожиданно вскаркнула шустрая старуха, кивнув острым носиком куда-то вверх, на потолок. — Здесь иде-то шлендает!» — «Может, после смены отдыхает?» — предположила мать. Бабка усмехнулась ядовито, ничего не разъяснив и не добавив к сказанному.
И сын — красивый, рослый, статный молодой мужчина в расстегнутой белой рубашке, заправленной под пояс безупречно, как всегда, отутюженных брюк, легко сбежал по выщербленной лестнице. Нахлынувшее чувство материнской гордости за красавца-сына выжало слезу любви и умиления, которую, однако, тут же и смахнула.
Но сын, ее Сергунька, не бросился навстречу, не приподнял в объятиях, не расцеловал, как прежде, в обе щеки, а сухо отстранился и раздраженно бросил: «Опять как снег на голову?!» Она оторопела: «Как это — опять?» — «Ведь я просил предупреждать заранее о своем приезде! А если б не было меня сегодня в общежитии? Где б разыскивала ночью?»- «Да, как-то не подумала…- согласилась с доводом Сергея. — Приехала-то как? Вчера еще не знала, поеду или нет…»
Сын принял из ее руки крутобокую тяжелую сумку: «Что там у тебя?» — «Сала да мясца тетка положила». — «Сала да мясца! Сколько я просил, чтоб ничего не привозила! Не нужны мне ваши передачки!» — «Да как же… Покупное-то, оно надоедает, а тут свое, домашнее… Не на себе приперла… Вот, правда, в городе маленько руки оттянула. Не сразу разыскала…» — И осеклась, заметив, как вахтерша — комендантша, глянув на Сергея, осуждающе качнула головой и тяжело вздохнула, вздернув острый, как вороний клювик, носик…
«Ладно, подожди, — приказал Сергей. — Я сейчас… Я — быстро!» Необычная холодность, раздражительность Сергея не могли не задеть за живое. «И зайти не предложил!» — отметила она с подступившим к горлу комом незаслуженной обиды. И было отчего-то стыдно и нехорошо встретиться глазами с нахохленной вахтершей, хищно зыркавшей по сторонам и вздыхавшей показательно прискорбно.
И все же, сглотнув ком, она искала оправдание Сергею. Ведь он действительно просил предупреждать заранее о своем приезде. Он давно не мальчик, не златокудрый юноша — он зрелый, опытный мужчина со своею, не похожей на родительские, жизнью, со своими планами, привычками, друзьями, а, может быть, и с женщиной… Пора, давно пора обзавестись семьей! Внуков бы понянчить… Может, вырвала не вовремя? Так хоть бы познакомил… Или стесняется ее — неграмотную, темную, в вечном синеньком пальтишке, в подшитых серых валенках, не способную понять людей из чуждого ей мира?
Вскоре сын предстал в распахнутом дубленом полушубке, но без шапки. «Идем быстрее, ма!» — Решительно толкнул входную дверь. Мать беспрекословно подчинилась.
Незащищенное лицо обожгло порывом ветра…
«Ты почему без шапки-то, Сережа? — Она остановилась. — Шапку-то забыл! Вернись, надень сейчас же!» — «Идем, идем, не отвлекайся!» — Сын прибавил шагу. Он направился к депо, к трамвайной остановке. — «Да как же ты без шапки-то?» — «Нету шапки, ма. В прокате!» — «В каком еще прокате?» — «Другу дал на вечерок. К утру вернется шапка!» — «А друг чего без шапки?» — «А друг свою продал. Зарплаты ведь не видим по полгода, чему тут удивляться!» Мать не унималась, семеня за ним: «Разве это дело? Голову застудишь!»
Сергей остановился и резко вскинул руку. Ярким, сильным светом фар выхватив из темени сектор трамвайных рельсов, из-за поворота выскочило и, скрипнув тормозами, остановилось такси. Сын усадил ее на заднее сидение, сам сел впереди и коротко скомандовал: «В гостиницу»! В фойе сам заполнил за нее анкету, заплатил за трое суток. Затем провез на лифте вверх, провел по длинному, сумрачному коридору к дежурной по этажу и полученным у нее ключом открыл одну из многочисленных, одинаковых дверей. Они вошли в прокуренный, плохо проветренный, но просторный и довольно-таки уютный одноместный номер.
«Вот здесь и поживешь… Располагайся, отдыхай. Можешь принять ванну или душ. Утром отвезу в стоматологи… А сейчас я должен быть на месте.»
Она сидела не раздетой на заправленной кровати, наблюдая, как Сергей мечется по номеру, включая-выключая телевизор, холодильник, радио, торшер, открывая-закрывая никелированные краны в ванной комнате. Проверил все, что было, на исправность… Молча, проницательно поглядел на мать, и легкое смятение скользнуло по его лицу. Подошел и опустился перед ней на корточки, уронил на колени кудрявую голову: «Ты уж извини, что все так получается. День сегодня нервный, трудный. Ты устала, я устал…Завтра обо всем поговорим. Не обижайся, мама!» — «Господи, о чем ты, какая может быть обида? Устроил, как царицу! Мать в таких хоромах сроду не живала!»
Много ль надо матери? Пару добрых слов, чуточку внимания, и все обиды прощены. — «Вот и поцарствуй. Побегу!» — «Ступай, я ведь понимаю! Воротник хоть у дубленки подыми, голову застудишь! Не бережете себя смолоду — к старости спохватитесь!» — «Если б только голову — сердце бы не застудить!»
***
Он ушел без шапки в стужу, в темень, в ночь, и теперь, сидя на скамье в беседке сквера, она силилась понять, когда, в какой момент в душе Сергея произошел излом, приведший к страшному финалу? Не застудил ли, в самом деле, сердце?
После разговора со странным другом сына она уже не знала, на что решится завтра: пойдет ли, как договорились, к адвокату (месяц добивалась Суходолова согласия!) или же уедет «от греха подальше» по настоянию Сергея. Все смешалось, голова шла кругом…
В лечебных отделениях истек послеобеденный тихий час. Настало время посещений и прогулок. В окнах больничных палат раскрывались форточки, распахивались створки. Выздоравливающие в пальто и теплых куртках один по одному выходили в сквер, опустив глаза, словно бы выискивая что-то под ногами, бродили по дорожкам. Субботник завершался. Бойкие студентки сбрасывали в кучу грабли и лопаты…
Она долго всматривалась в тусклое окно «своей» палаты. На треть забеленные снизу, стекла в переплетах рам отсвечивали солнечными бликами, но никаких движений в них не отмечалось.
«Неужели мальчик все еще в реанимации?»
Она чувствовала слабость во всем давно не знавшем отдыха изболевшем теле. Усталость медленно окутывала пелериной сна. Хотелось малого — покоя и глоточек чаю. Свежего, горячего, домашнего чайку… Вновь впала в забытье, а когда очнулась, взглянула машинально на окно. И, словно по сигналу, неслышно распахнулись створки, и в проеме возник знакомый силуэт. Это была она — вдова погибшего от пули сына коммерсанта, мать ни в чем не виноватого дитя, стройная, со стянутыми в узел на затылке волосами, со строгим взглядом больших глаз молодая женщина. Они встретились взглядами, долго, безотрывно смотрели друг на друга — со стороны могло бы показаться, равнодушно и бесстрастно — мать убийцы и мать жертвы…
Женщина вдруг скрылась в глубине палаты, но через минуту подошла к окну с запеленатым в простынку сынишкой на руках. Русоголовый мальчик широко открытыми глазам вбирал открывшийся пред ним заоконный мир …
***
Рыженькая девушка-студентка взволнованно рассказывала испуганным подругам:
— …Сползла старушка со скамьи, видно, плохо стало, а сама,
поверите ли, светится от радости, и все шепчет: сын, сыночек где-то там в окне — живой и невредимый… Бредила, наверное.
Врач «скорой помощи» прощупал пульс больной:
— Слабость, жар, переутомление… Ничего серьезного – случается такое. Денек-другой придется подержать в стационаре… Кто знает эту женщину? Где она живет?
— Она не местная — приезжая. — В беседку сквозь толпу медленно прошла молодая женщина со стянутыми в узел на затылке волосами, в наброшенном на плечи легком осеннем пальто. — Я вижу ее каждый день из окна своей палаты. Ей стало плохо на моих глазах.
— Кто она? Откуда?
— Какое это имеет значение? Она просто мать…
— Ладно, разберемся. А это что за сверток под ногами? Похоже на пальто. Проверьте, нет ли там, в карманах, документов? Не пальто, а жуть какая-то… Там, поди, и живность в подкладке завелась…
— Не надевайте на нее это грязное тряпье! — Молодая женщина болезненно поморщилась, сняла с себя пальто. — Накройте моим…
Толпа мало-помалу разошлась, сквер постепенно опустел. Старое пальто, брошенное в бак, долго исходило паром, тлело, а затем вдруг вспыхнуло с плотоядным гулом. К ночи из бездонного мусорного бака выветрило пепел.