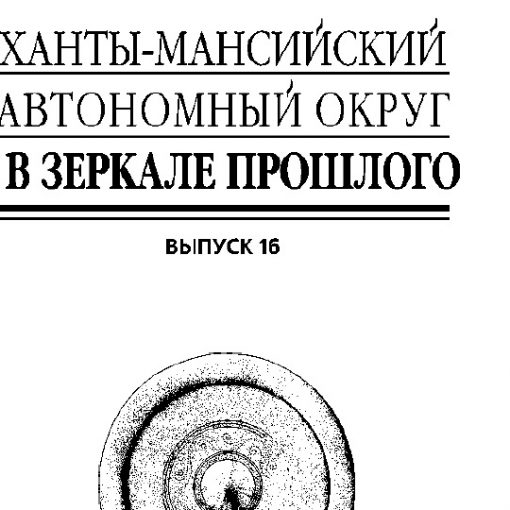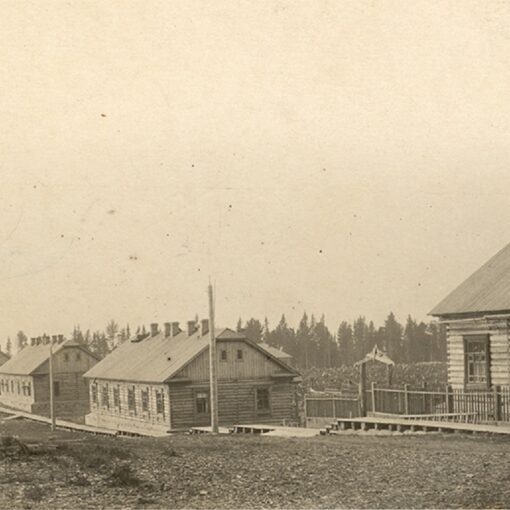Альбина Глухих
Некоторые хантымансийцы уверены, что самой старой в городе является школа № 1, где долгое время директорствовал Юрий Георгиевич Созонов, историк, участник войны, создатель первого в округе школьного музея боевой славы и мемориала в честь погибших в годы войны учителей и выпускников. Был он большим библиофилом и знатоком истории края, где вырос. Однажды у нас зашел разговор о зарождении просвещения в округе и появлении первых школ.
Вспомнили Кондинскую (Нахрачинскую), в которой более ста лет назад учительствовал крещеный ханты, священник Пакин; Березовскую, где, по слухам, ходят призраки то ли гимназисток, то ли есаула, на чьи деньги построена школа… «Странно, что в Самарово — изначальной части окружного центра, не было школы», — заметила я. Юрий Георгиевич возмутился: «Как это не было?! Богатый владелец рыбных угодий Земцов в конце девятнадцатого века создал что-то вроде училища. Даже центральная улица, где находилась школа, называлась Школьной, почитай Хрисанфа Лопарева. Потом появилась ПШМ — школа промысловой молодежи. Еще ведь и татарская школа была. Преподавали там приезжавшие из Тобольска муллы, а стояла она примерно там, где сейчас гастроном».
Всезнающий Созонов немного ошибся в местонахождении школы и ее учителях. Хорошо, что нашлись бывшие ученики, которым сейчас по восемьдесят лет или чуть меньше — фронтовик Измаил Хайруллович Муратов, двоюродные братья Бекшеневы — Атхам Айнутдинович и Шигап Фахрутдинович (которого в Ханты-Мансийске по-русски называли Александром Трофимовичем). Их воспоминания и легли в основу моего рассказа о татарской школе в Самарово. Очевидно, единственной такой в округе.
Располагалась школа в основании нынешней улицы Кирова и Чапаевского лога в доме одного из самаровских купцов. Здание было большим, красивым, его крыша покрыта железом (больше таких домов в Самарово не было). Преподавал (и был директором школы) Амиров, его русская жена вела русский язык. Оба были высокообразованными интеллигентами, никакого отношения к сословию священнослужителей не имели. В четырех классах школы училось около тридцати человек — проходили все обязательные для начальной школы дисциплины — чистописание, арифметику, русский и татарский языки, татарскую литературу, географию, историю. Обучение шло на арабском языке. Кстати, Корана и других религиозных книг в школе не изучали. Оно и не могло быть иначе: в советской богоборческой стране не было места религии. Юные татары Самарово, как и их русские сверстники, росли атеистами.
Вскоре в школу приехали еще два молодых учителя, оба светские люди, в европейских костюмах. Одного из них — Шапикова, Шиган Фахрутдинович запомнил не только потому, что тот много чего знал, но и потому, что от него всегда пахло хорошим одеколоном, что для сельских ребят, какими являлись самаровцы, казалось чудом. Вскоре арабский язык упразднили, введен был новый алфавит. Учебников не хватало. Учителя выдавали по одному учебнику на несколько человек, однако на качестве учебы это обстоятельство не отражалось. Учились все старательно.
Началась война. На фронт ушли Ахтам, старший брат Шигапа Бекшенева, Измаил Муратов, другие выпускники татарской школы, некоторые погибли в боях за родину. В Ханты-Мансийск возвратился только Измаил Хайруллович Муратов. По существующим правилам учителей на фронт не брали, но татарские педагоги все равно воевали, и их дальнейшая судьба не прослеживается.
В 1942 году татарская школа была закрыта. Детей перевели в недавно открывшуюся школу №2. Первым директором назначили Николая Ипатьевича Хомылева. Он был замечательной личностью. Учился в Тобольской духовной семинарии, потом преподавал и директорствовал в старинном русском селе Сухорукове на Оби. Это был строгий наставник, который старался, чтобы его ученики стремились повысить уровень своих знаний. Такой же была его жена Анна Федоровна. Они видели, как тяжело татарским детям переучиваться, осваивать русский литературный язык, который они прежде учили как иностранный, и помогали ребятам. Поощрения за учебу были разные: от похвалы и путевки в пионерский лагерь (он находился на горе, за второй школой) до материальной поддержки. «Меня за отличную учебу, благодаря Анне Федоровне, наградили костюмом и кирзовыми сапогами», — вспоминает Шигап Фахрутдинович, и даже сейчас, спустя шестьдесят два года, в его голосе звучит нескрываемая гордость за себя и учительницу.
Судя по воспоминаниям, татарская школа существовала с конца двадцатых годов, когда советская власть на Севере утвердилась. Школьная обстановка была спокойной, без национальных распрей и терактов. Драки между мальчишками были, но считались обычным явлением и даже проявлением доблести.
Ханты-Мансийск
«Новости Югры», 20 февраля 2007 года