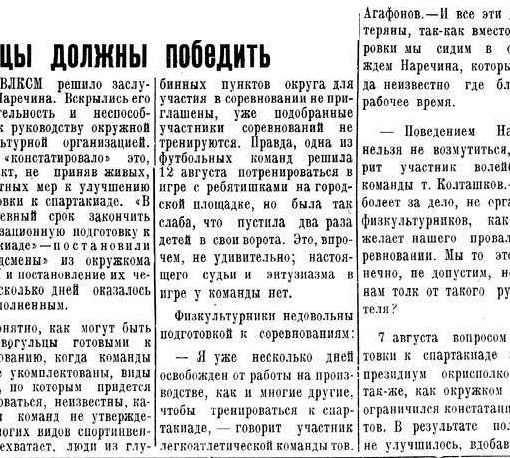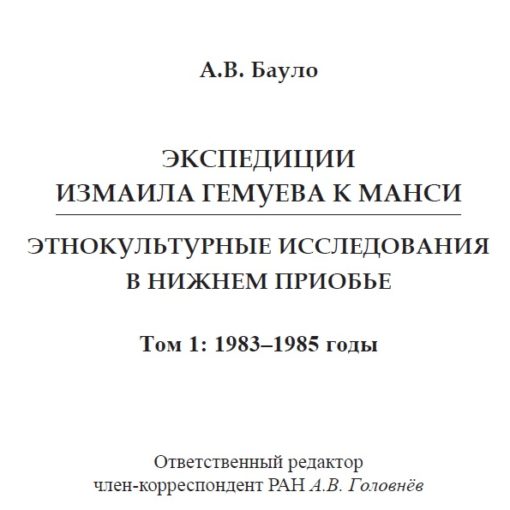Тамара Макаровна Жилина (Корепанова)
…Родилась я в 1926 году в селе Сухоруково Самаровского района на левом берегу Оби, в бедной семье. Мама моя Корепанова Анна Васильевна и отец Корепанов Макар Матвеевич проработали всю жизнь в колхозе.
Пять лет я проучилась в селе Сухоруково, а потом там сгорела школа. Новую школу строить было не из чего и нас, всех учащихся, перевели в село Елизарово. Из села в село ходили пешком, а это 20 километров. Зимой иногда почтари или ямщики подвозили на своих повозках. На неделю мама нам давала по два рубля и замороженные продукты: суп, молоко. Жила я у тёти, после учёбы водилась с племянницей и ходила к фельдшеру мыть пол. За это меня иногда кормили или давали какие-нибудь продукты питания.
Но 6 классов не пришлось закончить, сильно заболела мама, и меня вызвали в Сухоруково. Целую четверть я просидела дома, ухаживая за больной мамой. Когда болезнь немного отступила, мама меня снова отправила на учёбу. Проучилась я два месяца и заболела теперь уже сама — малярией. На этом закончилось моё образование.
После выздоровления пошла работать в колхоз. Приходилось делать любую работу: летом все были заняты на прополке, а осенью возили на лошадях снопы в скирды на ток, где обмолачивали зерно от снопов. Помню, здесь, на току, произошёл несчастный случай с моим братом Борей. Он подгонял лошадей, которые подвозили снопы. Край его пальтишка подмотало к самому колесу, и он сломал ногу. Пришлось везти его в больницу 12 километров в поселок Урманный.
С 16 лет я работала в рыболовецкой бригаде. Мелкие речушки перекрывали мерёжными сетками, протоки рек закрывали запорами. Когда начинался лов рыбы, приходилось работать сутками: сутки рыбачили, а на вторые сдавали рыбу на плашкоут. Жили в балаганах. Была построена всего одна избушка, в которой мы питались. Спать приходилось очень мало. Кто утром просыпал лов, снижали проценты на получение талонов. Спорить тоже было нельзя, наказание одно — снизят проценты. За работу насчитывался каждому пай: мешок рыбы, мука, талоны на сахар, крупу, соль, спички. В те годы рыбы ловилось очень много. За один лов сдавали по 6-7 тонн рыбы. Вся работа была организована под девизом «Всё для фронта, всё для Победы!».
Кем только ни приходилось работать в колхозе: летом пасла коров, зимой работала на лесозаготовке. Помню, в Назымке мы работали на лесоучастке. Недалеко была зона для заключённых, и в дневное время мы валили лес вместе с ними. Зона была отделена от нас деревянным забором, а поверх пущена колючая проволока. Вот и все заграждения. Лес валили вручную и вывозили его на лошадях. Работа была очень тяжёлая, особенно сложно его было закатывать на самодельные платформы (плотбище). На лесозаготовках жили в деревянных бараках. Внутри сколочены нары в два яруса. На верхних нарах спали парни, мужчины, а внизу — женщины, девчонки. В центре барака стояла железная печка.
От непосильной работы весной мы задумали сбежать с лесозаготовки, но нас задержали сторожа. Через знакомых передали председателю записку, что нас хотят оставить на сплаве. Председатель ответил, чтобы мы возвращались обратно в колхоз, так как некому было работать в посевную, и каждая пара рабочих рук была на счету. На второй раз сторож нас не заметил, и мы благополучно добрались до дома.
А вот учиться всё же хотелось. Договорились тайно уехать со своей троюродной сестрой Тоней. Поступать решили не в Самарово, а в Салехард в ФЗО. Собрали в деревянные чемоданчики пожитки и отправились пешком в Елизарово. Там была пристань. Дождались теплохода-колёсника. А уехать была не судьба. Нас увидела председатель Панаева (очень строгая женщина), пристращала нас: «Кто будет работать в колхозе?» и сняла нас с теплохода. И мы со слезами вернулись в колхоз.
Написали письмо председателю райисполкома Старкову, чтобы он дал нам, колхозникам, разрешение на учёбу. Председатель оказался человек рассудительный и ответил, что колхозникам учиться надо. Сестрёнка моя втихоря уехала с бакенщиками до Микояновска, у неё там жил дядя, который весной её отправил учиться в Тобольск, в училище связи.
Меня тоже всё-таки отпустили в Самарово, но учиться было не на что и пришлось работать. Паспорт в то время деревенским не выдавали, чтобы они не уезжали в город, а оставались работать в селе. Без документов было сложно устроиться на хорошую работу. Поступила на работу на рыбокомбинат.
В то время он назывался рыбозавод. Это были деревянные помещения. Работали в основном сосланные калмыки. Вся работа была организована по сменам. В основном вся готовая продукция (консервы) шла на фронт. Был строгий учёт и контроль. В свободную продажу поступали только головы щуки, язя и других рыб.
Дали мне комнатку в калмыкском бараке. В комнате была железная кровать и самодельный столик. Можно было жить. На карточку выдавали 300 граммов хлеба.
Работали на разных работах. Сначала была учётчиком: выдавала ИТР и рабочим карточки на питание. Когда наступила зима, всех отправляли в рыбозаводской затон пилить дрова. Утром уходили пешком через реку Иртыш, а вечером обратно возвращались. Порой хватало сил только на то, чтобы добраться до кровати. Одежда была плохонькая. Молодые девчонки часто простывали и болели.
Поработать пришлось немного, по семейным обстоятельствам я вернулась домой в свою деревню. Снова стала работать в колхозе на разных работах.
В конце 1944 года меня родственники пригласили в Ханты-Мансийск. Мой дядя Бардин Павел Павлович был одним из первых руководителей окружного архива. Но когда я приехала, он уже ушёл на фронт. Жена его, Ольга Николаевна, работала заведующей яслями имени Кирова. Она взяла меня на работу в прачечную гладить бельё.
Чуть позже она меня устроила на работу в пожарную часть, что стояла на улице Комсомольской. До сей поры помню, как я работала пожарником. Тогда была полувоенная дисциплина. Смену сдавали каждый раз, выстраиваясь на линейку. В то время в городе была всего одна пожарная машина, на которой работал шофёром Устинов Женя. Во время пожара воду возили в бочках на лошадях. Помню, мы отличились при тушении пожара старого здания ДОСААФ и горрыбкоопа. За хорошую работу мне дали 1 метр 20 сантиметров штапеля на юбку.
9 мая в день Победы я стояла на посту на пожарной каланче. Начальник смены Пётр Павлович Панкин мне крикнул: «Вышка, война кончилась!». У здания кинотеатра состоялся митинг. Денёк был тёплый, ясный. Радости не было предела: кто-то смеялся, кто-то плакал. Только закончился митинг, и пошёл снег.
Недолго продлилась моя городская жизнь. По воле судьбы я снова возвратилась в деревню. И снова стала работать в колхозе.
В 1947 году брат Алексей прислал нам вызов на Сахалин. Из колхоза нас отпустили, и мы с мамой, две безграмотные женщины, поехали в Ханты-Мансийск в милицию, чтобы получить паспорта. Конечно, мы их не получили. Да ещё в придачу остались и без хлебных карточек. О поездке куда-то даже не было и речи. Купили на последние деньги по ул. Большая Луговая избушку-полуземлянку. Жили вчетвером: мама, я и двое малых братишек.
Мама заболела и пролежала в больнице с перерывами два года. Вот тогда мы хватили горя. Я пристроилась на работу в промкомбинат в лесопильный цех. От тяжёлой работы и вечного недоедания тоже попала в больницу. Маленьких братьев пришлось сдать в детский приёмник. Находился он тогда по улице Кирова. Затем их распределили в детские дома: старшего Владислава в село Вершину, а Бориса — в Батово.
Но жить как-то надо было. И опять начались поиски работы. Мою мечту — поступить в педучилище — пришлось забыть навсегда. На руках была больная мама. Нужно было зарабатывать на жизнь и на хлеб. А кому я нужна была без образования?
Где только ни пришлось работать за мою жизнь. Последние 11 лет перед пенсией работала в речном порту, сначала матросом, затем в камере хранения.
Сейчас я уже давно на пенсии. У меня взрослая дочь, которая воплотила мою мечту в жизнь — она педагог. Замечательные внуки. Я ветеран труда. За свой труд награждена медалью «За победу над Германией», нагрудным знаком «50 лет Победы». Как хорошо, что мы, тыловики, остались незабытыми.
2005 г.