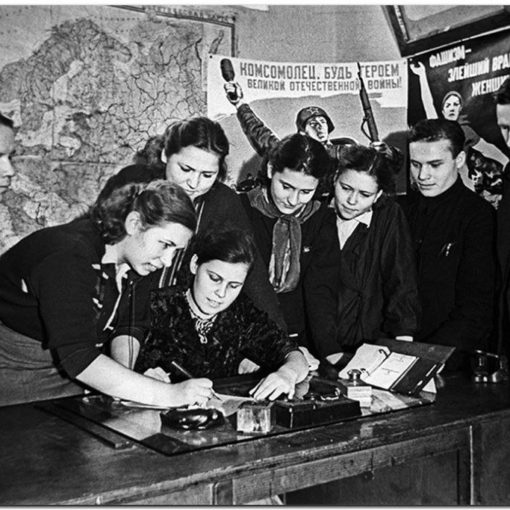В. Конев
Наш отец, Дмитрий Иванович Конев, родился в 1885 году в крестьянской семье, в селе Конево Самаровской волости Тобольского уезда. Участвуя в первой мировой войне, получил он ранение в ноги, лежал в госпитале, в Петербурге, где навещал его уроженец села Самарово Хрисанф Мефодьевич Лопарев, ученый с европейским именем. Дом, где родился Х.М. Лопарев, был перестроен на его же средства для племянников — Платона и Петра, и других членов их большой семьи. Улица теперь называется именем Кирова, дом снесен и на этом месте воздвигается двухэтажный кирпичный. Платон — это не кто иной как командир партизанского отряда на Обском Севере.
Отец, после выписки из госпиталя, в течение нескольких дней проживал на петербургской квартире Хрисанфа Мефодьевича по улице Садовой, в той же, где до него жил баснописец И.А. Крылов Перед расставанием Хрисанф Мефодьевич с отцом сфотографировались на память. Эти фотографии постоянно висели в нашем родительском доме и мы, дети, с восхищением глядели на них. Еще бы! Наш отец на фото с таким известным ученым. Говорили, что он был нам родственником, но каким, к сожалению, так и не выяснили при жизни родителей.
Первая жена отца рано умерла, оставив ему на попечение двух приемных детей — Феладельфа и Акулину. Со второй женой, нашей матерью, Еленой Ивановной Коневой, родившей ему семерых парней, он прожил до конца своих дней.
Когда создавался колхоз, отец не вступал в него, наблюдая со стороны. Видел, какое отношение было у людей к работе! Крестьянин среднего достатка, он сомневался в истинности идеи «светлого будущего». Потом, под нажимом «народных масс», подал заявление в колхоз. Но спустя две недели взял заявление обратно, убедившись окончательно в никчемности, как выражался потом, бредовой затеи. Случай этот был в селе уникальным. В ту пору я осуждал его поступок, расценивал отца как «консерватора», идущего «не в ногу со временем». Да и откуда мне, мальчишке, было тогда знать. Ведь все мы «прозрели» только через много лет.
Как жили-работали колхозники? Да так же, как и в других селах: пахать, сеять ли, на сенокос выезжали пока солнце не поднимется высоко над горизонтом. Заинтересованности никакой: сплошная уравниловка. За качеством не следили. Все это не могло не отражаться отрицательно на итогах года. Трудодень катастрофически беднел. Бесхозность проявлялась во всем: поедут ли колхозники на рыбалку, обязательно в лодках не окажется беседок или чего другого: кто-то «прибрал к рукам». Но ехать надо! И они идут к моему отцу: «Дядя Митя, дай беседку, дай весло». Отец, конечно же, выручал. Но нередко взятое не возвращали.
Наша усадьба была огорожена высоким заплотом, как тогда называли изгородь из тонких бревен, плотно пригнанных одно к другому. Заплот этот стоял годами целым, надежно ограждая летом гряды с овощами от приблудных животных, а зимой от заносов снегом. Местами звенья заплота разрывались постройками для скота и лошадей, обширным амбаром — завозней с высоким чердаком.
Говорят, раньше у нас было много скота. Помню, как на стол подавали мясо молодых жеребят. Потом, из-за непомерных налогов, которыми нещадно облагали крестьян, остались три коровы, две телушки, до десятка овец и одна кобыла Рыжуха. Бывшие тогда председатель Совета Федор Иванович Добрынин и секретарь Кирилл Трофимович Конев (замечу, что к работе они относились старательно) помогли составить отцу прошение на имя председателя Верховного Совета СССР М.И. Калинина, Всесоюзного старосты, как его тогда называли, о снижении налога. Ответ пришел положительным: «оброк» понизили. Создавалось впечатление, что, облагая крестьян налогами, тем самым пытались всех уравнять и поставить в одну шеренгу.
Достаток в семье достигали собственными силами и средствами, работали «от зари до зари». Лишь иногда, в страду сенокоса, нанимали двух работников. Наверное, это и спасло отца от раскулачивания, заступились жители села. Некоторое время у отца в хозяйстве работал ханты Лука Федорович Ернов, впоследствии депутат Верховного Совета РСФСР. Спустя много лет, по его ходатайству, меня и старшего брата приняли в хантыйскую школу на полное государственное обеспечение. Проучились в ней только один год, школу закрыли, а нас перевели на подготовительное отделение педучилища.
Рыбалка была второй после животноводства статьей материального обеспечения семьи. Главным орудием лова у нас был невод.
Замечу, что выезжать на более рыбные утопия имели право колхозные бригады, а мы довольствовались худшим. Но и на этих уловом рыбы были довольны: хватало и для сдачи государству, и для себя.
В большую воду уловы, как правило, были хорошими. Так было и в 1941 году. Весной вода залила буквально все. Едешь на лодке, вокруг — «море да вода», как говорят у нас в народе. Не видно и клочка суши. Оставалась незалитой водой таежная часть, находящаяся на возвышенном месте.
Лишь только начала сходить вода из соров и обозначаться берега рек, стали готовиться к ловле неводами. С появлением тоневых мест уловы стали внушительными. Тем летом все планы рыбодобычи перевыполнили. Мы тоже сдали изрядно, зато отоварились четырьмя мешками муки. А это был хороший добавок в то тяжелое время.
Немалое значение в рыбной ловле имел опыт отца. Он всегда имел с собой сумку с принадлежностями для ремонта невода — нож, нитки, специальную иглу. Распорют ли мережу невода задевами или порвет при притонении крупная рыба, пытаясь уйти, он сию же минуту после окончания тони обязательно зашьет, исправит порванные места. А как нарядно выглядел невод при сушке на вешалах! Наплав — к наплаву, кибас — к кибасу! Замечу, что в ту пору о мереже из капрона даже не мечтали, поэтому требовался постоянный тщательный уход за ней, чтобы удлинить срок эксплуатации неводов.
Содержание в исправном состоянии неводов, как и других орудий лова, — это лишь одна сторона успеха рыбалки. Опытный рыбак учитывает погодные условия, глубинный рельеф реки, места выброса невода, время суток, умело используя их в каждой конкретной ситуации. Обладая всем этим, отец, однако, иногда «обманывался», то есть ожидания удачного результата не всегда оправдывались. В таких случаях он восклицал: «Вот и поди!». Когда же в урочище, по его разумению, не могло быть большого улова, а он тем не менее был, восклицание его было то же: «Вот и поди!».
Притонение невода, близость мотни — всегда ожидание сюрприза. И когда в замкнутом водном пространстве полукруга со все уменьшающимися размерами начинает бурлить рыба, учиняя сумасшедший плеск, а порой, и выпрыгивая через верх — рыбак в восторге. Вываливаешь добытое в лодку, добыча трепещет, поблескивая серебром. О чудо! Выбрав из места притонения невод в лодку, возвращаешься домой, а там, на берегу реки, уже ждут «угощения» селяне со своими емкостями. И разве жаль выделить часть улова, когда в лодке рыбы на треть!
Заготовка сена, пожалуй, самый волнующий и тревожный период крестьянской страды. Сенокос нужно начать в срок, чтобы трава не успела перестоять и потерять качество. Здесь важны все этапы. Как и положено, за скошенной травой следишь чтобы успела просохнуть до дождя, переворачивали кошенину, затем делали копны. При скирдовании копны сваживали к будущему стогу при помощи лошади, но часто перетаскивали их, на так называемых носилках — двух гладко оструганных и поостренных на концах длинных жердинах, которые подталкивали под основание копны. Чтобы сметать стог (скирду), требуется умение. Он должен быть достаточно высок и хорошо завершен, чтобы не застаивалась дождевая вода. Потом отец подает вилами стоящему на стогу сплетенную из сена, наподобие косы, веревку. Опутывает ею крест-накрест стог, натягивает, чтобы никакие ветры не смогли разметать сено по полю.
Идешь по лугу, смотришь окрест, на возвышающие стога и без труда определишь. где чей. Вот здесь, вблизи наших, стога также старательно уложены, похожи один на другой, значит — метала чья-то семья для себя. А глянешь на другой конец речки, где тоже стоят стога сена, и видишь другую картину: они, как солдаты в строю у нерадивого командира: один наклонился в одну сторону, другой — в другую, вот-вот упадет, а третий, похоже, и совсем не завершен, кандидат на поражение грибной микрофлорой после первого дождя. Чье же творение? Конечно, здесь хозяйствовал не частник. Это результат колхозного (то бишь бесхозного) труда.
В 1941 году с сенокосом произошла трагедия. Из-за позднего, чем обычно, спада воды с лугов трава полегла, косить ее было невозможно. Пришла бескормица. Многие лишились тогда скота, забивали даже коров. В колхозе тоже следовало бы сократить поголовье, оставив для воспроизводства маточное стадо. Но сделать этого не могли без указания сверху. Указаний же так и не дождались. И заморенный с осени скот стал тощать, гибнуть. В такой ситуации головотяпам не оставалось ничего иного, как искать виновных «врагов». И их нашли в лице председателя колхоза Лаврентия Ефимовича Шашкова, полевода Нила Андреевича Конева, кладовщика Василия Григорьевича Конева — всего стрелочников было пять человек. Определенная народным выездным судом высшая мера наказания позднее была заменена десятью годами тюрьмы, в которой их и уморили…
…В войну часто болели. Особенно кожными заболеваниями, главным образом, чесоткой. Баня являлась единственным источником профилактики и санитарной культуры. Но в селе было только три бани. Причем, колхозная подолгу не работала, на частную баню — владельцев Ахмановских — селяне не рассчитывали. Оставалась только наша, Дмитрия Ивановича. И у отца не было отказу. Мы сами, конечно, топили ее для себя. Но отец, любитель парной, часто приходил, на правах хозяина, к «просителям» попариться. На полок садился в шапке и рукавицах. Неопытный лучше с ним не садись — обожжешься! После первого захода — в предбанник. И снова — в парилку! Бывало, летом мужики прямо из бани выбегали и прыгали в реку охладиться.
Весь уклад деревенской жизни диктовал необходимость заниматься кустарничеством, ремеслами, так как приобрести хозяйственный инвентарь было негде, да и не на что. И отец в этом отношении был мастер на все руки. За что бы не взялся, все кипело в руках. А ведь он был инвалидом второй группы (с первой мировой войны), передвигался с помощью костылей (потом после порубки хулиганом бамбуковых костылей, он смастерил их из дерева), имея ранение в ноги. Лодки, которые были у нас, — тоже дело его рук. Причем, смолу, деготь, применявшиеся для заделки швов и покрытия всей поверхности лодки, готовил сам, на месте.
Сани-дровни и сани-розвальни он не только делал для себя, но и на заказ в колхоз и другим частным лицам. Для чего соорудил на усадьбе устройство для загибания полозьев, которым предварительно, с помощью топора и рубанка, придавал соответствующую форму, замачивал, вкладывал в устройство, загибал с помощью рычагов и оставлял на продолжительное время в фиксированном положении— сначала в устройстве, а затем где-нибудь у стены. После этого уже мастерил сани.
Было такое зимнее одеяние — «гусь», из телячьей кожи. И выделка, и шитье — тоже дело его рук. Кузовья из бересты, черенки к лопатам, топорище… Всего не перечтешь!
Как воспитывали нас родители?
Никаких бесед, нравоучений, конечно, от них мы не слышали. Да и о чем могли они, малограмотные крестьяне, говорить с нами? Что надо хорошо учиться, не баловаться, не воровать, помогать по дому? Самым действенным средством воспитания был их личный пример. Сами отец и мать жили между собой в мире и согласии. Не припомню, чтобы они когда-нибудь ссорились между собой, с соседями, селянами вообще. Зато с каким старанием занимались они хозяйственными делами. В летний период солнце никогда не заставало их в постелях. И если, когда говорят про кого-то, что работает он «от зари до зари», то такое определение относилось и к моим родителям.
Как все дети, мы, братья (сестер не было), баловались между собой, но каких-либо проступков за нами в селе не водилось. Ремень по спине и ниже никогда нас не касался, хотя в других домах он висел для устрашения на «почетном» месте. Если мать и хлопала нас по спине, «хребту», как она говорила, то только символически. Отец работал с увлечением, стараясь любое дело довести до конца, при хорошем качестве. Во всем любил порядок. Ему импонировали грамотные люди. Похоже, сожалел, что пришлось окончить только три класса церковно-приходской школы. Не раз слышал от него, что если бы был он грамотным, стал бы «начальником». В селе он был уважаемым человеком, к его мнению и совету всегда прислушивались. Вся эта аура почтения и доброжелательности к родителям, естественно, не могла не наложить отпечаток на наше сознание.
Мы рано постигли тяготы физического труда. Какие только работы не выполняли! Приходилось часами стоять за козлами по распилке дров; на рыбалку выезжали в лодке на гребях (моторов еще не было), идти бечевой, подобно бурлакам, таща лодку по воде против течения; ухаживать за скотом. Мы видели отдачу от своего труда, его полезность… Анализируя сейчас прошлое, убеждаюсь, что Его Величество Физический Труд занимал главенствующее место среди элементов воспитания.
Родителей никогда не беспокоили учителя по поводу нашей успеваемости и поведения в школе. Все мы учились хорошо. Таким образом, надежды родителей и по учебе, и по поведению оправдали.
Приходят в голову строчки — «Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии». И теперь, «на расстоянии» почти полувека с той поры, как не стало нашего дорогого отца, еще больше сознаю все величие им прожитого. Конечно, он не был гением, был обычным смертным, но по-житейски — мудрым. Его крестьянские неугомонные руки каждую, минуту были заняты делом. В его облике, равно как и в делах, все казалось простым, обыденным. И в то же время — необычным. Наверное, неспроста гласит народная поговорка «Вся мудрость — в простоте!»
Я горжусь своим отцом за то, что он, малограмотный мужик, единственный в селе, сумел убедиться на опыте первых лет существования (вот именно — существования!) колхоза в никчемности этой затеи. На опыте ведения собственного середняцкого хозяйства доказал пользу частной собственности на землю и средства производства. С малых лет воспитал в нас нетерпимость к воровству и лжи. Привил любовь к физическому труду, как необходимому условию гармонического развития личности. Помогая всем и вся, вселил в нас убеждение — видеть в людях доброе и оказывать помощь нуждающимся, в чем бы она не выражалась.
Вечная ему память!
п.Нялино
«Новости Югры», 27 июля 1995 года