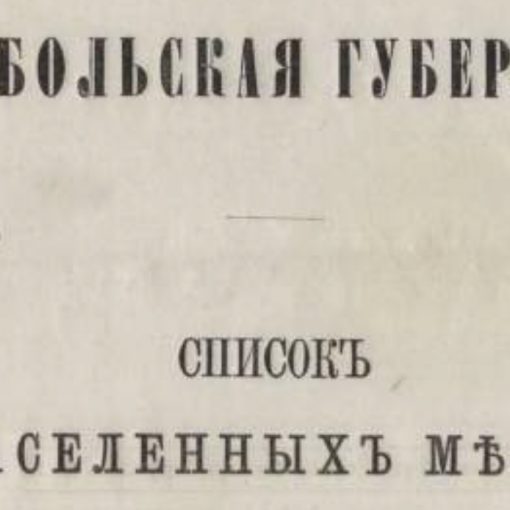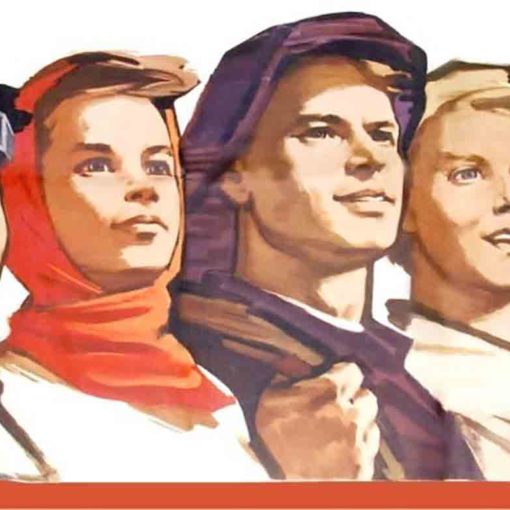Пятьдесят лет назад в нашем округе начала работу по исследованию почв, климата, а также по изучению возможности вести здесь сельское хозяйство окружная сельскохозяйственная опытная станция (тогда опорный пункт). Одним из тех, кто стоял у истоков ее создания, был первый директор опорного пункта Дмитрий Евлампиевич Перовский. Сегодня мы публикуем его воспоминания о тех годах, когда в нашем округе зарождалась научная сельскохозяйственная деятельность.
— Огромную мобилизующую роль в деле организации опытничества и развития сельского хозяйства в районах Крайнего Севера сыграло указание Центрального Комитета КПСС и Советского правительства об организации на Крайнем Севере в начале 30-х годов собственной продовольственной базы. В феврале 1932 года в Госплане СССР состоялась конференция, посвященная проблемам сельского хозяйства на Крайнем Севере, где было вынесено решение об организации сети опытных сельскохозяйственных учреждений.
27 марта 1932 года Наркомзем РСФСР обязал управление Крайнего Севера организовать в 1933 году в районах Крайнего Севера три научно-исследовательских учреждения, а именно: Алданский, Ярцевский и Остяко-Вогульский комплексные опорные пункты. На них были возложены следующие задачи: изучение климата, почвы, растительности и определение возможности произрастания сельскохозяйственных культур, агротехники их возделывания в разных климатических зонах; изучение видовых и породных особенностей местного скота, условий его содержания и кормления; разработка мероприятий по подъему продуктивности животноводства путем рационального кормления скота, улучшенного содержания и метизации его с другими породами; изучение кормовой базы.
В марте 1933 года на опорный пункт были подобраны первые научные кадры. В качестве заведующего и ответственного за организацию опорного пункта Наркомзем назначил меня, а помощником — аспиранта кафедры животноводства сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева М.К. Удальцова. До мая были разработаны планы работ опорного пункта и утверждено его финансирование.
В конце мая, снабженные на первый случай всем необходимым для работы, мы отбыли из Москвы, и в три часа утра второго июня старый пароход «Гусихин» после шестидневного плавания высадил нас на пристани Самарово. Несмотря на ранний час, ярко светило солнце, было тепло и тихо. Даже не верилось, что это уже Север. Деревья вовсю зеленели, трава обильно покрывала почву. Глядя на окружающую нас природу, мы уже и думать забыли о наших опасениях, что здесь невозможно будет вести земледелие и животноводство. Чтобы добраться от пристани до города, нужно было пройти около пяти километров. Средств передвижения, кроме коней, не было, а в ранний час нашего приезда и они отсутствовали. Поэтому мы решили, не дожидаясь никого, идти пешим порядком по берегу Иртыша.
И вот мы у цели. Но где город? Его нет. Есть только огромное количество пней, и среди них четыре(!) деревянных двухэтажных здания: окружкома и окрисполкома, НКВД, Дома культуры и аптеки, а в стороне от них недостроенное здание Уралпушнины. Таков был Остяко-Вогульск в те годы. Встретили нас радушно. Но увы — жилья не было. Пришлось довольствоваться комнатой в недостроенном здании Уралпушнины. Но это нас не смутило, была бы крыша над головой. Будущие дверь и окно мы занавесили одеялами, сделали топчаны и стол из досок, а стульями служили нам небольшие чурбаны.
По нашей просьбе на территории города около небольшой и мелкой протоки нам отвели во временное пользование участок в 25 соток для опытов с овощными культурами. На следующий день после приезда мы и приступили к его освоению. Вскопали лопатами, а к седьмому июня закончили сев. После сева участок огородили, а при подъеме воды, которая чуть не затопила наши посевы, мы его еще и обваловали.
Во время работы на участке мы не раз слышали рев медведя, очевидно, бродившего неподалеку в лесу, мимо нас спокойно проплывали по протоке дикие утки с выводками. Природа здесь была еще не тронута, девственно чиста. И думалось тогда, сможем ли мы воплотить задуманное в жизнь, сможем ли подчинить это буйство природных сил человеку. Учитывая, что основное население округа в те годы жило по берегам Оби, Иртыша, Сосьвы и Конды, где наряду с рыболовством и охотой издавна занималось и сельским хозяйством. Свой первый маршрут экспедиции мы наметили на север от Остяко-Вогульска до границы округа, то есть села Шурышкары.
В середине июля с пароходом, идущим на Север, выехали мы в экспедицию. Первую остановку сделали на пристани Шеркалы. На коренном берегу обследовали индивидуальные посевы, а в тайге нашли заброшенный участок земли, разрабатываемый под посевы. Первые выводы делать было еще рановато.
Необъятная территория поймы с мощной густой и высокой травой и восхищала нас и как-то подавляла. Морю травы не видно было ни конца, ни края. Только небольшими островками виднелась скошенная трава, а основная масса этого кормового богатства, на котором могли бы прокормиться тысячные стада животных, оставалась нетронутой. Шесть дней мы обследовали почву и растительность поймы, брали почвенные и гербарные образцы.
Из поселка Шеркалы пароходом мы доехали до села Березово, в окрестностях которого провели второе такое же обследование.
Был конец августа, когда мы добрались до села Шурышкары. Во время поездки уже после Березово мы стали наблюдать резкое обеднение растительного ландшафта. И чем севернее, тем беднее становилась природа. Меньше было богатых травой пойм, кедровые и еловые леса стали заменяться редколесьем и кустарниками. Было ясно, что это переходная, а у Шурышкар типичная лесотундровая зона. Несмотря на бедность и суровость природных условий, все же в Шурышкарах на южной стороне и под защитой леса мы нашли посевы ячменя, гороха, лука, чеснока, репы, брюквы и картофеля. Местные жители рассказывали, что посевы они делают ежегодно, но они не всегда бывают удачны, ранние заморозки губят их.
В первых числах сентября, когда уже наступили, устойчивые холода, и временами стал сорить снежок, мы выехали обратно.
В Остяко-Вогульске было еще тепло, и по приезде мы в первую очередь занялись уборкой опытных посевов овощных культур, а после этого — разрешением очень важного и ответственного вопроса — выбором места под строительство опорного пункта и места для закладки опытных полей.
Обсудив эти вопросы с руководящими работниками округа, мы пришли к единому мнению, что предпочтительным и лучшим как теперь, так и в перспективе будет участок, расположенный около радиостанции неподалеку от Самарово возле дороги, соединяющей город с пристанью Самарово.
Весной 1934 года был произведен землеотвод площади около радиостанции в размере 75 гектаров на пойме реки Иртыш, около так называемой протоки «Березовой» на площади 300 гектаров. Весной 1934 года на отведенном месте, где рос могучий кедровый лес, началось строительство здания под кабинеты и лаборатории опорного пункта. Весной 1935 года строительство его было закончено. До 1937 года были построены жилые дома для научных сотрудников, теплицы, парники, скотный двор, амбар, кузница, столярная мастерская. Строительство, особенно первый год, шло медленно как из-за
недостатка рабочей силы, так и потому, что строительные работы совмещались с валкой и раскорчевкой леса под строительство. Кроме того, за исключением леса все остальные строительные материалы: железо, гвозди, стекло, олифа, краски, печные приборы и ряд других — на месте мы не могли получить, и нам приходилось завозить их из Москвы.
Одновременно со строительством шло освоение лесной площади под посевы. Работа эта при отсутствии механизации была очень тяжелой. Но несмотря на все трудности, люди метр за метром упорно отвоевывали у леса пашню, и к 1936 году размер ее достиг двух гектаров. К этому году всего под опытными посевами пашни находилось уже 6,5 га.
После первого года работы мы поняли, что для правильных выводов и правильных рекомендаций недостаточно только стационарной работы на опорном пункте, а для проверки и корректировки наших выводов в отдельных почвенно-климатических зонах округа следует иметь опорные точки хотя бы в виде любителей-опытников, хат-лабораторий и т.п. Поэтому уже в первые годы мы принимали энергичные меры по поиску и установлению связи с опытниками и организации на местах хат-лабораторий. В частности, в Самаровском районе были организованы Горно-Филинская, Реполовская, Мануйловская и Нялинская хаты-лаборатории.
Здесь работали наши помощники, которых мы старались обеспечивать специальной литературой, очными и заочными консультациями, инструкциями по опытам, семенами и т.п.
Для пропаганды достижений науки ежегодно устраивались сельскохозяйственные выставки на опорном пункте. В тех же целях сотрудники опорного пункта за четыре года в местной и областной газетах опубликовали до 30 статей, а в 1935 году была издана специальная брошюра.
Говоря о работе опорного пункта, нельзя не сказать о людях, чьим трудом и заботами создавалось учреждение и закладывалась опытная работа в округе. Вместе со мной на организацию опорного пункта приехал в 1933 году научным сотрудником по животноводству Михаил Константинович Удальцов. Он был хорошо эрудированный специалистом, без особого труда переносившим все невзгоды первого года жизни и работы на Севере. Но, к сожалению, долго поработать ему не пришлось. Весной 1934 года его призвали в ряды Советской Армии. На смену ему пришел Владимир Петрович Морозов.
В 1934 году штат научных сотрудников был увеличен до четырех человек. Старшим научным сотрудником по овощеводству был назначен Виктор Максимович Шувалов, который долго и плодотворно работал на опорном пункте, а потом на опытной станции. В качестве младшего научного сотрудника по семеноводству три года на пункте работала Ф.А. Перовская.
Работу отдела животноводства с 1935 года возглавил Федор Владимирович Вашкевич. Старый северянин-опытник (ныне покойный), который за годы своего труда значительно выправил работу по животноводству, расширил и углубил ее. В том же 1935 году на новую штатную единицу заведующего почвенной лабораторией был приглашен аспирант кафедры почвоведения Тимирязевской сельскохозяйственной академии Александр Петрович Мершин (умер в 1973 году), который организовал лабораторию и провел большие почвенные обследования на полях опорного пункта и округа. Впоследствии он работал доцентом кафедры и почвоведения сельхозакадемии.
В опытной работе мы всегда ориентировались на самые злободневные вопросы, требующие срочного разрешения в практической работе. Например, в растениеводстве мы вели испытания приемов, ускоряющих процесс развития растений и обеспечивающих получение более высоких н устойчивых урожаев; подбор видов и сортов полевых и овощных культур, наиболее пригодных в местных условиях; исследовали приемы обработки почвы и подъема почвенного плодородия с применением местных удобрений; изучали почвы. В животноводстве выявляли и изучали основные породы крупного рогатого скота и овец, встречавшиеся в округе, а также условия их кормления и содержания; разрабатывали рационы кормления и содержания коров и молодняка рогатого скота на базе местных кормов.
В растениеводстве нами был выявлен и установлен ряд ценных для практики результатов. Так, после нескольких лет опытных посевов выявилась непригодность посева озимых на пойме из-за ежегодной их гибели от затопления и лучшие результаты посева там яровых зерновых по сравнению с посевами на коренном берегу. Установлены оптимальные сроки сева озимых (20—25 августа) и яровых — при первой возможности обработки почвы и посева (конец мая, первые числа июня). Из имевшегося на опорном пункте ассортимента зерновых и овощных культур были выделены наиболее пригодные для местных условий. В местном аборигенном картофеле была выявлена наиболее скороспелая и урожайная форма, названная «Самаровская розовая», которая размножалась и рекомендовалась для массовых посадок.
В животноводстве мы выявляли породы крупного рогатого скота, которые разводились в округе. Выяснилось, что здешний скот — выходец из южных районов Сибири, временами подвергавшийся метизации улучшенными породами и, в частности, «Ярославской». Но из-за плохого питания и содержания скот оставался мелким и достигал у взрослых коров всего 250-270 килограммов живого веса. Вес теленка при рождении в среднем был 15 кг. А средний годовой удой молока равнялся всего 700-800 килограммам.
Метизация местного рогатого скота Тагильской породой, проводившаяся на опорном пункте с 1935 года, при одновременном улучшении содержания и кормления, резко изменила показатели. Так, вес теленка метиса при рождении был равен 22-26 кг, ежесуточный привес его в молочный период равнялся 0,8-0,9 килограмма, в то время как за этот же период теленок местной породы в таких же условиях давал привес только 0,4 кг. К шестимесячному возрасту вес метиса достигал 150 кг, а к году — 230-260 кг, т. е. был равен весу беспородной матери, в то время как за год вес местного теленка в среднем достигал всего 100—120 кг. В то время, т. е. до 1937 года, удой метисов еще не удалось установить, однако уже тогда влияние улучшенного кормления и содержания на удой местного скота обернулось значительной прибавкой надоев. Так, родоначальница стада опорного пункта корова местной породы под кличкой «Обь» в возрасте одиннадцати лет на девятой лактации за 300 дней дала удой в 1 885 килограммов, что говорило о немалых возможностях подъема продуктивности местного скота. А метизация местного скота Тагильской породой сулила еще большие перспективы.
В 1936 году в Москве при ВАСХНИЛ проходило первое широкое совещание по научно-исследовательской работе на Крайнем Севере. На совещании были подведены итоги проделанной работы, дана ее оценка, намечены меры улучшения и планы на будущее.
Проделанная Остяко-Вогульским опорным комплексным пунктом работа на совещании была оценена с положительной стороны. На этом основании, а также учитывая потребность развивающегося округа в сельском хозяйстве, совещание приняло решение о реорганизации опорного пункта в опытную станцию. В последующие годы Наркомзем провел это решение в жизнь.
«Ленинская правда», 25 января 1984 года