Галина Швец
Считается, что цивилизация в таёжную глухомань Кондо-Сосьвинского Приобья, на территории которого расположен Советский район, пришла в конце первой половины XX века с началом строительства железной дороги Ивдель — Обь. Она действительно положила начало промышленному освоению богатейших запасов древесины. Между тем, за несколько десятилетий до того, когда ожила, загудела стальная магистраль и пошли по ней первые вагоны с добытым лесом, уже существовал обжитый людьми островок, имя которому — Хангокурт.
Места, где издревле жили манси, в начале прошлого столетия привлекли обилием пушного зверя людей посторонних, не местных. Добытчики пушнины без жалости отстреливали и практически уничтожили соболя. На грани полного уничтожения оказался и западно-сибирский речной бобр. Спасти животных могла только организация заповедника, что и произошло в 1929 году благодаря неимоверным усилиям тобольского охотоведа Василия Васильева, знаменитого Васьки-Ойки-Суд-Кожаного Чулка, как уважительно называли его таёжные аборигены.
Управление Кондо-Сосьвинского заповедника вначале размещалось в селении Шухтунгорт, в 50 километрах от границ особо охраняемой территории. В 1938 году новый директор заповедника Яков Самарин, сменивший на этом посту Василия Васильева, решил переместить управление заповедника из Шухтунгорта поближе к его границам — в юрты Хангокуртские. На правом берегу Малой Сосьвы, в 300 километрах от нынешнего города Советского, начала строиться новая база заповедника. К двум-трём мансийским избушкам быстро прибавились деревянные жилые дома, клуб, школа, интернат, почта, магазин, пекарня. Самым большим и красивым стало здание административного корпуса, ставшее “сердцем» заповедника. В нём были и контора, и лаборатория, здесь же жили и сотрудники. В конце 1940 года население Хангокурта вместе с местными жителями составляло около 150 человек. Большинство из них, техники и рабочие-строители, было жителями временными.
Предвоенный Хангокурт являл собой уникальное поселение. Здесь вели традиционный образ жизни аборигены: охотились, рыбачили, поклонялись святым местам и лесным духам. Рядом с ними жили, изучая растительный и животный мир тайги, сотрудники заповедника. Некоторые из них уже имели громкие имена в отечественной науке.
Хангокурт того времени можно было назвать “дворянским гнездом». В заповеднике работали люди, получившие блестящее образование, потомки древних знатных родов — зоологи Василий Николаевич Скалон и Вадим Вадимович Раевский. В конце 1940 года сюда были направлены на работу из Ленинграда ботаники Кронид Всеволодович Гарновский и его жена Евгения Витальевна Дорогостайская. Вместе с ними научно-исследовательской работой занималась зоолог Зоя Ивановна Георгиевская, вёл фенологические наблюдения Пётр Петрович Игнатенко, на промыслово-охотничьей станции трудился Александр Григорьевич Кретин.
Самые подробные воспоминания о жизни в военном Хангокурте оставил К. Гарновский. Именно его дневники дают наиболее полную картину быта коренных жителей и сотрудников заповедника, отношений между ними. Дополнила и закончила заповедные мемуары мужа уже после его смерти Е. Дорогостайская. В 1993 году в библиотечке журнала “Югра» вышла небольшая книга К. Гарновского “В Кондо-Сосьвинском заповеднике 1940-1945″. В 2002 году увидела свет документальная повесть “На службе природе и науке» Ф. Штильмарка. Научный руководитель проекта заповедника “Малая Сосьва», возрождённого через 25 лет после ликвидации Кондо-Сосьвинского, на основании исторических, архивных материалов, воспоминаний и писем его сотрудников рассказывает о людях, посвятивших свои жизни трудному делу охраны и изучения природы, в том числе и в тяжелое военное четырёхлетие.
В последнюю перед войной весну Кронид Гарновский писал в своём дневнике: “Яблони, вишни в цвету, песни жаворонка — об этом легко говорить, потому что это знакомо и почти у всякого находит отклик. Но как рассказать о северной весне, такой неброской, неяркой, но бесконечно дорогой для северянина? Тут радуешься не ярким цветам, а едва заметным колоскам пушицы на протаявших сфагновых кочках, первому жуку-дровосеку на сосновом пне, крохотной молевидной бабочке. Всё радость, всякая мелочь… Мы здесь, как Адам и Ева, одни перед лицом первозданного мира.”
Эти строки написаны в избушке на озере Хане-Тув, недалеко от Хангокурта, в которой жили молодые учёные, собирая таёжные растения и составляя геоботанические описания. Каждый новый день представлялся им спокойным и ясным. 21 июня 1941 года Гарновский и Дорогостайская пришли на центральную базу заповедника, в Хангокурт.
«А на следующий день радист принял сверхсрочную радиограмму: ВОЙНА! Как топором отрубило! Отрубило разом наполненную планами, надеждами, намерениями мирную жизнь каждого человека. Будущее кануло в какой-то бездонный провал, — вспоминал Гарновский. — Что-то тёмное, мрачное, почти физически ощутимое вошло в мир и проникло всюду. Война сразу окрасила собой всё. Нет, не окрасила, а скорее обесцветила, всё прикрыла серым флёром. Люди делали своё дело, но уже как-то по инерции…
Что ж, мы собрались на митинг, записались в добровольцы все поголовно, начиная с Самарина. Но из Берёзова нам сообщили, чтобы мы не торопились: вызовут каждого, когда надо будет.”
Войну в Хангокурте пережили не все его сотрудники. Совсем незадолго до её начала был переведён в Печоро-Илычский заповедник и внезапно умер там от сердечного приступа В. Васильев. В августе 1941 года уехал из заповедника вместе с семьёй В.Скалон.
Многие мужчины ушли на фронт, селение опустело и притихло. Простились друг с другом при встрече Кронид Гарновский и Вадим Раевский: “До свидания в Берлине!” Но ни тому, ни другому на фронте побывать не пришлось.
В сентябре 1941 года Гарновского и двух наблюдателей с Ханлазинского кордона вызвали в Берёзово в военно-учётный стол. Прощаться с родными было очень тяжело, сознавая особенно, что остаются семьи, жены и дети в таёжной глуши. Никто не знал, когда они отсюда выберутся, да и выберутся ли вообще. О том, что сами могут не вернуться с полей сражений, мужчинам думалось меньше.
Дорога в Берёзово была трудной и долгой. Спускались сначала до устья Малой Сосьвы на двухвёсельной лодке 400 километров, дальше — пароходом. Времени у Гарновского на горькие раздумья было больше, чем достаточно: “Русский народ умеет воевать. И не только умеет, но и любит воевать». Так сказано в газете. Что ж, оставим это размышление на совести автора. А я-то не подозревал, что в наше время есть целые народы, “любящие воевать”. Долг есть долг, но любовь…”
Несколько раз пришлось Крониду Всеволодовичу собирать вещмешок, отправляясь по срочному вызову военкомата, но снова и снова возвращался он в Хангокурт “до особого распоряжения». И каждый раз замечал, как менялся посёлок за время его отсутствия: “Притих он, чувствуется, что многих здесь уж нет, благополучные жёны стали горькими солдатками… Оставшиеся в тылу может быть почти подсознательно чувствовали, что от них тоже требуется участие в развернувшейся там, вдали, борьбе не на жизнь, а на смерть. В иных местах помощь фронту была явной, борьба за урожай, например. А в Хангокурте? Об этом много толковали на собраниях, на научном совете. Были всякие предложения. И вот всё население Хангокурта было “брошено» (кроме промышленников) на заготовку ягод брусники для армии и лазаретов. Год на бруснику был на редкость неурожайный. Сам директор, Пётр Петрович, Раевский и Женя разведывали места, где брусника всё же имелась». Но вывезти мешки с ягодами до весны 1942 года до Оби так не удалось. Лошади были заняты перевозкой рыбы и оленьего мяса для фронта.
Сотрудники заповедника часто задавались вопросом: имеют ли они моральное право в тяжелейшее для всей страны время заниматься зоологией и ботаникой? Судьба же их решалась за тысячи километров от Хангокурта — чиновниками Главного управления по заповедникам. Скоро Гарновский и Дорогостайская были вынуждены перейти в охрану заповедника, взамен ушедших на войну наблюдателей с Ханлазинского кордона. Их ботанические исследования по приказу вышестоящего начальства были закрыты. Закончить тему по изучению соболя разрешили только научному сотруднику Раевскому.
Феликс Штильмарк в своей повести не раз обращается к письмам В. Раевского, адресованным его сестре Ольге. Одно из них — из весны 1942 года: “Подножного корма здесь хватает, у кого хватает времени для добывания, скажем, мяса. Лосей здесь бьют, и нам продают мясо по ценам, практически от довоенных не отличающимся. Недавно распродали ягоду, которую не смогло отсюда вывезти сельпо. Картошка своя, хотя у безогородных людей, как я, и не всё время… И у меня всё время такое чувство, что незаслуженно мы пользуемся здесь покоем, а про напряжённую работу читаем в газетах — но здесь нет предприятий, промыслов, разработок, ничего производственного — остаётся помогать сокращением потребления и поддерживать заповедник и его научную работу на прежнем уровне до мирных дней”.
Раевский был несправедлив. Себя он не жалел, совершая зимой и летом многодневные экспедиции по тайге. Вадим Вадимович, много лет страдавший тяжёлой формой туберкулёза, не просился на “большую землю”, чтобы подлечиться, он не прекращал научных изысканий до конца своих дней.
«На износ” работали и другие сотрудники заповедника. Выходили на охрану границ заповедника, отлучённые от своего главного труда Гарновский и Дорогостайская. С Ханлазина затерянный в тайге Хангокурт казался им большим селением. Там была связь с внешним миром — рация, на кордон же все новости, в том числе и сводки с фронтов, приходили с большим опозданием. К наблюдателям иногда заходили в гости соседи ханты, жившие неподалёку своей обычной жизнью.
От скудной и однообразной пищи к концу зимы Гарновский заболел цингой. Отвар сосновой хвои по примеру жены он пить не мог. Но, наконец, в тайге закончился мёртвый сезон, наблюдатели начали охотиться на рябчиков и уток, и болезнь отступила.
Хангокурт был слишком далеко от линии фронта, но вся жизнь в нём, на первый взгляд тихая и размеренная, происходила с поправкой на войну. “Война разрушила всю систему опорных баз. Завозить в них было просто нечего, — писал Гарновский. — Люди получали по карточкам свой весьма недостаточный хлебный паёк и практически больше ничего. Сахару или иных сладостей, например, мы вообще не видели два года. Единственным способом просуществовать в тайге и притом работать продуктивно, не теряя сил и энергии, была охота, преимущественно на глухаря, поскольку эта птица встречалась почти повсеместно… Поэтому в 1942 году научные сотрудники, независимо от их специальности, получили право отстреливать боровую и водоплавающую дичь для своего питания во время полевых работ. Все, что от нас требовалось, — всякий раз записывать по возможности ботанический и прочий состав пищи в зобу убитой птицы… Таким образом, эта птица всё же не пропадала полностью для науки».
Перед самым концом войны жизнь в Хангокурте стала оживляться. Приехали новые научные сотрудники. Вернулись из тайги на базу Кронид Всеволодович и Евгения Витальевна, поселились в доме по соседству с местным магазином. Правда, торговать в нём было почти нечем. Каждый человек получал муку из расчёта 300 г хлеба в день. Директор заповедника Я. Самарин старался накормить сотрудников и их семьи, сохранить как-то штат заповедника, и он справлялся с этой задачей как мог, привозя продукты из Кондинского. Делил Яков Федорович их всегда по-честному. Удавалось ему добыть и семенного картофеля, тогда весь Хангокурт дружно выходил на посадку.
Уехал Гарновский вместе с женой из Кондо-Сосьвинского заповедника в мае 1945 года, когда в Хангокурт пришла весть об окончании войны.
«Ехали мы в большой лодке (“неводнике”) довольно большой компанией. Ружья были почти у всех, — рассказывала Е. Дорогостайская. — Мы знали, что в Шухтунгорте и тем более в мелких посёлках по Малой Сосьве раций нет или они не работают, а сами были в приподнятом настроении и много пели, особенно приближаясь к посёлкам… поднимали ружья и — салют! И все понимали, что это за салют, выбегали на берег, поздравляли друг друга, обнимались. Победа! Конец войне!”
В 1951 году волевым решением вышестоящих чиновников Кондо-Сосьвинский заповедник был ликвидирован. Постепенно осиротел Хангокурт, разъехались бывшие сотрудники заповедника. Прошла ещё четверть века, прежде чем на территории Советского района был организован государственный заповедник “Малая Сосьва”. Много лет прожил на кордоне Хангокурт, работая инспектором по охране заповедной территории, манси Кирилл Дунаев. Это он десятилетним бойким мальчиком прибегал “пообщаться» к жившим на Ханлазине Крониду Гарновскому и Евгении Дорогостайской. В прошлом году зимой Кирилл Андреевич вывез с кордона в Советский тяжелобольную жену, похоронил её и больше в Хангокурт не вернулся.
Кордон Хангокурт, бывшая центральная усадьба Кондо-Сосьвинского заповедника, стал местом последнего пристанища Вадима Раевского, умершего от болезни в 1947 году в возрасте 38 лет. К. Гарновский дожил до наших дней и несколько раз, в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, приезжал в “Малую Сосьву”. Кронид Всеволодович умер в Ленинграде в 1988 году. Урну с его прахом сотрудники заповедника «Малая Сосьва» перевезли и похоронили на кордоне. Так Гарновский вернулся в Хангокурт навсегда.
«Новости Югры», 21 июня 2003 года


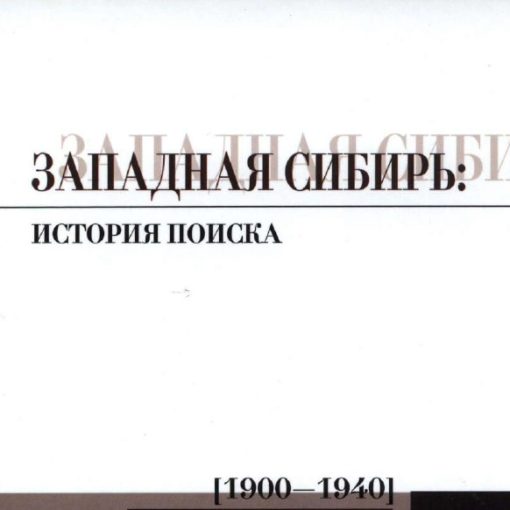


Мысль на тему “Серый флёр военного Хангокурта”
В поселениях на Малой Сосьве испокон жил ,в основном , народ ханты. Манси пришли позднее с рек Тапсуй и Когда.
Самый древний род — семьи Смолиных и Игнатьевых…