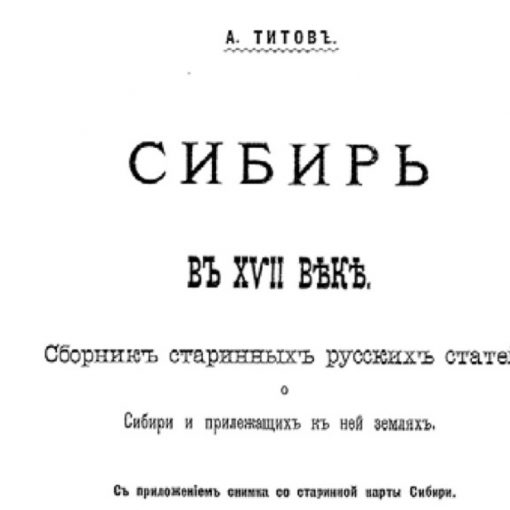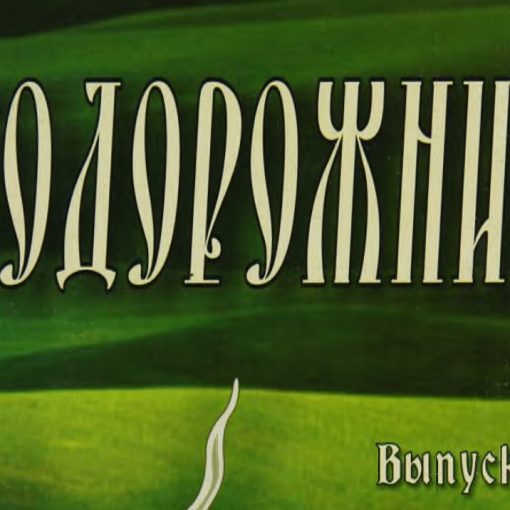Феофан Кирьянович Николаев
Я родился 11 октября 1921 года в Челябинской области в Шумихинском районе, деревне Большие Хохлы. Отец — священник, мать — домохозяйка. Семья была большая, 18 человек — отец, мать, брат, сноха, три тётки с детьми, братишка младший и сестрички.
Жили все в одном пятистенном дому. Имели хозяйство, 4-5 коров, мелкий рогатый молодняк, 4 лошади, жеребца орловской породы, свиноматку с приплодом, овец до десятка и кур с гусями. Отец имел земельный надел около 15 га, сенокосных угодий не было, поэтому приходилось ездить в татарскую деревню Шабай, арендовать землю для сенокоса и вывозить оттуда сено на лошадях для прокорма скота. Работников не держали, всю работу выполняли собственными силами, поэтому отдых был только в воскресенье.
В 1929 году поздней осенью отца вызвали в сельский Совет, где сказали: «Готовься в ссылку». В это время старший брат работал в Свердловской области на заготовке леса, чтобы заработать себе леса для строительства дома, его сразу отозвали телеграммой. В декабре месяце из сельсовета пришла бригада, человек 7, запрягли в сани четырёх лошадей, подъехали к амбару, стали забирать всё зерно из сусеков, весь скот угнали в колхозное стадо, нас всех выселили из дома, разместили в недостроенном доме старшего брата. И только где-то через месяц, в начале января 1930 года, вывезли на станцию Шумиха, посадили в товарный вагон и повезли в ссылку. Отцовских сестёр и их отца оставили дома, они все уехали в другую деревню Никулинку, ближе к татарам.
В январе прибыли на станцию Тюмень. У эшелона уже стояли запряжённые лошади с санями. Всех рассадили по подводам и отправили в путь-дорогу, на подводах ехали в основном женщины с детьми и подростками, а мужчины шли пешком.
В Тобольск прибыли где-то в конце февраля, а в Уват — в марте. Началась распутица. В ожидании ледохода и первого парохода всех расселили по деревням. В мае 1930 года нас с парохода высадили в селе Троице Самаровского района и расквартировали. Мы жили у Перевалова, в семье было 5 человек, Осип Степанович и три сына, Фёдор, Алексей и Александр. Отца, брата, сноху отправили сразу же на лесозаготовки в устье Иртыша на реку Назым. Началось строительство посёлка Лугового в пяти километрах от Троицы.
Комендантом посёлка был Зуйков, десятником строительства Шевченко Иван. Переселенцы жили кто в землянках, а кто в шалашах, крытых травой. Пищу готовили на кострах в колташихах. Звенья на 4-5 человек рубили срубы домов. 10 пар на козлах вели распиловку вручную круглого леса на тёс и плаху. Женщины из речки Ендырской выкатывали лес из воды на берег и на волокушах подвозили к местам стройки.
Посреди будущего посёлка стоял столб с подвешенной рельсой-железкой, по которой давали звонки — подъём, выход на работу и окончание работы, утром — рано, вечером — поздно. С мая месяца до конца октября был построен 71 двухквартирный дом. При первых заморозках все люди вселились в дома. Отопление — у кого печка железная, а кто-то сделал из глины битую печь с подтоком. Продав последние вещи с себя, отец купил корову и лошадь за 90 рублей. Семья начала оживать.
Пришла весна. Вечерами, утрами начали городить огороды, копать целину, сажать картошку, покупая семена у местных жителей Троицы и Белогорья. Зимой этого же года на сходке была организована сельхозартель «Равнина». Первым председателем был избран отец Шаврина Павла Васильевича. Члены артели добровольно сдавали своих лошадей, в том числе и мой отец отдал свою Серуху, образовалось 9 лошадей, а 8 коров приобрели на собранные с членов артели деньги. В это же время ввели запрет на забой телят с обязательной сдачей их в артель для пополнения стада.
Таким образом начали развивать сельское хозяйство, разрабатывать целину под пахотные земли, посев картофеля, турнепса, ржи, ячменя, овса, гороха, репы, капусты, моркови. На артельных полях работали все, начиная от домохозяек и подростков, весь весенний, летний, осенний период до школы и окончания уборочных работ. Были построены кузница для изготовления плугов, борон и других кузнечных изделий, мельница для помола муки и комбикорма.
Разросшуюся артель преобразовали в колхоз, а в последующем в совхоз. За годы существования колхоза рогатого скота было около 1000 голов, в том числе коров дойных — 250, лошадей — около 200, овец — до 300, свиней — до 50, птицы (кур) — до 200. На звероферме [содержали] до 100 маток. В зимний период ходили в обозе, рыбу вывозили из речек, соров в рыбокомбинат. В 1990-х годах совхоз развалился, всё растащили, разворовали, а наследникам создателей колхоза ничего не досталось.
В 1933 году в посёлке Луговом свирепствовал брюшной тиф. За этот год у нас умерло в семье 9 человек: младший брат Самуил, отец, сёстры. Хоронили всех мы со старшим братом вдвоём, остались в живых — мать, брат со снохой, я и дочь брата Миля.
В 1932 году в одном двухквартирном доме была открыта школа, в которой началась моя учёба. Меня, как переростка, в школу не принимали, тогда мои родители убавили мне возраст, записав с 1924 года. Я был принят в школу. Вечером я вязал сети, весной, летом работал в колхозе.
В конце 1938 года я подобрал на завалинке школы жулана, птичку, потрогал её, думал, замёрзла, а она ещё ногами шевелит. Взял её, занёс в класс, отогрел в руках под партой, и вдруг свет погас, я возьми, да и выпусти жулана из рук, а он залетал по классу. Тут все стали смеяться, и урок был сорван. Меня вызвали в учительскую к директору, всё обошлось выговором.
В декабре же я выстрелил из рогатки и попал в портрет Сталина. За это меня исключили из школы. Председатель колхоза Шаврин П.В. и комендант вызвали и сказали: «Вот тебе лошадь, запрягай сам, бери подсанки и завтра поедешь на лесозаготовку в лесоучасток Добрино». Через месяц лошадь сломала ногу, мне дали лучковую пилу, и стал я валить лес с корня, сучья очищать и сжигать, раскряжёвывать по сортам. Норму, шесть кубометров в день, не могу выполнить, следовательно, и паек мне меньше, 400 граммов хлеба.
В начале февраля я сбежал с лесозаготовок домой. Мать пошла к директору школы упрашивать, чтобы меня вновь приняли в школу, что и было сделано. Так я закончил 7 классов, сдав экзамены на «хорошо» и «отлично» за исключением двух предметов. Начитавшись книг, я потянулся к знаниям. Председатель колхоза, комендант, Самаровская милиция отказались отпустить меня на учёбу. В конце сентября решаю самовольно уехать пароходом. На пристани «Троица» сажусь в пароход «Гусихин», залезаю в дрова (тогда пароходы колёсные ходили на дровах) и еду 9 суток до Омска.
В Омске добрался до вокзала железной дороги. В связи с начавшейся финской войной все эшелоны были переполнены, билетов в кассах нет, таким же способом, как бродяге, пришлось добираться до города Челябинска, где и поступил учиться в ФЗУ, позднее переименованное в ремесленное училище, учился по специальности слесаря-лекальщика на «отлично».
Начался 1941 год, учёба подходила к концу, предстояли экзамены. 22 июня 1941 года по радио объявили, что началась война с Германией. Весь наш набор учащихся ремесленного училища получил повестки в военкомат. Меня вызывает директор училища Митяков Н.Н., садит на стул против себя и подаёт бумажку — бронь на 2 месяца и серый конверт под сургучовыми печатями и говорит: «Пишите расписку о неразглашении военной тайны», что я и сделал, он вручил мне чертежи и отправил в токарный цех с заданием оборудовать токарные станки для учащихся нового набора, которые без теоретической подготовки должны были начать обработку на станках мин, снарядов под моим контролем. «Жить будешь там же, в цехе, завтрак, обед и ужин будут доставлять из столовой, да смотри, чтобы кабинету тебя систематически был под замком», — объяснил директор.
В августе 1941 года после выполнения задания я был вызван в военкомат и мобилизован в армию. Сначала меня направили во 2-е Тюменское военное училище, где я проучился 1 год, получил офицерское звание младшего лейтенанта.
В августе 1943 года я был направлен на 1-й Белорусский фронт (командующий Рокоссовский) в 4-ю Бежецкую дивизию, в составе которой с боями прошёл до города Ковель. Видел, как фашисты при отступлении сжигали целые районные центры, сёла, оставляя одни печные трубы, видел уцелевшие глинобитные сараи с трупами повешенных стариков, женщин, детей, подвалы с расстрелянными людьми. В голове оставались жуткие картины.
При освобождении города Ковель, который обороняли отборный эсэсовский батальон и отборная власовская военная часть, я был ранен разорвавшимся снарядом мины; это было в апреле 1944 года. С апреля 1944 года находился в госпитале города Сураж Орловской области до июля 1944 года.
В июле 1944 года после излечения вновь был направлен на 1-й Белорусский фронт в 160-ю Краснознамённую Брестскую дивизию 297-го стрелкового полка, 3-й стрелковый батальон в должности командира миномётного взвода, в котором с боями прошёл до окончания Отечественной войны. Участвовал в освобождении городов Брест, Варшава, Торунь, Данциг, Сопот, Штеттин, Ворин, форсировании рек Одера, Вислы, дошёл до реки Эльбы, где наши войска встретились с английской разведкой и войсками. В ночь на 15 января 1945 года наша 160-я Краснознамённая Брестская дивизия по тревоге была выведена на передовую линию наступления за взятие города Варшавы. В 5 часов утра началась артподготовка по обработке передней линии противника артиллерией всех видов орудий, которая длилась в течение двух часов. С окончанием артподготовки наша пехота пошла в атаку на противника, а мы, миномётчики, начали менять огневые позиции, за нами, метрах в ста, на опушке леса стояли танкисты, которые почему-то задержались в поддержке наступления атаки пехоты, и в это время из-за опушки леса подъезжает автомашина ГАЗ-19, из которой выскакивает маршал Жуков! Навстречу ему бежит капитан-танкисте докладом. Но Жуков не стал выслушивать его, пригрозил расстрелом за срыв наступательных действий танкового подразделения. Вот так мне пришлось видеть маршала Жукова непосредственно на передовой линии боёв.
Имею награды: орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны I и II степени, 11 благодарностей Сталина, юбилейные медали.
С окончанием Великой Отечественной войны согласно решению Потсдамской конференции граница между ФРГ и ГДР прошла по реке Эльбе. Здесь мне пришлось служить на границе до февраля 1946 года. В феврале офицерский состав 160-й Краснознамённой Брестской дивизии выехал из Германии в Советский Союз в город Днепропетровск и влился в 43-ю отдельную мотострелковую бригаду под командованием Героя Советского Союза полковника Чупрунова. И только в июле 1947 года по неоднократному моему рапорту об увольнении просьба была удовлетворена.
При возвращении из Германии наш эшелон был остановлен на польской территории, где располагался лагерь для военнопленных Майданек. Лагерь охранялся тогда польскими солдатами как музей. Изгородь в четыре ряда столбов, высотой до 5 метров, сплошь оплетённых колючей проволокой.
При входе в лагерь располагалось бетонное здание примерно по габаритам 15 на 10 метров, высотой до 7 метров, без окон, здесь травили военнопленных. В здании с высокими трубами располагались 12 печей, в них сжигались трупы военнопленных, у каждой печи железная тележка на роликах, на которую вмещалось 2 трупа, и сжигались в течение 30 минут. В бараках лагеря размещалось до 10 тысяч человек. После уничтожения одной партии пленных приводилась новая партия пленных из других лагерей. Рядом с лагерем располагалось пахотное поле, где выращивались овощи, поле обрабатывалось пленными и удобрялось золой от сожжённых трупов. Всё увиденное в лагере невольно вызывает страх перед бесчеловечностью, зверствами, творимыми фашистами.
Я не могу понять, почему всё это не доводится до сведения молодого поколения уходящего века. Бывая в школах города, я удивляюсь, почему так мало знают об Отечественной войне не только учащиеся младших, но и старших классов и даже молодые учителя. Делаю вывод: мало читают литературы о Великой Отечественной войне, о миллионах людей, ставших жертвами в борьбе за победу над фашизмом, ведь не случайно мелькают молодые люди с фашистской свастикой. Хотелось, чтобы будущее поколение помнило ужасы войны.
В мае 1950 года я вернулся, считаю, на вторую свою родину в посёлок Луговой Самаровского района. Трудовая деятельность началась в Белогорском лесозаводе учеником токаря, грузчиком, токарем, нормировщиком.
В 1954 году по решению бюро горкома после окончания шестимесячных курсов в Красноярском лесотехническом институте был направлен на укрепление колхоза посёлка Нялино на должность председателя. В укрупнённом колхозе имени Куйбышева хозяйство составляли 400 дойных коров, 360 лошадей, 18 свиноматок, 2 зверофермы на 200 голов маточного поголовья, 500 голов овец, 250 гектаров посевной площади. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овёс, горох, картофель. План рыбодобычи составлял 3500 центнеров.
За период работы председателем колхоза в хозяйство была приобретена и установлена пилорама Р-65, пробурено 2 скважины для водоснабжения, построен четырёхрядный коровник на 200 дойных голов с автопоилками и кормокухней, свинарник на 150 голов. За рекой Обью располагалась зерносушилка.
Я принимал колхоз, где стоимость трудодня была 60 копеек в 1959 году, когда колхоз перешёл рыбоучастку рыбокомбината, стоимость рабочего дня при выполнении нормы достигла 6 рублей 70 копеек.
В 1969 году горком партии направляет меня на Ханты-Мансийский маслозавод в должности директора. Там я проработал до 1974 года. Завод перерабатывал в сутки около 15 тонн молочной продукции, выпускал сливочное масло, шоколадное и крестьянское, солёное и несолёное, всего 17 наименований молочной продукции и около 20 тонн мороженого. Сливочным маслом снабжались все торговые точки города Ханты-Мансийска, ОРСы ЛПХа, нефтегазстроя, геологии, детские сады, детские ясли и больницы, а также Сургут и Нижневартовск. Был налажен строгий контроль за качеством продукции со стороны санэпидемстанции и инспекции по качеству.
Неплохо работала местная промышленность. Пищекомбинат выпускал окорочка, пиво, минеральную воду, колбасные изделия, и всё было на прилавках магазинов по доступным ценам, не говоря уже об овощах. Тепличное хозяйство ОМК работало круглый год, выращивая зелёный лук, петрушку, укроп, а с марта и свежие огурцы. Сейчас страна победителей с богатейшими сырьевыми ресурсами с протянутой рукой просит кредиты у стран освобождённых и побеждённых, а мы по-нищенски живём. Как это понимать?
В этом году мне летом пришлось побывать на ОМК, и что же я увидел? Все пахотные земли находятся в запустении, заросли травой, скотные дворы полуразрушены, тепличное хозяйство в разрушенном виде и пустует, при въезде в посёлок у центральной дороги свалка мусора, в 100 метрах от жилых домов — скотомогильник с валяющимися черепами животных, червями и мухами. Вот где антисанитария — источник болезней людей. Приходится только удивляться, где же руководители села, санэпидемстанция. Спрашиваю жителей: «Где контора? — ответ — У нас её нет, — а какой-нибудь начальник? — ответ — у нас их нет».
Создаётся мнение, что мы забываем русский язык. В день Победы подхожу к собравшимся ветеранам (объявлялся сбор у белого дома), говорю им: «Смотрите, вывески написаны на иностранном языке, я думал, что уже иностранцы оккупировали», — все засмеялись. Идёшь по городу, смотришь на вывески учреждений, магазинов, киосков, и каких только названий нет, даже трудно отыскать в русском словаре. Пример: рыбокомбинат «АКВА». Что это такое «аква»?
Сейчас по радио, телевидению много говорят о заболевании наркоманией, спидом, о разврате в обществе. Я смею утверждать, что всё это заимствовано у иностранных государств. До Отечественной войны в Польше существовали дома терпимости. А сколько было распространено французских порнографических фотографий среди воинских частей. При возвращении из Германии у меня в роте один командир взвода, лейтенант заболел венерической болезнью, ему не разрешили выезд из Германии до полного излечения.
2001 г.