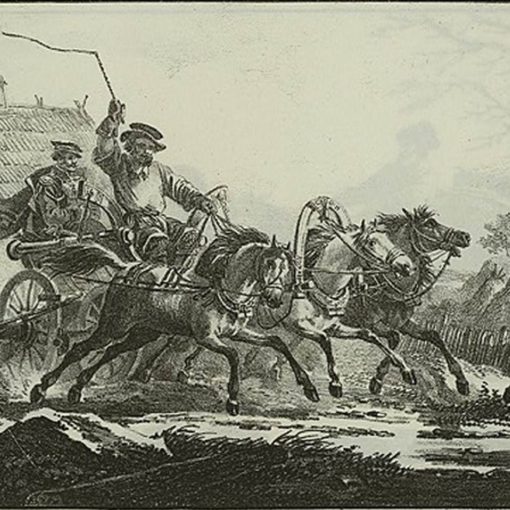В. Сенькин
Сковав реки и болота, морозы и нынче позволили проложить зимние автодороги во все уголки округа, связали его с областным центром. Как соответствующие организации следили за ними — об этом заметки нашего собственного корреспондента, проехавшего по зимнику от Нижневартовска до Ханты-Мансийска.
Напутствуя нас, главный инженер автобазы №9 Ю.Б. Старобинский подытожил;
— Местами хоть четырехрядное движение устраивай на трассе. До Сургута будете держать скорость не менее 50 километров в час,
Действительно, наш «Урал» мчался по ухоженной дороге, снабженной всеми знаками государственной автомобильной инспекции. Ширина полотна — 15-20 метров, особенно на сорах и переправах. Как говорится, честь и хвала Нефтеюганскому дорожно-эксплуатационному участку треста «Дорремонт».
От Сургута до Нефтеюганска — бетонка, ширина её увеличена за счет обочин, но снега на полотне дороги многовато. Зато есть столбики, использован весь арсенал наглядной агитации ГАИ.
А вот перевалив Обь за Нефтеюганском, как говорится, сапожник постепенно начинает оставаться без сапог. Бетонка на Мамонтове прерывается наспех сделанными объездами, которые то и дело сливаются с временными дорогами на трассы трубопроводов. Два раза заскочили в такой тупик и мы. Особенно туго приходится в подобной ситуации водителям плетевозов: попробуй развернись с 20-30-метровым «хвостом»!
Свернув на один из объездов, больше мы бетонки не увидим. Начался зимник на Тюмень, он пошел вдоль железной дороги в сторону Салыма.
Впереди — станция. На путях — состав без локомотива. В вагонах трубы, железобетонные плиты, мешки с цементом. Под откосом — груды каких-то стройматериалов, засыпанных снегом. Неподалеку остовы бывших палаток, брошенные вагончики. Через два километра переехали речку, через которую висит ажурный 70-метровый мост.
Смотришь на все и невольно представляешь: еще недавно стояла здесь мехколонна, работали бойцы-студенты, форсировали реку мостостроители. Все они ушли по трассе Севсиба дальше, оставив после себя уходящие к горизонту рельсы, построенную станцию. Так неужели нет у нее названия? Неужели не интересно проезжающим шоферам знать, через какую речку и когда смонтирован мост. А пройдут годы, и мы по крупицам будем восстанавливать фамилии людей, которые еще свежи в памяти всех. И такая безликость наблюдается на всем соседстве зимника и железнодорожной колеи, мы, например, наблюдали ее от деревни Балык до Салыма и дальше — Мугена.
Что уж говорить о зимнике. Состояние его отвратительное, особенно на лежневых участках. Стрелка на спидометре слабо колеблется между нулем и первым делением шкалы скоростей. На обочине — ни одного указателя поворота, спуска, грузоподъемности мостков и ледовых переправ, нет ни одной таблички с названием населенного пункта, даже такого крупного, как Салым. А какой кратчайший путь по самому поселку? Где найти столовую или магазин? Где заправить автомашину?
Выехав из Сургута в шесть часов утра, в Муген мы приехали в шесть вечера, а ведь расстояние — не многим больше трехсот километров, из них больше трети — бетонка.
Как нам объяснили еще в Нижневартовске, прямого зимника Сургут — Ханты-Мансийск нынче нет:
— В Демьянском развилка: влево — зимник пойдет на Тюмень, вправо — на Горноправдинск, через который вы попадете в окружной центр.
В Мугене нас сбил с толку один мужичок:
— Что за дорога до Демьянского? Плохая, братцы, ой, плохая. А зачем вам по ней трястись? Дуйте лучше отсюда прямо на Бобровку. Во-первых, это будет вдвое ближе, во-вторых…
Поколесив полчаса по Мугену, мы нашли своротку, подсказанную словоохотливым советчиком, и двинулись по узкой, но хорошо накатанной лесовозной дороге в полную неизвестность. («Я, братцы, ездил по ней, но это было лет пять назад»).
Действительно, через 104 километра, заполночь, мы въехали в спящую глубоким сном Бобровку. Срезали мы (как узнали позднее) больше ста километров.
Подремав в кабине до утра, дальше путь продолжили только благодаря начальнику лесозаготовительного участка А.Е. Корчагину, разрешившему заправить топливные баки. Надо оговориться, что в Сургуте мы пересели на «КрАЗ-255». И опасение Анатолия Евстигнеевича вспомнили, спустившись к Иртышу. Одно дело, что машина не умещалась в проложенную по льду колею, другое — одолевали мысли о ненадежности переправы. Наморожена ли она? Какова ее грузоподъемность? Ведь наша машина вышла с грузом около 20 тонн… А дорога еще и еще раз испытывает нервы, то и дело пересекая наледь с правого берега на левый и обратно…
Обогнув стороной Горноправдинск, едем дальше по владениям Ханты-Мансийского района. Невозможно узнать, сколько осталось до окружного центра. На развилках стоят одинокие деревья или телеграфные столбы. Жители отвечают неопределенно:
— Можно ехать направо, можно — налево… Расстояние? А всяко говорят…
Наш мощный вездеход с двумя ведущими мостами двигался при включенной блокировке колес и пониженной передаче раздаточной коробки. Очень повезло, что нас догнали два «Урала», идущие из Тюмени. Вытаскивая друг друга, так и добрались до деревни Батово. Спускаясь с яра на Иртыш, увидели, что «КрАЗ» вмерзает в лед — виднелась лишь крыша кабины…
На раздумье — ехать ли дальше — времени не было. Чтобы развернуться, надо спуститься на лед к затонувшей машине.
— Была не была, — тихо проговорил Василий, распахивая свою дверку и предложив сделать то же самое мне: «Чуть что — выпрыгивайте».
Инерция вынесла нас почти на середину реки, и шофер решил отдаться на волю судьбы — повел машину к другому берегу. Подъезжая к нему, мы увидели второй затонувший «КрАЗ». А впереди — крутой подъем…
— Не возьмем мы его. Или груз свалим, — процедил сквозь зубы Василий, вытирая рукавом выступившие на лбу капельки пота.
Почти взобравшись наверх, мы сползли снова на лед и оказались рядом с затонувшей машиной. Может, этого и не было, но нам слышался треск льда…
Вскарабкались мы только с восьмой попытки, взяв склон мужеством Василия Зверева, его беспримерным самообладанием и верой в надежность своего «КрАза». Позднее я узнал, что в пятой автобазе объединения «Сибжилстрой» это лучший водитель, которому доверяют самые дальние, самые тяжелые рейсы.
Ну, а не будь нас, ни за что бы не забрались на этот берег едущие за нами «Уралы». По очереди мы вытянули их лебедкой, имеющейся на нашем «КрАЗе».
Кто гарантирован, что наши три машины не повторят участи двух, провалившихся в Иртыш?
В народе говорят, что дорогому гостю выходят навстречу, плохого даже за стол не усаживают… Может, не совсем эту мысль можно отнести к окружному центру, но — равнодушно он ждет и принимает прибывающие в него автомашины. А ведь зимник кто-то готовил, открывал, кто-то обязан следить за ним.
А о чем говорит инцидент возле Батово? Зимник существует сам для себя. Иначе, как расценить полное безразличие к нему со стороны местных Советов? Неужели нельзя честно предупредить водителя такой табличкой: «Переправа не испытана, грузоподъемность ее не известна!» Или: «Дорога не расчищена!», «Только гужевое движение!».
И шоферы бы прикидывали свои способности, увязывали их с техническими возможностями автомобиля, знанием местности и т.д.
Вот факт. За деревней Реполово, вдоволь набуксовавшись, мы тихонько двинулись дальше по узехонькому (санному) следу. Вдруг — разворот, запорошенный снегом. Видимо, ехавший кто-то днем раньше не выдержал — повернул обратно. А может, понял, что машине не совладать с таким зимником и разумнее вернуться.
Добавлю также, что единственную табличку мы увидели на пути к Ханты-Мансийску: «Колхоз Родина». И существование окружного центра, наличие в нем снегоочистительной техники почувствовали лишь на отрезке дороги от Выкатного. Наверное, потому, что сюда ходит городской автобус.
Чистого времени затратили мы до Ханты-Мансийска сорок часов. Обратно добрались почти вдвое быстрее, потому что знали дорогу, а главное — знали трудности переправ.
Василий же Зверев, как ни мучился, на мой вопрос ответил откровенно:
— Нет, в округ я больше не поеду. Лучше сделаю три рейса в Тюмень по самым плохим лежневкам, но только не сюда. Одно название зимник…
Честно говоря, я бы ему не поверил, если бы не проделал с ним эту тяжелую дорогу.
«Ленинская правда», 3 апреля 1975 года