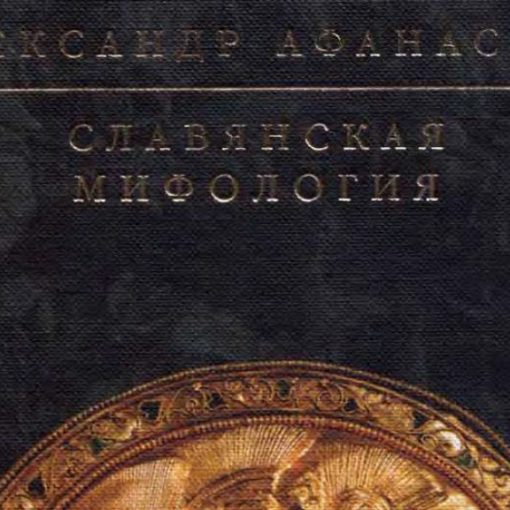Борис Карташов
— Мама, ну когда наступит зима и выпадет снег? – нетерпеливо я дергал за руку.
— Скоро, скоро, сынок, еще несколько дней…
С каким восторгом я ждал этого момента. Вся земля покроется белым, пушистым покрывалом. Вначале можно будет лепить снежную бабу, затем Новый год – мой любимый праздник снаряжением елки, наконец, катание на лыжах – красота. И вот через несколько дней, зайдя с улицы, мама сказала:
— Однако, завтра снег выпадет.
Я взглянул на часы – было пять часов дня. Как долго ждать. И тут же мелькнула мысль, что если я рано лягу спать, то когда проснусь, будет уже завтра. И забрался в кровать.
— Не заболел, ли? – забеспокоился отец.
— Нет, — улыбнулась мама, — это он первый зимний день очень ждет.
Проснулся, а в доме темно, на улице тоже. Прильнул к окну – ничего не видно. Но чувствую, что-то должно произойти. Но сон вновь сморил меня. Утром первым делом к окну. Ура! Вся земля в снегу. Одевшись, быстро выскочил на улицу. Снег лежал тонким слоем и уже не казался белым. То здесь, то там проступали темные пятна земли. Но все равно – зима пришла.
Это одно из ярчайших моих воспоминаний о детстве, о месте, где я родился, о поселке, вначале – кулаков. Затем репатриированных, это кто был в оккупации под немцами. Позже – “вербованных” те, кто по оргнабору государства бросали свои родные деревни в Белоруссии, на Украине и приезжали валить лес для Родины. Политических, шедших по делу Троцкого, Кирова, Тухачевского и т.д. Поселок тогда не имел названия. Даже это было не позволено. Он назывался просто “220-й квартал”. Название было написано известкой на конторе лесопункта, градообразующего предприятия в поселке. А леспромхоз назывался “Сотринский”. Он объединял несколько населенных пунктов: железнодорожную станцию “Сотрино”,что в Свердловской области на Северном Урале поселки: Первомайский, Ивановский и наш – 220-й квартал, который местное население сократило до просто “Двадцатый”.
Поселок состоял из “микрорайонов” – лесозавода, центра, заречья. Понятно, что лесозаводские работали на переработке древесины, центровые кучковались вокруг клуба, школы, больницы, конторы лесопункта. Поселок на окраине пересекала центральную и единственную дорогу речка Куликовская. Отец рассказывал, что когда-то на берегу жил мужик по фамилии Куликовский.
Итак, “Двадцатый”. Расположен в 25 километрах от узловой железнодорожной станции. Главное занятие – лесозаготовка и лесопиление. Была еще узкоколейная дорога, по ней вывозили хлысты, конный двор с 30-ю лошадьми, которые в пятидесятые использовались при вывозке и погрузке леса. В шестидесятые годы лошадей использовали на хозяйственных работах: возили бочки с водой в школу, детсад, столовую, пахали огороды, вывозили сено с покосов.
Главными достопримечательностями поселка была спортивная площадка рядом с клубом и 14 бараков, в которых жили те, кто недавно приехал и пока не обзавелся собственным домом. А также бывшие зеки, неженатые, молодые ребята и девушки. Причем каждый номер барака определял не только, кто там живет, но и их социальное положение. С 1 по 4 барак – это семьи без отцов, женщины, высланные за аморальное поведение из городов. Они базировались вокруг лесозавода. В 5,6,7,8-м бараках жили полноценные семьи, которые вот-вот должны были получить или казенное, отдельное жилье (дома на два или четыре хозяина) или строят собственное. 9-й барак особый – жили в нем холостые. Здесь селились молодые специалисты, которые закончили ремесленные, педагогические и медицинские училища г. Серова. Находились они там, как правило, недолго – женились, выходили замуж. Редко кто уезжал из поселка. Может быть потому, что в те времена в их родных деревнях и селах было не сладко.
10, 11, 12, 13, 14 бараки были предназначены для бывших зеков, коих приезжало немало, просто лихих людей. Туда редко кто из местных захаживал в гости. Драки, пьянки, поножовщина. Однажды бывшие зеки забили насмерть моряка, пришедшего в отпуск. Терпению жителей пришел конец. Собралось человек 60-70 взрослых, женатых мужиков, вооружились кольями, железными прутьями и ночью ворвались в 14-й барак. Били смертным боем. Когда барачные поняли, что их убивают, кинулись кто, в чем в сторону железной дороги. Гнали их уже из всех пяти бараков. Кто-то сообщил об этом начальству (милиции у нас не было). Быстро подогнали несколько товарных вагонов и увезли их в город (так местные называли Серов). Случилось это в середине пятидесятых. Но с тех пор, ни один вновь прибывший на работу к нам зек, услышав историю про 14-й барак, не вел себя вызывающе, да и местные ребята прямо на вокзале кулаками доказывали кто хозяин в поселке.
Надо сказать, что активным отдыхом на “Двадцатом” считались отнюдь не рыбалка и охота, сбор ягод и грибов. Это была необходимость, чтобы не голодать. А волейбол, футбол, русская лапта, игры в домино и карты на деньги (причем, играли как взрослые, так и их дети, порой даже за одним столом и ничего особенного в этом не было). Вечером, обычно перед сеансом кинофильма старые мужики (с моей точки зрения), которым было за 30 лет, азартно играли в волейбол, благосклонно позволяя нам, пацанам, подбирать мяч за пределами площадки и отдавать в игру, которая зачастую заканчивалась мордобоем между игроками, выясняя, таким образом, кто победитель. Рядом был помост со штангой. Я редко подходил к ней, потому что больше 60 кг поднять не мог. Хотя одной рукой поднимал 50 кг. До сих пор не могу понять, почему так получалось. Все это заканчивалось, когда начинался кинофильм. Мне повезло, я видел “Красных дьяволят” и “Смелый, как тигр” – немое кино. Причем, пускали меня бесплатно, так как я крутил динамо. Не знаю, что это такое, но надо было за кривую ручку крутить колесо, которое стояло позади киноаппарата, равномерно и беспрерывно. Билеты на сеанс, как ни странно на вечерние (взрослые) фильмы продавались с указанием мест. Мы же, дети, садились, как попало, даже умудрялись (опять же, чтоб бесплатно) за несколько часов проникали в кинозал под подиум. Затем, когда начинался фильм, вылезали за экраном-полотном и смотрели там сидя на полу. Одно неудобство, титры приходилось читать задом наперед. А вот взрослые приходили чинно, опрятные, только почему-то в сапогах, а женщины с накрашенными губами. Мода что ли была такая?
Я забыл сказать, что на “Двадцатом” нормальных улиц было три, остальные – переулки. Это ярко выражалось зимой – чистили только эти три улицы, на остальных были набиты тропы к домам. Названий улиц тоже не было, как и у самого поселка. Помню, когда учился уже в техникуме, руководитель дипломного проекта решил написать письмо моим родителям. Хотел пригласить их на защиту диплома. Он долго выспрашивал адрес: название улицы и номер дома. Пришлось соврать, указав улицу Победы дом 3. Спросите почему? А черт его знает, может быть потому, что любимая моя игра и моих сверстников – “в войну”. Правда, мы не делились на немцев и наших. Это было невозможно, потому что в поселке интернационал был полный. Вот некоторые фамилии друзей моего детства: Мюллер, Клеппфер, Бимлер, Кочинский, Кунайка, Пепа, Королевский, Чабан, Шурхай, Ходос, Руселик, Бровцев, Карташов, Петухов, Намавичус, Ефименко, Мубаракшин, Ханин, Вишницкий и т.д. Какое уж тут деление по национальностям. Но запросто могли друг друга обозвать “немчурой”, “бандерой”, “жидярой”, хотя больше общались по кличкам. Их носили все мои сверстники и сверстницы. Причем, иногда кличка была абсолютно не совместима ни с фамилией, именем, привычками или еще чем — то.
А какие они были сочные, колоритные: “Колода”, “Обцуги”, “Зюта”, “Кащей”, “Баба рисовая”, “Бурундук-говешка”, “Кулема”, “Лютеранка”, “Читатель”, “Хрен с редькой” (братья). И не было никаких обид. Так было положено.
Но, однако, продолжу об особенностях жизни «Двадцатого». Если кинофильмы, как правило, привозили по субботам и воскресеньям (это было большое событие и для мужиков, и для женщин, и для детей), то день получения зарплаты — особый женский день. Дело в том, что деньги в кассе лесопункта получали жены, матери, сестры, так как мужики были на работе, да и считалось, что это не мужское дело — стоять в очереди за заработной платой. Женщины же подгадывали так, чтобы в этот день у них был выходной либо работа в ночь.
Очередь бабы занимали в конторе с утра. Хотя все знали — деньги привезут только к вечеру. Стояние в ней — это своего рода «общее женское собрание» поселка. В клубе не очень-то поговоришь, в магазине тоже. Там встречались по другим вопросам. А здесь практически общение несколько часов в тесном коридоре конторы. Разговоры велись обо всем, кроме политики; это было табу и все об этом знали, делая вид, что ее просто нет. «Перемывали кости» жене нового технорука, приезжих медичек и учителок. Защищали своих отпрысков, то бишь, нас — «мой-то Боря в школе хорошо себя ведет да и учится прилично»…
Так-то оно так, только мать не знала, что я в это время уже неделю не хожу в школу, а в заброшенном сарае играю в «буру» на деньги с пятью такими же, как я, «хорошими мальчиками». Домой приходил четко после окончания уроков: поджидал свой класс у дверей школы, чтобы списать домашние задания по предметам. Вечерами корпел над учебниками так, что мать иногда жалела: «Да хватит себе голову забивать — свихнешься еще».
Это продолжалось до тех пор, пока моя классная не пришла к нам домой поинтересоваться, почему я так долго болею (я ей наврал об этом)…
Кончилось все жутким скандалом и очередным, тысячу первым обещанием, что больше это не повториться. Хотя повторялось все с завидной постоянностью, только в разных вариациях: то взрывпакет в туалете взорвем, где в то же время находилась школьная техничка тетя Дуся, то дымовую шашку подожжем в коридоре и с криками «Пожар! Горим!» создавали панику, то… впрочем, об этом чуть позже.
Итак, разговоры женщин, их «общее собрание» в день получки длилось долго. Но наступал момент, когда кассир открывала окошечко и громко говорила: «Только не толкайтесь, по очереди…», вот здесь все взрывалось. (Мы, пацаны, всегда ждали именно этого).
Оказывалось, что «Катька очередь не занимала», «Дуська пришла, вишь — ты, показалась и весь день больше не появлялась, а сейчас претендует на очередь». «А ведь Верка точно сказала, что она деньги завтра придет получать». Крики, шум, визг, наконец, кто-то вцеплялся в волосы соседке, припоминая ей кокетливые взгляды на «моего мужика», и козла, которого она специально пускает к ней в огород. В ответ были встречные обвинения. Круг воюющих увеличивался. Очередь перепутывалась. Ну, а самые хитрые успевали в это время, как у нас говорили, «отовариться».
Вообще, женские скандалы по эмоциям, жестокости, накалу страстей намного отличаются от мужских. В них нет и тени благородства, чувства достоинства, нравственности. Мне кажется, что в этих драках — скандалах женщины делали своеобразный энергетический выброс накопившихся отрицательных эмоций. Это и тяжелая физическая работа, и постоянная забота о хлебе насущном — как поделить мизерную зарплату на целый месяц, умудриться при этом, отложить на сапоги сыну, дочери на платье, да и себе из одежонки тоже что-то прикупить. А тут этот «алкаш» (то бишь муж) пропил почти десятку, и взял в долг пятерку. И больная мать, для которой всегда нет времени, что бы её навестить…
Однако, к восьми вечера «показательные выступления» заканчивались, потому что единственный смешанный (продовольственно — промтоварный) магазин закрывался в 22 часа, и всем надо было успеть сделать покупки «с получки».
У нас в доме это происходило так: все садились за большой обеденный стол (а это на 10 человек — нас детей восемь и отец с матерью). Мама доставала пачку денег, которую заработал отец, и начинала раскладывать по кучкам. Он в это время демонстративно уходил на скотный двор — дать коровам сена, убрать навоз и т.д. Она делила деньги по только ей понятным критериям. Было приятно за этим наблюдать. Однако нас интересовала всегда последние купюры: именно они предназначалась нам на сладости. Как только мама отдавала их старшим братьям, тут же всегда возникал спор — что купить? Сходились всегда на конфетах, как правило, это были помадки, «Школьные», «Коровка», «Премьера», сгущенном разливном молоке и каких-то восточных сладостях. В магазин шли все вместе. Затем наступал праздник…
А в конторе, у кассы можно было наутро обнаружить клоки волос, оторванные пуговицы, разорванный на лоскуты платок, каблук от женской туфли. Все это говорило, что «общее собрание женщин», как обычно, удалось.
Вот и подошел мой рассказ о нашей знаменитой, вначале четырехлетке, затем семи-восьмилетке. Надо сказать, что было два здания школы: в одной «старой», так мы ее называли между собой, учились дети с 1 по 4-ый классы. В другой – «новой», которая была построена много позже первой, с 5 по 8-ой классы.
Первые мои воспоминания о школе были связаны с тем, что я еще дошкольник, лет пять было приходил в класс к братьям, которые упрашивали учительницу оставить меня на занятиях. Она, конечно, соглашалась и я, забравшись на свободную парту, тоже “учился”. Вернее учительница давала мне бумагу, карандаш и в свободном творческом порыве на листе появлялись какие-то каракули, рисунки, просто абстрактные линии и, вообще, черт — те что. Но главное было то, что мальчик творил как ему хотелось.
Потом раздавался звонок на перемену. Наблюдать, как отдыхают «взрослые» ученики было одно удовольствие. В основном, это были различные игры. Их было несколько. Во-первых, — “чехарда”. Суть ее заключалась в следующем: один человек становился на четвереньки, следующий с разбегу прыгал ему на спину, затем третий, четвертый. Так до тех пор, пока очередной прыгун не сваливался с этой кучи тел. Тогда он становился в известную уже позу, и все повторялось сначала. Игрище пользовалось успехом. Ребята постарше уходили на улицу “подымить”. Некоторые играли (прячась) в “пристенок”: это когда монеткой били о стенку, второй игрок должен был так же ударить монеткой о стену, но так, чтобы она упала рядом с первой не более чем на расстояние вытянутых пальцев большого и мизинца на руке. В этом случае монета партнера переходила сопернику. Еще была игра, которая называлась по разному, но суть была одна: человек левой рукой прикрывал свои ухо и правый глаз, другую ладонью кверху клал под мышку и становился спиной к играющим. Кто-то ударял по его ладони своей рукой и, когда ведущий оборачивался, чтобы угадать, кто его ударил – все поднимали большой палец руки, показывая, что ударил именно он. Если “галящий” угадывал, то менялся местом с этим человеком, если нет – опять получал оплеуху.
А вот в первый класс 1 сентября 1958 года я в школу не ходил – заболел. Но придя второго сентября в класс, первое, что сделал – перепрыгнул через парту. Дело приняло серьезный оборот. Оказывается, это было страшное нарушение ученической дисциплины. Об этом долго со мной беседовала моя первая учительница Нина Арсентьевна. Может быть, именно тогда я научился, опустив голову, тупо бубнить под нос “я больше не буду”. Не придавая значения словам, не понимая, что плохого сделал и почему меня ругают. За восемь лет учебы обещаний по различным проступкам было несметное количество. Я их давал и директору школы, и участковому инспектору милиции, и матери, кому угодно. Но уличную или школьную жизнь поселкового паренька это не меняло. Там были свои законы и правила.
Похвалюсь – учился неплохо. Восемь классов закончил на “хорошо” и “отлично”. Но и тут умудрился отличиться. Дело в том, что я пел и, говорят, хорошо. Но пришла новая учительница в восьмом классе. Что-то ей не понравилось, и она выгнала меня с урока, поставив в журнале жирную “двойку”. Вскоре уволилась, и уроков по пению у нас больше не было. А поскольку “два” была единственной у меня оценкой, то соответственно в свидетельство о восьмилетнем образовании записали “удовлетворительно”.
Очень волнительный день был, когда принимали в октябрята. Тогда еще не было магазинных значков: звездочки с изображением мальчика с кудрявой головой, поэтому мама вырезала из картона пятиконечную звезду и обтянула ее красным материалом. Я так гордился звездочкой, в школу пришел, пришив ее на гимнастерку. А принимавшая ребят в октябрята пионервожатая (фамилию уже и не помню – проработала у нас недолго), увидев меня, сказала: “А кулачат не принимаем” и сорвала звездочку…. Горе было неподъемное. Такое же чувство я испытал потом еще один раз, когда умерла мама. Никак не мог понять: почему? И дома родители ничего не объяснили, сказали “потом поймешь”. Так продолжалось неделю или две. Затем на урок в класс пришла директор школы, вызвала меня к доске и торжественно вручила звездочку октябренка. Вот такая грустная история. Позже автоматом приняли в пионеры, а вот в комсомол я уже сам вступать не стал, (к этому времени уже кое-что понимал в нашей жизни) да еще сагитировал свой 8 “б” поддержать меня. Так что из нашего класса вступило всего три-четыре человека. Реакции со стороны заинтересованных органов не было, видимо, потому что вскоре мы окончили школу и разъехались. Только пять лет спустя перед уходом в армию мне все-таки выписали комсомольский билет, который, кстати, хранится у меня до сих пор: оставлен на память при вступлении в КПСС…
Вообще, наша школа была уникальна в своем роде. В — первых, это был классический образец школ 30-40 годов: только учеба, согласованные школьные мероприятия, одна спортивная (лыжная) секция и никакой инициативы. Возможно, это было следствием того, что педагогический костяк составляли люди, приехавшие сюда по воле советской власти, то есть, принудительно. Они пережили войну, репрессии и вели себя соответственно. Помню кто-то принес в класс запрещенный тогда сборник стихов Сергея Есенина. Боже, как мы зачитывались, особенно, “…и сама под ласками сбросишь шелк фаты, унесу я пьяную до утра в кусты…”. “Сплошная аморальщина” – заявила на педсовете тогдашняя учительница русского языка и литературы – человек, который жил во времена Есенина. В результате книга была безжалостно изъята, по всей школе прошли пионерские и комсомольские собрания, осуждающие кулацкого поэта — пьяницу.
Был и еще один контингент учителей – это девчонки, только что закончившие Серовское или Тагильское педагогические училища. Им 18-19 – летним главное было отработать положенные 2-3 года после распределения, и, если удастся, по возможности выйти замуж. Мне кажется, что за ними следили так же, как за нами: как бы чего не натворили.
Но несмотря, ни на что, мы были все-таки свободолюбивые дети, то есть, делали как предписывали негласные законы улицы и поселкового мальчишеского братства. Курить пробовали лет в 6-7, пить брагу (на более цивильные напитки просто не было денег) лет с 9 -10. Благо ее готовили почти все жители. В карты научились играть еще до поступления в первый класс. Материться, петь матершинные частушки – тоже. В общем, было две жизни: одна школьная – чинная, порядочная и другая – настоящая, по правилам которой потом вступали в самостоятельную жизнь.
В заключение этой главы несколько слов о наших учителях. Ведь какие бы они ни были (хорошие, плохие, добрые, злые, равнодушные с нашей точки зрения) – это наши наставники. Они дали нам путевку в жизнь. Это бессменный завуч школы Мария Павловна Томилова, Василий Васильевич Калеганов (кличка “Вась-Вась”). Федор Анатольевич – учитель рисования по прозвищу “Федор Большое Ухо”. Он на фронте был контужен и плохо слышал. Алевтина Федоровна Дружинина – директор школы “Альфа”, Тамара Васильевна – математик “Швабра».
Наконец, мой классный руководитель, удивительной душевности человек – Нина Александровна Рожко. Именно она научила меня понимать и любить русскую литературу, дала первые правдивые представления о великих поэтах и писателях, помогла разобраться в азах классической музыки и т.д. Судьба ее была трагична – после нашего выпуска Нину Александровну уволили из школы за “непедагогические методы” воспитания детей. А это несанкционированные сборища нашего класса у нее на квартире, где пекли “хворост”. Потом за чаем, она читала нам Блока, Есенина, Ахматову. Это и походы с ночевкой на реку Сосьва: ужас, мальчики и девочки спали в одной палатке. Свободолюбивые высказывания на педсоветах….
Низкий им всем поклон за любовь к нам, ученикам, за то, что заложили в нас то — доброе, хорошее, что мы, дети, “двадцатого” пронесли через свою жизнь.
Рассказывая о школе, о ее месте в нашей жизни, никак нельзя обойти Улицу. Именно с большой буквы, так как она, в основном, жила как раз “по-настоящему” и учила нас жить так же: жестоко, честно, по понятиям, со своим кодексом чести.
Я уже говорил в начале своего повествования, что поселок делился на три основных группы: “лесозаводские”, “центральные” и “зареченские”. Потому же принципу делились и наши ребячьи компании. Причем возраст и пол здесь играл не главную роль. В школе это деление было незаметно, а вот вне ее…
“Лесозаводские”, как правило, свои игры проводили в своем районе или на отвалах опилок – отходов от лесопиления, горы которых были недалеко от лесозавода.
Причем и за ягодами, грибами, кедровыми орехами они ходили в “свою сторону”, то есть от окраины их бараков и домов в лес. У нас “центральных” была своя сторона – район кладбища и вдоль железной дороги на Ивановск. “Зареченские” же – соответственно, вдоль УЖД (узкоколейной железной дороги), по которой вывозили хлысты для разделки на нижнем складе и лесозаводе.
Главной же нескончаемой игрой была в “наших и не наших”, в “войну” и “шпионов”. Правил как таковых не было. Просто наши команды сходились периодически в рукопашных схватках. Причем, этому предшествовала тщательная военная подготовка: изготавливались деревянные мечи, гранаты, конструировался даже пулемет, изучалась азбука Морзе. Придумывались различные пароли для своей ватаги, которые даже под страхом быть “поколоченным” противником, получив “бланш” под глаз или разбив нос до крови, ты не должен сообщать “врагу”. Ну, а если это все же происходило, то ты становился вечным предателем и изгоем. О месте боя договаривались заранее. Чаще всего это были отвалы опилок. С годами они слеживались так, что покрывались коркой толщиной в несколько сантиметров, что позволяло бегать по ним, не опасаясь провалиться. Кстати, основной “пыткой” для выбивания пароля было следующее: в опиле выкапывалась яма, и туда помещали “врага”, засыпая его по плечи. А несколько лет пролежавший в куче опил, имел свойство нагреваться до температуры 60-70 градусов так, что человек, помещенный в него долго не выдерживал. Бывало, пацанов с ожогами приводили домой…
Еще мы строили свои “штабы”. Это где-нибудь в лесу вырывалась землянка, маскировалась. В ней мы проводили много времени: рассказывали всякие истории, играли в карты, опробовали различное оружие: поджиги, чекалки, самодельные гранаты, обрезы от ружей, винтовок, бог знает, откуда взявшихся. Однажды кто-то принес обрез охотничьего ружья: сначала стреляли из патронов, затем кто-то предложил снять ствол и попробовать ставить на боек капсюль “жевело” – при нажатии на курок его разрывало на кусочки, а звук выстрела был слабый (чтобы не слышали чужие). Витька Юркевич как обычно поставил капсюль (была его очередь стрелять) и спустил курок. Один кусочек капсюля попал ему в глаз. Витьку отвели в больницу, строго настрого наказав ему ни в коем случае не сознаваться, где получил травму. Глаз удалось спасти, а вот обрез до сих пор покоится в болоте у речки Куликовская, разобранный на запчасти.
“Война” для меня закончилась, как ни странно, тоже ранением. В то время у нас была мода на ношение воинской формы. Мне нравилось звание “гвардии капитан”, хотя я плохо разбирался в них. Теперь представьте. На черной шинели, которая была выдана старшему брату в ремесленном училище были пришиты с помощью мамы голубые погоны с четырьмя звездочками. В зеленой пограничной фуражке и двумя орденами “Материнской славы” первой и второй степени на гимнастерке (ордена я попросил у мамы) – так я выглядел, когда последний раз пришел в штаб. Кто-то притащил пачку дымного пороха и, заряжая поджиг, просыпал его на пеньке. Кто подожжет?! Риторический вопрос. Ведь я “гвардии капитан” да еще с орденами. Кто кроме меня! Чиркнул спичкой. Очнулся лежащим рядом с пеньком. Сильно болело лицо. Вокруг меня копошились ребята, пытаясь как-то помочь. Глаза ничего не видели, вся рожа было черная (порох-то был дымным). Кое-как в луже протерли водой, сразу же местами стала слазить кожа. Вот в таком виде: “гвардии капитана”, “орденоносца” привели в поселковую больницу. Санитарка, моя родная тетя, раздевая меня, полюбопытствовала: “Чей же ты мальчик?”. Я пальцами раздвинул опухшие веки, увидев, тетю Клаву ответил: “Ты что, тетя Клава, не узнаешь чо ли?”. Та упала в обморок. А по “двадцатому” уже гуляли слухи: “Борьке Карташову глаза выбило, видимо, что-то взорвалось или из поджига…”.
А “гвардии капитана” положив на больничную койку, убедившись, что видеть будет, обмазали толстым слоем вонючей мази и сверху покрыли лицо и руки марлей. Кстати, на руках были ожоги первой степени, а вот лицо – второй и местами третьей. Все было в пузырях. Как то незаметно у кровати оказались все братья и сестры во главе с мамой. Чувствуя их, я сказал: “Все нормально мам, я вижу”. В ответ услышал только вздох: “Хорошо, сынок”. И погладила по голове.
Что творилось в душе матери, одному Богу известно. Ведь совсем недавно Славка (один из старших братьев) стрелял из поджига, и ему почти оторвало большой палец на правой руке. В Серове врачи спасли парню руку, вовремя пришив палец. А еще до этого, двойняшки (тоже старшие братья Колька и Вовка) испытывали самодельный автомат, и только чудо спасло их. Автомат разорвало на куски. А в соседнем Ивановске Ваньке Ухнылеву оторвало кисть руки – пытался взорвать капсюль с бикфордовым шнуром, которыми взрывают пеньки в лесу: “Осмол” называется. Из него делают канифоль, скипидар Мама осталась со мной ночевать, беспрестанно меняя марлевые повязки, давая лекарство и воду. К утру я заснул… Две недели провел на больничной койке. За это время пузыри полопались, наросла новая кожа, отросли брови и ресницы. В общем, пронесло на этот раз. Больше я в войну не играл. Правда, до сих пор, при сильном морозе правая щека краснеет пятном и немеет.
Но жизнь продолжалась. Мы становились взрослее. Увлечения менялись. Уже компании без девчонок не мыслились. Мы учились “дружить” с ними, писали им записки, при встрече вздыхали. И что интересно, у нас и в мыслях не было, как сейчас говорят, о сексе. Вернее, конечно, были, но где-то там, далеко-далеко, что даже себе признаться боялись.
Первый поцелуй – это предел храбрости и доказательства любви. Все было целомудренно. И этому тоже воспитала Улица.
Продолжение следует…