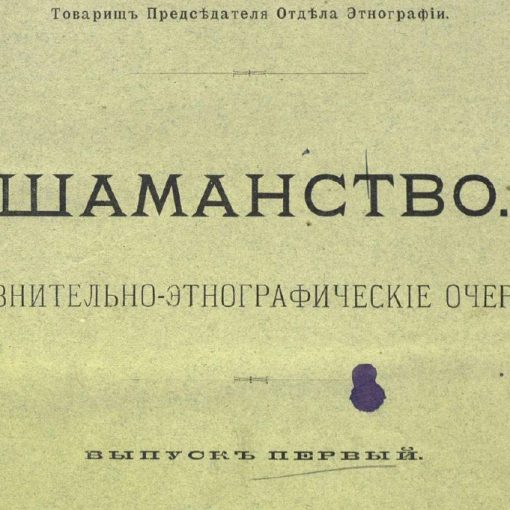Николай Михайлович Ядринцев
Светлая морозная ночь. Канун Рождества. Улицы пусты и только светлое небо, усеянное звездами, стелется над бесконечною белою пеленою. Изредка скрыпнет калитка и закутанная с головою девушка пробежит к соседке.
В маленькой лачужке на конце города теплится свечка перед образом, на полатях лежит нищая старуха, в углу отставной солдат делает «Вифлеемскую звезду» из цветной бумаги и фольги. Он поворачивает ее, осматривает и громко поет:
– Рождество твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума!
В углу мальчуган тщательно по замасленной бумажке зазубривает: «Маленький хлопчик, сел на столбчик, в дудочку играет, Христа прославляет… Христос родился, Иуда удавился, весь мир обновился. – С праздником поздравляю, здравия желаю. Хозяин с хозяюшкой, с праздничком!» Такова рацея завтрашнего славильщика.
Солдат кончил звезду, встал, и сделал «экзамент» хлопцу.
– Христос родился, Иуда удавился, с праздником поздравляю… запинался славильщик.
– Учи еще! – сказал солдат, и лег спать. Старуха охала.
В главной бакалейной лавке города Степан Парамоныч отмечал рождественские подарки местному начальству.
Перед ним стоял старший приказчик.
– Исправнику! – командовал Степан Парамоныч, пуд рафинаду, чаю фунт, балыку!
– Он, Степан Парамоныч, не очень чтобы? Покупатели не одобряют, – решился заметить приказчик.
– Что, воняет? ничего… сойдет, знаешь, даровому коню… фунт Мусатова положи еще, да бутылку люнеля.
– Квартальному! Положи фунт сахару, полфунта чаю, рыбы соленой 2 фунта… бутылку…
– Какого прикажете? Мушкатели?
– Ну что, брат, не по чину – горькой ладно.
– Судье! Положи муки крупчатки – остаток есть.
– Затхлой? Степан Парамоныч.
– Ничего, сойдет! Съедят, у него большая орава!
– Стряпчему! Положи ветчины, селедку голландскую, да бутылку тенерифу! Он холостой и пьющий.
Так Степан Парамонович распределял рождественские подарки. Но положил он только доктору и смотрителю училища, сказав: «Какое это начальство!»
– Завтра придут поздравлять – так очищенную-то разбавь да подогрей! А кульки отправь с мальчуганом сегодня, – дал инструкции хозяин, сотворив все добрые дела на сей день.
Было очень поздно, в кухне исправника все еще пекли и стряпали. Полицейский в сермяге, переминаясь от мороза, держал в окоченевших руках 4 цыплят, жалобно пищавших. Исправница в белом чепце осматривала их тщательно. – Не могли лучше-то дать? – с сердцем сказала она, – так-то уважают начальство!
– И то, говорит, на племя оставляли, Ваше-скородие, теперь хоть шаром покати, яичка к Христову дню не дождешься.
– Знаем мы их. – сказала исправница и бросила цыплят кухарке в подол. – Вынимай кулек от Парамоныча. – сказала исправница. Она тщательно запустила в него руки и вытащила чай.
– Ну, это ладно! Не цветочный поди скаред прислал. Ну, что еще? – Солдат вытащил нечто мягкое.
– Это что еще воняет? Балык?! Хозяйка понюхала и плюнула. – Ах, чтоб ему подавиться им! Ну, подожди, попомнит же тебе Егор Евстигнеич за непочтительность. А? Протухлый! – и рассвирепевшая исправница полетела к супругу.
– Вот так теперь все, матушка. – сказал задумчиво Егор Евстигнеич, – нравы падают, непочтительность. Я давно писал об этом начальству. Ну, попадется теперь ко мне в лапы кто-нибудь из ихнего брата – живодера!
Чуть брезжил свет. Звезда волхвов потухла в небе. Среди сугробов шли какие-то маленькие карлики в тяткиных пимах и шапках. Это были маленькие славильщики. Сзади по сугробам плелся кривой солдат с Вифлеемовской звездой, внутри которой вставлена была свечка, он важно повертывал и крутил звезду то в ту, то в другую сторону. Они подошли к воротам Степана Парамоныча, ворота были крепко заперты. Степан Парамонович отбивался даже от славильщиков.
Но отставной солдат был стратег, – одного из хлопцев он командировал в подворотню (брешь), тот, облаиваемый собаками, успел отворить «задвижку» у калитки. И чрез несколько минут орава брала приступом кухню, громко славя. – «Христос рождается…»
Степан Парамоныч, несмотря на то, что знал характер славильщиков проникать во все щели, не ожидал. Он слышал уже о буре в кухне исправника, – передала кухарка, возвратившая балык, почему он был в свирепом состоянии духа и, заслышав славильщиков, кинулся аки лев.
– Ты что орешь, – поймал он переднего клопа за загривок. Маленький славильщик имел инструкцию не переставать, так как вся суть успеха прославить, а потом уж хозяевам стыдно не дать грошик.
– Маленький хлопчик сел на столбчик, в дудочку играет… – пищал стиснутый купеческими ручищами мальчуган.
– Ну, дальше? – произнес Степан Парамонович, сгибая мальчугана со злою иронией.
– Христос родился, Иуда удавился… с праздником поздравляю и… нам того же желаю, – едва произнес зарапортовавшийся и сжатый за загривок мальчуган.
– Удавиться-то! – воскликнул Степан Парамоныч, и сгреб славильщика за вихор.
Славильщики в это утро едва унесли ноги от Степана Парамоновича.
На улице также раздавалась в это время брань. Солдатка кричала проходившему полицейскому сермяжнику:
– Не стыдно цыплята воровать! Не стыдно, да я бы их задушила, ешьте давленых.
– Что же мне тебя ждать было, когда приказано! – огрызался сермяжник.
Наступили святки. По домам ходили сибирские ряженые, цыганки, татарки с «пивками» (пиявками), медведь в бараньей шубе с гусем, турчанки с полотенцем на голове и подчембарив юбки. Отставной солдат из славильщика превратился в атамана, а ребятам сшил бумажные колпаки из остатков от Вифлеемской звезды.
Старый караульный Михеич, с колотушкой, привыкший колотить и дремать на конце улицы, был не в духе, пробегавшие в кацавейках девушки то и дело спрашивали:
– Как его зовут?
– Да Михеич же? Что вы пристали?
– Ах, это Михеич, – слышался звонкий хохот.
За его воротник из соседнего двора пошить даже башмак, причем он было серьезно рассердился, но придумал месть и башмак проносил за воротником, а на утро сделал девкам публикацию.
Михеичу было немало хлопот. Вот поздняя ночь. Пролетела тройка из-за реки с разгулявшимися парнями, с песнями и гиком.
– Караул! Караул! – слышалось где-то. Михеич летел в конец города к спуску с горы. Здесь стояли распряженные сани и сидела попадья из пригородной деревни, громко вопя. Лошадь была на горе, а сани под горою.
– Что случилось? – хлопотал Михеич, махая своим караульным жезлом.
– Да вот разбойники не дают в город въехать, я к куму-протоиерею еду. Только под город-то подъезжаю, а молодцы па тропке подкатили, вышли. – «Стой!» – говорят! Я перепужалась. Думала, последний час пришел. А они отпряги лошадь, да и спусти меня с горы на салазках. Потом опять в гору втащили, да опять с горы, да раз десять так тешились. Просто замучили – ни в зад, ни вперед.
– Где же лошадь-то ваша, матушка?
– На горе, разбойники оставили. Кучер-то запрягать начнет, запряжет, а они опять отпрягут. Ведь вот какие охальники!
Скоро появился и кучер поповский Антипка, вываленный в снегу, и запряг лошадь. Под охраной Михеича тогда попадья вступила в город.
Шуток много творилось. В соседнем предместье молодцы сняли ворота у мещанина Мылобреева и подвесили к воротам Толстобрюхова, а Толстобрюховские поставили на мост. Они же утащили целую поленницу и сложили среди другой улицы.
Пьяный обыватель долго стоял па мосту размышляя, кажутся ему тут ворота или действительно выросли. Отворил, прошел и сказал:
– Верно бес путает.
Исправник Егор Евстигнеевич целые святки был раздражителен –то то, то другое. Вчера в уездном маскараде к нему подошла какая-то маска и имела странный разговор. Поминались даже цыплята. – Это верно докторша, – решил исправник, – она с женой не в ладах. Когда дама ушла, Егор Евстигнеевич, недолго думая, полетел объясняться. Он влетел бойко прямо в спальню докторши и застал ее ложащейся спать.
– Позвольте узнать, сударыня, какое вы имели право в маскараде… Я, сударыня, начальник…
– Что вам угодно? – спросила докторша гневно.
– Дерзости можно говорить в маскараде?..
– С чего вы берете, я в маскараде и не была, да если бы и была, вы забываетесь! Как вы смеете входить к даме в спальню без мужа. Караул! – исправник перетрусил, пустился бегом, забыв впопыхах фуражку.
Был последний день перед Крещеньем. После обеда началось катанье по городу, народу было гибель, самые причудливые русские и инородческие сани, покрытые пестрыми коврами, мелькали среди катающихся, появились маски в вывороченных шубах и треугольных шляпах, сидевшие на козлах; в некоторых санях слышалась гармония и скрипка, это был сибирский карнавал! Гам шел по улицам ужасный. Под вечер выехал огромный возок, запряженный в шестерню, с форейтором, пестрая прислуга стояла на запятках, кучер в треуголке правил лошадьми. Любопытные заглядывали в возок и изумлялись. Оттуда раздавался лай. Это устроил потеху местный купеческий сын.
Происшествие было необычайное и полицейский разбудил Егора Евстигнеевича, спавшего после опорожненного праздничного «люнеля».
– Где, что? – воскликнул Егор Евстигнеевич.
– Собаку, ваше высокоблагородие, возят! – рапортовал кривой полицейский.
Егор Евстигнееич усмотрел в этом нечто аллегорическое, – Собаку! ах скоты! воскликнул он.
Немедленно он появился на площади с двумя полицейскими. Разукрашенный возок остановился.
– Вы кого везете? – закричал он расписанным кучерам и форейторам.
– Не могим знать. Алексей Иваныч кого-то посадили.
– Отворяй дверцы! – отворили, и к хохоту публики выскочила огромная собака-водолаз в ермолке.
– Это пашквиль! – крикнул Егор Евстигнеич, – вези всех в полицию, и возок, и лошадей, да позвать ко мне хозяина. – Явился купеческий сын, весьма довольный эффектом и крепко навеселе.
– Зачем вы собаку катали?
– Потому что ей прогулка и чистый воздух требуется, – отвечал, улыбаясь, купеческий сын.
– А на кого вы этим намекнуть хотели?
– Ни на кого-с.
– На полицию! Милостивый государь, на полицию!
– И не думал! – отвечал озадаченный Алексей Иванович. – Просто маскарадная шутка.
– Вы в маскараде подходили ко мне и насчет цыплят намекали! Это тоже шутка?
– Я не подходил!
– Знаю, сударь! я вас арестую и донесу, это против власти!
– С чего вы взяли, Егор Евстигнеич, – заартачился купеческий сын, – арестовать за это вы не имеете права? Я прошение подам.
– После, брат, подавай, а теперь в кутузку!
На утро Егор Евстигнеевич диктовал письмоводителю: «Дело о злокозненных поступках купеческого сына Алексея Иванова и незаконном катании им пса, имевшем в виду изобразить мараль на полицию».
– Могу я его повесить, как ты думаешь? – спрашивал он письмоводителя.
– Едва ли-с, правов нет.
– Как нет, один исправник своею властью двух обывателей чуть не повесил, да стряпчий только спас, и он и теперь служит в Восточной Сибири.
– Не знаю-с! – терялся письмоводитель.
Дело о катании пса затянулось и купеческий сын, не будь плох, поехал жаловаться. Он побывал где следует и две гербовых налепил, да еще две.
Егор Евстигнеевич получил запрос, почему он катание собаки находит оскорблением полиции, тогда как оное может считаться лишь нарушением порядка и благочиния.
Егор Евстигнеич задумался. – Пес меделянский, в ермолке! – перебирал он, на шестерке цугом, – Ну, как же тут не мараль? Как бы тут отписаться… а что, Иваныч, –обратился он к письмоводителю, – не послать ли груздей в губернию!
1883