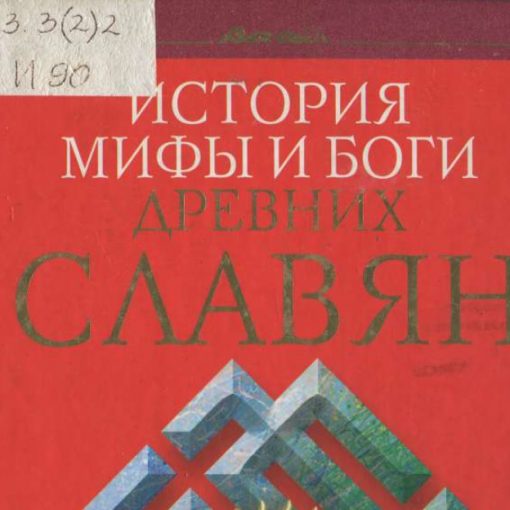Николай Коняев
Берёзовский уезд. 33-й день пути. 1907. 11 февраля
«…Какое бы значение ни имело оружие, не в нём, господа судьи, великая сила. Нет. Не способность массы убивать других, а её великая готовность умирать – вот что, господа судьи, с нашей точки зрения, определяет победу народного восстания…»
Гул восторженных голосов подсудимых, свидетелей и даже бесстрастных, казалось бы, газетных репортёров заглушил заключительные слова вдохновенной речи Бронштейна…
И в этот миг как будто впервые за последние годы он увидел большие, полные слёз глаза матери, с жалостливым упрёком устремлённые на него. Такой беспомощной, растерянной, одинокой увидел её в просторном зале судебных заседаний, в окружении незнакомых, чуждых ей по духу людей.
Увидел отца – с мертвенно-бледным, каменным выражением лица. После блестящего выступления Лейбы он по своей наивности и дремучему невежеству, ожидал, вероятно, немедленного освобождения его из-под стражи, несмотря на то, что утром сын предупредил честно и откровенно – надо готовиться к каторге.
…Видел глаза родителей, сердцем воспринимал их бессловесные страдания, но бодрился, крепко пожимал руки подходившим к нему адвокатам и даже принимал горделивую осанку героя дня.
Суетливые журналисты скорострельными вопросами осаждали многочисленных адвокатов и свидетелей. Судебные и высокие правительственные чины от комментариев воздерживались.
Никто из сочувствующих и даже товарищей по партии не ведал, глядя на его браваду, что на самом деле творилось в душе. До боли жаль стало таких дорогих, таких милых сердцу, исстрадавшихся за него родителей. Он понимал, что должен сказать им в утешение какие-то нежные, добрые, ободряющие слова. Как в детстве, в Яновке, на далёкой херсонщине, когда после очередной безобидной шалости, случалось, с кротким выражением лица неслышно подходил к матери, сидевшей в кресле за чтением, обвивал её шею ручонками и шептал на ушко: «Мамочка, ридна, прости мене, я бильше николи-николи тебе не засмучу!»…
— М-м-ма-а-ма! – сверхусилием воли выдавил из себя слабый стон и словно от внезапного толчка открыл глаза.
Обоз из сорока саней растянулся по замёрзшей Оби едва ли не на пол-версты. Лошади бежали мерной рысью, легко скользили по заснеженному льду крытые кошёвки. По левую сторону отлогого берега тянулись низкорослые кустарники и одиночные корявые берёзы, придавленные тяжёлыми шапками снега. Ни встречного конного, ни оленного экипажа, ни крестьянской избы, ни остяцкой юрты… Бесконечная снежная пустыня. Однообразный, усыпляющий скрип саней и смягчённый толщей снега топ копыт исходящих паром лошадей…
«Сон?.. Опять этот выматывающий душу тягостный сон!»
Лейба плотней запахнул полушубок, подтянул на себя край тяжёлого войлока, ворохнулся, удобней устраиваясь в кошёвке. Адская, пульсирующая боль отдавала в виски…
Он понял, что опять какое-то время пребывал в новом для себя — болезненном, близком к бессознательному состоянии забытья, приобретённому, вероятно, за выматывающие унылым однообразием дни и ночи невольничьего санного пути от Тюмени до этого невообразимо далёкого Заполярного Обдорского!
«Ведь точно не спал!»
Только что сотый раз с умилением рассматривал привезённую матерью в тюрьму из Яновки фотографию своих девочек – Зинуши и Нинуши. Фотографию чудом не выдуло из уснувших рук. Он вложил её в конверт из плотной бумаги, спрятал в боковой карман полушубка. Надел пенсне и тупо уставился на чёткий след санных полозьев впереди бегущей лошади…
Жаль было родителей. Как будто не он, Лейба, а они где-то там, вдали от цивилизации, от признаков человеческого жилья, зябнут в снеговой пустыне. Как же отец сдал за минувший год! Потускнел, обмяк… Разве ж по такому тернистому пути мечтали пустить они своего младшего — неуёмного Лёвушку? Разве об этом думали-гадали, определив поначалу в хедер, а затем и в Одесское Святого Павла? Не вышло, отец, из твоего Лёвушки рачительного хозяина-арендатора! Бедная мама, не оправдал твоих надежд!
С восемнадцати лет – по тюрьмам и ссылкам. В побегах, в подполье… Два года одесской тюрьмы, два с половиной иркутской ссылки, эмиграция, два с лишним года ленинских и парвусских университетов в Лондоне. Снова Россия. Россия на стыке двух эпох – империи прошлого — Республики будущего. И – вновь арест, вновь тюрьма, вновь ссылка…
«За участие в преступном сообществе с целью изменения установленного в России основными законами образа правления… на вечное поселение в Сибирь…» — точка, поставленная приговором шестнадцатого ноября минувшего года.
Хорошо, не в кандалах на каторгу. Но всё же, кто скажет, дождутся ли? Суждено ли увидеться? И не слишком ли безжалостно по отношению к родителям? Не слишком ли завышена цена? И разве не жестоко, не подло по отношению к Александре, брошенной в Усть-Куте? К девочкам своим, при живых родителях оставленным на попечение стариков?
Жестоко, надо признать… Очень жестоко. Но иного пути нет и уже не будет.
Александра – женщина умная, сильная, всё понимает, всё простила. Она знает: ни тюрьмы, ни ссылки, ни сиротство собственных детей, ни слёзы родителей, — ничто уже не свернёт с избранного пути, никто и ничто не остановит его – Лейбу Бронштейна.
Борьба – единственная стихия, в которой только и возможна его жизнь, революция – единственный смысл. Александра отдала его революции: «Иди, тебя ждёт большая судьба».
И он всем пожертвует ради достижения великой цели. И Наталья, нежная, любимая Наталья Седова это уже понимает. И если Обдорская ссылка по непредвиденным причинам затянется, он и тогда не отчается, не опустит «крылья». Её «орлёнок» и там, в заполярных снегах, продолжит борьбу. Да и она морально готова к участи жены политссыльного. Вот чуть окрепнет в Терриоках ребёнок и… посмотрим!
Нет, не откажется от борьбы, тем более, сейчас, когда совместно с Парвусом вышли наконец-то на тот единственно верный путь, которым пойдёт Россия будущего!
Бесплодны споры большевиков с меньшевиками! Не правы ни Ленин, ни Мартов. Ни старики Плеханов и Засулич.
Парвус! Вот кто ближе к истине. В результате буржуазно-демократической революции, которая на пороге, — не диктатура рабочих и крестьян, не власть буржуазии, а диктатура пролетариата. Только диктатура пролетариата! И социалистическая революция победоносна только в условиях мировой пролетарской революции. Только так и не иначе!
Эта вызревшая в политических баталиях теория придаст запаса прочности там, в неведомом Обдорском. «Итоги и перспективы» — это не итог, не точка, это — начало великого дела. Возможно, главного дела жизни!
Унылое, безмолвное, бескрайнее пространство… Эта снежная пустыня хуже заточения. Камера в Петербургской тюрьме теперь представлялась уютным кабинетом: как же там отменно работалось! Трудно поверить, но ведь желал, чтобы петербургское сидение продолжалось как можно дольше. До тех пор, пока не выкристаллизуются, не выстроятся в ясные и чёткие формулировки окончательные выводы относительно неизбежной революции. Неизбежной – это убедительно доказано всем ходом девятьсот пятого года. Куда уж убедительней! Куда уж доказательней!
…И даже теперь, в этом нескончаемом пути, он всё ещё не отошёл от напряжения последних тюремных месяцев. Который уже раз заново переживал, взвешивал на чутких весах совести и ответственности каждое произнесённое в суде слово. Оценивал с точки зрения политической тактики каждое принятое решение, каждый поступок, и всё более укреплялся во мнении: ему не в чем себя упрекнуть. Ни в том, что сразу и безоговорочно отверг странные рекомендации ЦК по поводу поведения на процессе. Будто Совет организовал массы для проведения в жизнь всего лишь обещанных октябрьским манифестом свобод. Это выглядело бы по меньшей мере глупо и трусливо. О надеждах на какие свободы могла идти речь, если сам он уже 18 октября на митинге в Петербурге демонстративно порвал «обманку» графа Витте со словами: «Царский манифест – всего лишь клочок бумаги. Его нам сегодня дали, а завтра порвут в клочки, как это сделаю сейчас я… Наш ответ на эту программу – только демократическая республика!»
Он тысячу раз прав и в том, что не внял советам сверхосторожного Мартова в отрицании обвинений в технической подготовке восстания и в признании только отдельных фактов, подтверждающих вооружение рабочих, но вооружение — для борьбы с черносотенцами.
Он не проиграл – он выиграл, заявив несколько, может быть, неожиданно даже для самой прокуратуры, что Совет, руководя борьбой масс, естественным образом подводил эти массы к сознанию неизбежности вооружённого восстания. Более того, неизбежность подчёркивалась не только в речах «отдельных членов Совета», на чём настаивал Мартов (признание сего означало бы гнусное предательство этих «отдельных членов»), а официальными резолюциями Совета и даже ЦК самой партии. Большевики его позицию поняли и приняли, а вот Мартов, к сожалению, встал в позу, в результате осуждённые коллеги – депутаты-меньшевики поневоле оказались в оппозиции к своему центру…
Ему не в чем упрекнуть и товарищей: все придерживались выработанной стратегии поведения. Никаких оправдательных речей, каждый давал объективную, правдивую картину деятельности Совета, подчёркивал его неразрывную связь с пролетарской массой. Блестяще сказал Богдан: «Как можно было из огромной массы подсудимых, а подсудимыми по этому делу является весь петербургский пролетариат, вырвать небольшую кучку и сделать её ответственной за дело масс!». Лучше не скажешь!
Все, кроме Хрусталёва с его приводившими порой в недоумение двусмысленными ответами на допросах. Мало того, что своими предательскими, по сути, показаниями он посадил на скамью подсудимых поверившего в него беспартийного Голынского, так ещё и категорически отрицал какое бы то ни было отношение к вооружённому восстанию, противопоставив свою тактику тактике Совета…
Ему же не в чем каяться. И даже «неожиданный» отказ от дальнейшего участия в суде после отклонения ходатайства Оскара Грузенберга не был ошибкой. К чему было играть в этом постыдном спектакле «правосудия», в этом фарсе после отказа в приобщении к делу секретного доклада Столыпину бывшего директора Департамента полиции Алексея Лопухина? Мало кто знал и догадывался, каким смертоносным для режима зарядом был начинён доклад Лопухина о провокаторской деятельности высших правительственных лиц в пятом году. Доклад, будь он зачитан, а особенно показания самого Алексея Александровича, будь он допущен в суд в качестве свидетеля, вызвал бы эффект разорвавшейся бомбы и со всей очевидностью доказал бы, что Совет-то как раз вопреки тайным замыслам правительства и не допустил в Петербурге крупных погромов…
Он всё сделал правильно. Его решительный шаг стал впечатляющим «коллективным последним словом» подсудимых, поставившим крест на правосудии прогнившего режима…
Мелодичное поскрипывание саней неожиданно сбилось. Лошади с лёгкой рыси вдруг перешли на шаг. Кошевку по инерции протащило на полсажени вперёд и оттолкнуло назад приподнявшимися вдоль заиндевелых лошадиных боков оглоблями… Впереди идущие подводы взяли круто вправо…
— Проснулись, господин? – обернулся пожилой ямщик и, мотнув широкой – от ушей до подбородка – заиндевевшей, в сосульках, бородой, радостно известил. – Сш-шитай, приехали! Во-тан он – Берёзов наш, на горушке стоит!
— Где?– встрепенулся Лейба, в прищуре напряжённо вглядываясь вдаль. – Где Берёзов?
— А о-он, на горушке купола видать!
Далеко впереди, на белых холмах, действительно блеснула на закатном солнце луковка золочёного купола…
— Далеко ли ещё?
— Вёрст пять, однако… И будет вам отдых. И вам, и нам, и лошадкам нашим… В Самаровском-то ладно стретили?
— В Самаровском-то? – в тон переспросил Лейба. – В Самаровском – ладно!
— И в Берёзове стренут как надо. По людски. Где-где, а тута вашего брата перебыва-ало!
— Много перебывало?
— О-о, не счесть! Последние год-два везут и везут! Кого в Берёзов, кого в Мужи, а кого и в самоё Обдорское… Кого так, а кого и в кандалах! Всяких перебывало! – Ямщик громко понукнул лошадь. – Но-о, уснула мне! Шагай весельше. Скоро будем!