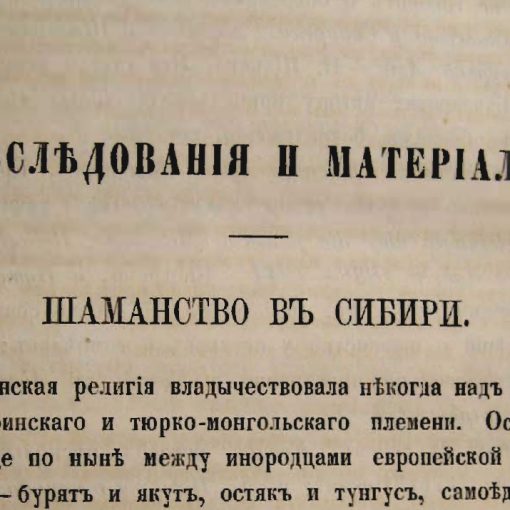Николай Коняев
Наконец-то распогодилось.
С утра прояснило, зелень кругом заблестела, над искристыми лужицами заструились испарения. Воробьи на дороге расчирикались — повеселели.
«Давно бы так!» — легко подумалось Володьке Кононову.
На работу Володька не спешил. Он никогда не опаздывал — напротив, всегда приходил первым. Не потому, что особенно туда рвался. Нет. Вставал рано. Какое-никакое хозяйство водилось, надо было управиться: гусей на озеро спровадить, корову после дойки в стадо выпустить, поросёнку в загон крапивы охапку бросить. Затем завтракал основательно, слушал по радио сводку погоды. Пока шель-шевель, время к полвосьмому набегало. А остатние до восьми полчаса, как ни выгадывай, делу не время. Приходилось идти.
И сегодня Володька шёл да покуривал, по сторонам поглядывал. «С ремонтом бы закруглиться, — ворохнулось в голове, — неделю на приколе простоял, на курево не заработал. Не машина, а доходяга!»
В конце улицы, в просвете меж тополей за большаком, завиднелась шиферная крыша гаража. Володька выплюнул изжёванный мундштук папиросы и с твёрдым намерением во что бы то ни стало завершить к вечеру ремонт своего ЗИЛа ускорил шаг.
У домика аптекарши Васюни Цыганковой он вдруг споткнулся.
За оградой у Васюни разговаривали. И голос был как будто Гошин. Володька, не веря ушам своим, уставился поверх калитки. И остолбенел: Гоша Знобишин! У Васюни! «Ночной попуткой, видно, прикатил, — догадался Володька, — иначе б вся деревня уже знала».
Васюня, босая, русоволосая, в простеньком цветастом халатике, стояла на высоком крыльце, одной рукой придерживала притворённую сеничную дверь, другой — спадавшую на глаза прядь волос. Гоша с пучком смородинника в руке шёл к ней из глубины двора. В трико и тапочках. Непривычно домашний. Смеясь, кричал на ходу Васюне:
— Так нельзя! Жить в деревне и не испить смородинного чая! Мы это дело быстренько поправим.
— Некогда мне чаёвничать, Гош, — отвечала Васюня. — Ты пока один тут покомандуй, а я оденусь да побегу, на работу опаздываю.
Васюнины большие глаза на смуглом от загара, парном ото сна лице, показалось Володьке, лучились. Или это солнышко в них так играло…
— Ну и опаздаешь — не беда, — не соглашался Гоша. — Зато смородинного чая напьёшься!
— Ой, Гош, какой ты! — смеялась Васюня.
— Какой?
— Да ну тебя!
— Нет, правда, какой? — выпытывал Гоша.
— Домовитый… И настырный, как старый свёкор!
Гоша поднялся на крыльцо, шагнул в сени. Васюня прикрыла за ним дверь.
И — всё.
И, ошарашенный увиденным, Володька пошёл дальше. Но Гоша уже не выходил у него из головы…
* * *
Васюня и Гоша… Разные люди. Васюня — женщина серьёзная, к себе строгая. С мужем не повезло — пил, по пьянке и утонул. Хватила она с ним! Но и Гоша — не подарок. Весь какой-то неприкаянный, неустроенный. И пил перед загадочным своим исчезновением, пожалуй, похлеще покойного Андрюхи. Неужто приняла Васюня Гошу? Вот и пойми их, баб, после этого!
Явился, значит.
Гоша, Гоша… Друг мой неудачливый!
Как-никак, соседями, окно в окно жили, на глазах друг у друга росли. В один день в школу пошли, за одной партой сидели. В шестом (или — в седьмом?) оба в Васюню влюбились. После уроков домой её провожали, портфель попеременке таскали, отвагой перед ней бахвалились: на чужие огороды за огурцами да подсолнухами набеги совершали. Володька, правда, быстро к Васюне охладел — мопед на заработанные в покос деньги купил, не до любви стало. А Гоша из-за Васюни не один раз с Андрюхой Цыганком врукопашную схватывался.
К Васюне Володька охладел, но с Гошей по-прежнему дружил. Да и не то слово — дружил. Родные братья, бывает, меж собой так не дружат. Гоша свою мать не помнил, она молодой умерла. Отец с другой женой в соседней деревне проживал, он бы и сына к себе забрал, да у них там школа только до четырёх классов была. Гоша с бабкой жил, а когда та померла, больше у Володьки находился. Вместе уроки учили, спали на одной кровати. Дед Мухин, сосед, так, бывало, и звал их братовьями. При Володьке как-то матери рассказывал: «У тебя, Марковна, парни цо-опкие! Давеча Андрюха Володьке за что-то по уху съездил, так Гошка коршуном на Цыганка налетел, насилу растащили. Цопкие. Что братовья!» — «Ну и дай Бог, чтоб в обиду друг дружку не давали», — отвечала Володькина мать. Они и не давали…
После восьмого класса Гоша в ПТУ поехал. Там общежитие предоставляли, формой обеспечивали. И Володька вслед засобирался, не захотел отставать. Мать, понятное дело, восстала, велела дальше учиться. Но покричала, всплакнула и смирилась. Отпустила.
В армии, правда, разошлись. Как на беду, Гоша с Цыганком в одну часть угодили. Если б не Цыганок, как знать, может, и у Гоши всё бы по-иному сложилось. Хоть и не принято о покойнике плохое поминать, но о Цыганке хорошее не поминалось. Он и напакостил. Да ещё как напакостил!
Вышло так, что Гошу перед самой демобилизацией с партией шоферов на уборочную отправили. На целину, как тогда говорили. Цыганка демобилизовали, а Гошу задержали. Тот, конечно, расстроился, Васюне письмо написал: так, мол, и так, ничего не поделаешь, со свадьбой придётся повременить (у них на осень уже и договорённость была). Но письмо не по почте отправил, а с Андрюхой передал. Цыганок домой приехал, загулял. Спьяну и пришла мыслишка. «Ты Гошу где оставил?» — спрашивает Васюня. «На сверхсрочную благословил!» — «Врёшь!» — «Чтоб мне сквозь землю провалиться!», — клянётся Цыганок…
Лучше бы, действительно, сразу провалился!
Васюня верит и не верит. «И ничего не велел передать?» Цыганок артистично изображает душевную муку: «Понимаешь, Васюня… Есть там у него… Ради неё и остался!» Никто Андрюхиным клятвам сразу не поверил.
Но прошёл месяц, другой — нет Гоши. Все деревенские осенники повозвращались, а Гоши нет. И даже у Володьки сомнение в душу закралось. А Цыганок всё возле Васюни отирается. Поверила она ему. С отчаяния, от обиды за Андрюху вышла. В деревне свадьба, а Володька от Гоши письмо получает… Свадьбу ломать не стал, зубами перескрипел. Но через неделю на машинном дворе с Андрюхой поговорил по-мужски. Ничего, обошлось. Цыганок с полмесяца в больнице в карты поиграл, а Володька столько же райцентровские тротуары метлой прошаркал…
У Васюни с Андрюхой с самого начала не заладилось. Только ради сынишки и жили. Да и жили так: Цыганок больше у матери в избушке пропадал.
Невесёлое возвращение у Гоши получилось…
Володька вскоре после армии женился — время подошло. Свою деревенскую взял. Сперва Леночка родилась, затем Натка. Забот прибавилось, успевай крутись. С Гошей как-то незаметно почужели. Что ни говори, женатый есть женатый.
Гоша из-за Васюни, конечно, переживал, но виду не показывал. Хорохорился. Добродушный богатырь, рубаха-парень, холостяковал напропалую. Бывало, как вечер, на улице впереди ребят с гармонью вышагивает (тогда уже не играли, а он не бросал — форсил). Чубатый, бесшабашный:
У Егорки на пригорке
расцветает красный мак.
Все ребята поженились,
а Егорка ходит так!
Володька, дело прошлое, глянет из окна на весёлую компашку, и так на душе помутнеет. Тоже погулять хотелось, молодой ведь ещё был. А тут Леночка только-только желтухой переболела, у Натки зубки запрорезывались, температура подскочила.
Однако, погулял-погулял Гоша, почудил-побаламутил да и сник. С ребятами знаться перестал, гармошку забросил. Что-то в нём надломилось. А потом вдруг запил. Права отобрали, с машины сняли, в слесаря перевели.
Однажды Андрюха с другом-киномехаником на Иртыш поехали рыбачить, водки ящик взяли, а обратно через трое суток один киномеханик на чужом мотоцикле полуживой со страху примчался: «Андрюха утонул!»
Похоронили Цыганка, и Володька, грешным делом, стал с надеждой подумывать, что со временем у Васюни с Гошей сладится.
Как-то раз Гоша к нему забрёл, пять рублей до получки попросил. Володька бы дал, но у самого лишней копейки в карманах не водилось, всё Маша, жена, подчищала. И на Гошу тогда напустилась: «Всё пьёшь? Ну и дурак! Далась тебе эта Васюня! Одна, что ли, в деревне? Мало ли девок по замужеству истомилось?»
«Расхорошая моя! — приобняв Машу за плечи, рассмеялся Гоша. — Оттого, может, и холостякую, что выбор слишком богатый, глаза разбегаются, не знаю, на ком остановить!» — «Трёкало! — рассердилась Маша. — Всё бы ты смешками. Твои смешки до добра не доведут! Подумай о себе! Из-за Васюни ли спиваться, она тебя лишний месяц не подождала». А Гоша посерьезнел и, уходя, обернулся от порога: «Ты, Мария, Васюню строго не суди. Я больше её виноватый… А про девок так скажу: их много, да любовь, видно, всё-таки одна. Первая. Всё, что потом, — осколки. А на фига мне осколки?»
Деревня есть деревня. Похоронили Андрюху, и досужие языки разное про Васюню с Гошей заговорили. Дескать, он давно к ней клинья подбивал, случая ждал подкатиться. Однажды Гоша пьяный в слесарке спал, а Васюнина свекровь окна у вдовы перебила. «Бесстыжая! — разорялась на всю улицу. — Сука такая-растакая! Мужу, как похоронили, сорока дён не сравнялось, ноги у покойника не остыли, а ты!..» — Обезумевшей от горя старухе Гоша в Васюнином окне пригрезился.
И Гоша исчез. Заколотил свою избушку и уехал. Никто не знал, куда. И стали его потихоньку забывать, будто не было в деревне такого. И Володька стал забывать. Был друг, да сплыл. Куда девался, надолго ли — не гадал. Не до того было…
И вот — объявился Гоша.
У Васюни.
* * *
Утреннюю лёгкость как рукой сняло. Работа не шла на ум. Там и делов-то оставалось — снять радиатор да как следует прочистить, весной промыть поленился, движок и обессилел. Володька рукава засучил, вокруг машины походил, попримеривался. Только к радиатору пристроился, ключ как назло с железа соскользнул, палец раскровянил. Володька в сердцах выматерился, ключ в угол зашвырнул, в бытовку ушёл. Там Гешка Мухин, деда Мухина внук, «Огонёк» рассматривал. Вернее, обложку с кроссвордом от «Огонька». Журнал на столе с понедельника лежал, от него с каждым днём убывало, одна обложка и осталась.
— Во! Может, ты, Кононов, секёшь? — встрепенулся Гешка. — Ну-ка, шевельни извилиной: «Балет А. Хачатуряна» из семи букв?
— Чего, чего? — приостановился Володька.
— С вами всё ясненько, Koнонов! — вздохнул Гешка. — Вы, маэстро, мне далёко не помощник.
— Ты уже третий день про этого Хачатряна спрашиваешь! — рассердился Володька. — Балетмейстер выискался. Шёл бы лучше вкалывать!
— Во-во, это наше дело, это мы могё-ём, — дурашливо протянул Гешка. Длинно зевнул, потянулся до хруста в суставах, заломив над головой руки. — Только в том мы и сильны, что гайки крутить! А ведь кто-то, гадство, в этих балетах-кордебалетах собаку съел!
Володька промолчал.
Гешка скатал обложку в трубочку, к глазу её приставил, на Володьку навёл.
— Кононов, чегой-то у меня, язви его, нос зудится?
— Не знаю, с чего зудится, — буркнул Володька.
— Хороший нос, говорят, за полдня выпивку чует, — намекнул Гешка. — Ты как сегодня после получки насчёт… дровишек?
— Никак.
— Чего так?
— Отлипни.
— Во даёт! — удивился Гешка, — а я думал, как всегда, поддержишь инициативу!
Володька сел у окна, пластырем из аптечки ссадину на пальце залепил, закурил. Тут механик с улицы зашёл, и Гешка мышью из бытовки шмыгнул.
Володька курил тоскливо, а механик, молодой парень, недавно из техникума, то и дело хлопая дверью, выходил и заходил, пил воду из мутного графина, рылся в бумагах на тумбочке, водил мазутным пальцем по замусоленным страницам телефонного справочника, но никому не звонил. На Володьку искоса поглядывал. Это и раздражало: «Пыхтит, как ёжик, а не накричит, из бытовки не погонит. Вот так целый день пропыхтит и слова не скажет. Начальничек!»
Володька задавил окурок в пепельнице и вышел.
В обед кое-как дочерпал миску борща и отказался от добавки.
— Чего смурый такой? — заметила жена. — На работе неполадки?
— С чего взяла?
— По тебе вижу.
— Видит она!
— Дак, конечно, вижу. Что-то неладно. Поди, с начальством поцапался?
— Да всё ладно! — вспылил внезапно Володька. — В том и дело, что всё ладно. Так прям ладненько, что лучше некуда!
Маша застыла у стола. В одной руке поварёшка с борщом, в другой — крышка от кастрюли.
— С тобой сегодня ладно?
— Тьфу ты, забуксовала-заладила! — Володька рывком поднялся и схватился за папиросы.
Маша опустила поварёшку в кастрюлю, зло выговорила:
— Опять, я гляжу, замудрил. Как у вас получка, так бес тебя в бока шпигует! Места не находишь!
Володька хлопнул дверью…
Трудно прошёл день.
* * *
Вечером со скотиной управился, на лавочке покурить вышел. Старик Мухин из окна его увидел, тоже приковылял, рядышком одышливо опустился. Сидел и время от времени вздыхал глубокомысленно:
— Хлеба, парень, доходят… Колос ши-ибко чижёлый!
— Доходят, ага, — машинально соглашался Володька.
И опять долго молчали.
— А дожжи, парень, маненько напаскудили. Местами полегла ржичка…
— Подымем, не впервой.
Натка, кровинушка Володькина, на качелях раскачивалась. Он ещё до армии у себя за воротами, у мухинского палисадника, два столба вкопал и в перекладину ломик на скобы укрепил — турник сделал. Теперь этот турник для Леночки с Наткой в качели переоборудовал. Натка плавно покачивалась, резиновыми сапожками лужицу под качелями бороздила, напевала вполголосочка:
Я качалась на качелях,
под качелями вода.
Красно платье замочила —
дайте белое сюда!
И чем дольше Володька на дочурку глядел, тем больнее на душе становилось. Он замечал, как Маша то и дело из окна выглядывала. «Следит, не уверяется, что с получки насухую сегодня обходится!» Но досады на жену не испытывал.
— Слышь, дед, — обратился он к Мухину. — Сегодня Гошу Знобишина видел. Вернулся, оказывается.
— Ну-у? — удивился дед. — Теперь торговля пойдёт! А то ведь выручка без него упала. Водка прокисает!
Володьку аж передёрнуло — за живое задело. «Вот ведь люди! Нет, чтоб спросить, где видел, как видел!»
— Он, может, теперь другой, Гоша-то!
— Э-э, парень, — вздохнул Мухин, — горбатого могила исправит. Кому что дано!
— Чего дано, чего это дано? — загорячился Володька. — Что он, пьяницей горьким, по-твоему, родился? «Дано-о!»
— А ты пошто, парень, вспетушился? — прокашлял дед. Он новую цигарку сворачивал, и она у него в пальцах рассыпалась. Кисет в карман сунул. — Дай-ка лучше свою беломорскую, — попросил у Володьки.
Тот протянул начатую пачку.
Мухин закурил, затянулся, втянув серые худые щёки, губами причмокнул.
— Сырые они у тебя, что ли? — крякнул недовольно. — Не лёгкие, а насос надо иметь…
— Всё смолишь, — неодобрительно отозвался Володька.
— Не в твои годы курить бы. Там, наверное, внутрях-то, всё черным-черно от дёготи… Помрёшь скоро, а всё смолишь.
— Ну уж хрен! — неожиданно в кашле всхрипнул Мухин. — Помирайте сами, коли жисть опостылела. А я ещё маненько небо покопчу, мне не в тягость. Это вам, молодым, погляжу, всё одно: что жить, что околеть.
— Как это так? — не понял Володька. — Что-то ты, дед, забуровил!
— А нисколечко не забуровил, — сердито выдохнул Мухин, — Нету у вас, нынешних, вкусу к жизни. Без радости живёте. Тычетесь вслепую по углам, как котята мокрые. Каждый сам по себе. Раньше, бывало, на лавочку выйдешь к вечеру, слышишь: там гармошка, там гармошка. Веселится молодняк. И старичьё, на них глядючи, в кружок поботолить сойдётся. А щас никого, шаром покати. Все по своим углам. Старики и те на запорах с ужина, сроду такого не бывало…
— Что ж, по-твоему, лясы по вечерам точить — в этом вкус? — съязвил Володька.
— А может, и в этом, — серьёзно, не уловив насмешки, ответил Мухин. — Я человек не больно грамотный к умным разговорам, а только, парень, так скажу: на фронте как прижмёт тоска по дому, так мне всё посиделки и виделись. Дети, баба да посиделки. Уж как нас только не ломало, не корёжило! Иной раз махнёшь рукой, подумаешь: скорей бы конец, чтобы отмучиться! А вспомнишь — и жить охота. Хватаешься за соломинку, землю грызёшь. А вы? Да что там говорить — не цените вы жизни!
— Володь, иди ужинать! — позвала из окна Маша.
Володька на Мухина внимательно поглядел.
— С тобой, дед, не соскучишься. Не сразу сообразишь, что к чему.
— А ты покумекай на досуге, — посоветовал Мухин. — Может, дойдёт.
Натка всё покачивалась да распевала:
… бело платье замочила —
дайте синее сюда!..
Володька ещё раз хмыкнул, любимицу с качелей позвал:
— Пойдём, доча, домой. Мамка ужинать кличет.
После ужина у телевизора посидел. По второй программе шло кино. Про какой-то колхоз, где мужички целыми днями пластались друг с другом в правлении, а грудастые, пышнотелые колхозницы с песнями пропалывали свёклу и дружно корили Одарку, которая с агрономом снюхалась…
Володька до конца не досмотрел, лёг, затылок руками обхватил…
* * *
Вот ведь штука — жизнь! Живёшь, не задумываясь, без оглядки — и всё-то вроде у тебя ровно да гладко, и впереди как будто всё ясно и просто. Но вдруг ни с того ни с сего поймёшь, что… пусто как-то живёшь. И что обидно — чуешь это, а объяснить даже самому себе не в силах. Как блажной становишься: всё тебе не так, всё тебе не этак. И, застигнутый врасплох этой чёрной мыслью, начнёшь в себе, в прошлом своём ковыряться. Ищешь там хоть что-то противоречащее своему открытию, но, к огорчению, находишь, что хорошего действительно кот наплакал.
Хотя, конечно, если тебе тридцать с небольшим, у тебя семья — жена и две дочурки, в которых ты души не чаешь, работа — любимая или нелюбимая, не столь важно, если она кормит и идёшь на неё легко, квартира, а в ней всё, что принято иметь в порядочной квартире, если, кроме всего прочего, у тебя хозяйство, гараж, а в гараже хоть и старенький, но всё же на ходу «Иж-Юпитер» с коляской, то вроде грех на судьбу плакаться. Живёшь если не лучше, то, во всяком случае, не хуже других… Однако втемяшится в голову! И откроешь неожиданно, что всё твоё прошлое — не что иное, как чередование чёрно-красных календарных будней. Причём по закону календаря чёрных всемеро больше. И что всего обидней, ничегошеньки не сделал, палец о палец не ударил, чтобы изменить что-то в себе, зажить, как мечталось когда-то — было ведь?
Ничегошеньки не сделал. И не подумал.
Володька глубоко вздохнул, на бок повернулся…
Разве это жизнь? Утром встал глаза разлепил, по хозяйству управился и — на работу. С работы пришёл, опять допоздна по хозяйству. Затем брюхо набил, у телека посидел — и на боковую. Какдый день одно и то же. Каждый божий день… Хорошо, когда покос или уборочная, всё разнообразие. Обленился, опустился. Ни поехать, ни пойти никуда не тянет — ни в кино, ни в гости. Ни к тебе никто, ни ты ни к кому. В отпуск сто лет не ездил. Полжизни, можно сказать, пролетело, а чего хорошего видел? Моря, и того не видел. А как мечтал на море съездить! Зато завёл сберкнижку. Для чего, спрашивается, завёл? Когда, как не сейчас, — девчонки, слава богу, подросли — махнуть куда-нибудь с семьёй? В Сочи, например. Или в Анапу. Или куда там ещё люди ездят?
Но главное не в этом. Гоша на глазах погибал. Пусть для других он такой-рассякой, пьянь беспробудная, но ты-то его знаешь. Знаешь, что за человек. Но не зашёл, к себе не пригласил, а он, может, ждал. Кого ему больше ждать? И так жалко стало Володьке упущенного, такая дремучая тоска обуяла — кулаком по стенке саданул.
— Ты чего? — испуганно спросонок спросила Маша. — Приснилось что-нибудь?
— Приснилось… Спи.
До полуночи проворочался.
«Всё, — приказал себе, — так больше нельзя. Пора бы и встряхнуться!»
Он мысленно перечеркнул своё серенькое прошлое, увидел впереди просвет, ещё не обозначенный чётко, зыбкий, расплывчатый, но уже притягивающий, вселяющий надежду. И так поверил в лучшее завтра, что бесконечно долгой показалась предстоящая ночь, долгой и тягостной, как всё прошлое. И подумалось: чтобы не отступиться, надо немедленно что-то предпринять. Сейчас же, сию минуту.
— Ты не спишь, Маша?
— Ну?
— Я что надумал… Давай, пока уборочная не началась, мотанём куда-нибудь.
— Куда? — на локте приподнялась жена.
— В отпуск.
— Долго думал?
— А что? Съездим, проветримся, а то ведь засиделись. Всё дома и дома. Не старики ещё!
— А хозяйство на кого?
— На Мухиных оставим.
— Больше ничего не придумал? Кто бы за ними присмотрел!
— Да ну. Они, слава богу, ещё шустренькие.
— А умишки у обоих уже детские… Что это тебе вдруг вздумалось?
— Живём как-то неладно…
— Плохо, что ли?
— Не в том дело… Скучно!
— A-а! Больше б дома по хозяйству ковырялся, некогда б стало скучать! — Маша отвернулась, ткнулась носом в подушку.
И до Володьки дошло: с женой будет сложней. Её не просто расшевелить. Но и отступать был не намерен.
— Деньги с книжки сыму, — заявил он. — «Урала» куплю. «Ижака» продам, а «Урала» куплю. По нашим-то дорогам на «Ижаке» не больно разгонишься, а на «Урале» — милое дело. Хоть по грузди, хоть по ягоды.
— Ещё что сколобродишь? — недоумённо уставилась Маша. — «Урала» ему захотелось! Один мотоцикл на железки разобрал, теперь другой подавай. Богатей выискался!
— Сперва, конечно, в отпуск, — продолжал Володька. — Завтра же заявление напишу. Живём, как эти… Хватит! Девчонок с собой свозим. А то чего ж видели? Вон, у людей, посмотришь, дети в музыкальных школах учатся. В райцентре бываю, так идёшь мимо — пиликают, кто на чём. Родителям приятно послушать. Ты свозила бы Лену, может, примут.
— Так ведь возила уже! — Маша всё ещё буравила Володьку подозрительным взглядом.
— Ну и что сказали?
— Сказали, слуху нету.
— Так и сказали?
— Так и сказали.
— Врут, поди. Мест нет, вот и слуху нет… Ты ей ко дню рождения ничего ещё не покупала?
— Господи! — простонала Маша. — Месяц впереди!
— Не покупай, не надо. Я куплю.
— Присмотрел чего-то?
— Давненько присмотрел. В июне, когда в райцентр с собой возил, по магазинам походили. В универмаге аккордеон увидела, глазёнки загорелись: «Купи, говорит, папка, большую гармошку!» Куплю. Пускай учится. Чего видели-то? Городские, послушаешь: в цирк не хочу, в театр не хочу, в балет не хочу! Хачатрян им не Хачатрян! А наши…
— Какой ещё Хачатрян? — перебила Маша.
— Да композитор один… По балету.
— Понимает кого-то! — недоверчиво проговорила жена. — Нет, Володь, честно, ты сегодня не того — не клюнул с дедом на лавочке малость, а? Я тебя чего-то не пойму. Соображаешь сам, что колобродишь? Такие деньги на музыку ухлопать, а что она с ней делать будет? Любоваться на неё?
— Пусть учится!
— Говорят же — слуху нет. И у кого учиться? У Егора? Днём в магазине была, слышала, явился твой друг Гоша. Видел его, нет?
— Видел…
Володька сел, обхватил колени руками. Маше тоже спать расхотелось, разогнал Володька сон. Села рядом, зевнула.
— И чего, спрашивается, уезжал? Сошлись бы с Васюней сразу да жили, если уж такой роман…
— Какой такой роман?
— Забыл, какие романы бывают?
— A-а! Любит, вот и уезжал.
— Здравствуйте! Раз любит, зачем уезжал?
— Тебе, Маша, не понять.
— Надо же, — обиделась жена, — какой ты у меня понятливый! Давно таким заделался? Что-то я не замечала!
— Потому и уехал, чтоб Васюню в покое оставили, что ни попадя языками не мололи. Гоша, он такой. Я его знаю.
Маша недоверчиво на мужа покосилась.
— И какой он, интересно?
Володька слез с кровати, сел к столу, закурил.
— Помнишь, когда мы в детстве ещё безштанниками бегали, за деревней качели стояли? После масленицы оставались?
— Ну, конечно, помню.
— Так вот, как-то раскачались мы с Гошей. Хорошо раскачались. А тут Андрюха Цыганок откуда ни возьмись. Встал сбоку и давай, чертёнок, ещё сильней раскачивать. До того раскачал — вот-вот через перекладину перекувыркнёмся. Я ору, что есть моченьки — страшно сделалось. Ноги, руки задрожали. И Гоша, вижу, белый… А осень поздняя стояла, снежок, помню, выпал, морозец прижимал. Верёвки — что тросы, обледенели. Хорошо, я в рукавичках, а Гоша голыми руками уцепился. Но — молчит. Я базлаю, он молчит. Ладно, дед Мухин увидел, Андрюху шуганул. Гоша как на землю ступил, так и присел — ноги отказали. И ладони в крови. Он до того в верёвки вцепился, что они ему пальцы в кровь изодрали. Сел и заплакал. Мухин: ты чего, Егор, ревёшь? Радоваться надо, что не изувечились. А Гоша: я за Володьку боялся. Если б я упал, то и он убился бы. Мухин засмеялся: правильно мыслишь… Даже одному нельзя упасть, когда вас двое на качелях. Один сорвался — другой следом… – Володька замолчал, сходил выпил воды и лёг.
— Ну и что? — спросила Маша. — К чему ты про качели вспомнил?
— Ну, знаешь! — Володька задохнулся от досады. — Давай-ка лучше спать. А то поругаемся на ночь глядя.
Маша с минуту помолчала и согласилась:
— Давай, правда, спать. На работу завтра…
Володька поворочался-поворочался да и уснул. Да так разоспался, что утром Маша едва добудилась. Он второпях собрался и, впервые опаздывая, побежал на работу.
А утро опять выдалось солнечным, небо полностью расчистилось. Захлопали калитки. Из Васюниной Гоша вышел. С Володькой нос к носу столкнулись.
— Здорово, что ли, Кононов!
— Привет, пропавший без вести! Далеко ли навострился?
— В правление насчёт работёнки…
Они тряхнули друг другу руки и пошли вместе. Шли молча. Впереди — долгий день. Можно наговориться.
И на душе у Володьки было легко, всё вчерашнее улетучилось без остатка. Он даже удивился: что же это со мною творилось? Но не смог понять. Отмахнулся. С каждым, наверное, бывает.
1987