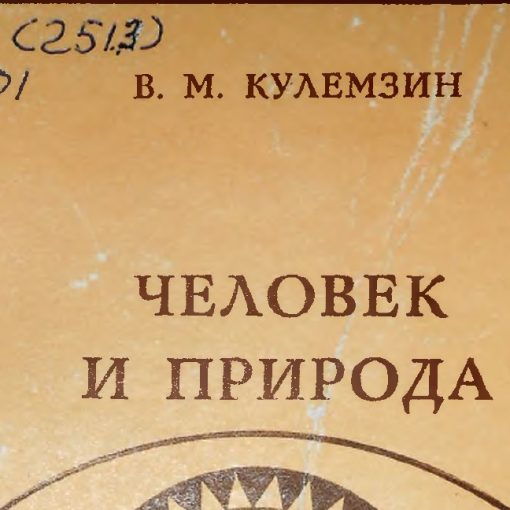Новомир Патрикеев
Сколько помню себя, столько помню и охотничьих собак, которые всегда жили в нашем доме. Первые из них — старая вогульская лайка Серка и кофейно-пегий пойнтер Найда, привезенные отцом с севера Пермской области в Обдорск (ныне Салехард) — единственный в мире город, расположенный на черте Полярного круга.
Передо мной четкая студийная фотография 1926 года. Девятнадцатилетний отец сидит с ружьем на коленях на фоне панно, изображающего лес. На декоративном заборе из березовых жердей висит патронташ, а рядом Найда, стройная, как хорошо вылепленная скульптура. Представляю ее в стойке! Сохранился и маленький пожелтевший любительский снимок осени 1929 года. Отец в обнимку с Найдой, рядом висят четыре тетерева и огромный журавль, которого она подраненного разыскала в болоте и добрала. Несмотря на короткую шерсть и раннюю специализацию по болотной дичи и выводкам тетеревов, нежный пойнтер прекрасно работал по уткам в кочковатой обской пойме.
На одной из предвоенных охот отец показал мне место, где Найда в вечерних сумерках смело атаковала на мелком илистом озере, скорее длинной луже, молодого лебедя. Догнала его во время разбега для взлета и крепко вцепилась зубами в хвост. Но сильная птица легко вырвалась и ударом крыла отбросила собаку. Мокрая и грязная, она снова догнала и остановила лебедя, получив опять добрую оплеуху. И так три раза, пока лебедь не оторвался от преследования уже на берегу и взлетел, но попал под выстрел.
В наше время неэтично писать о красавцах-лебедях как о дичи, однако до 50-х годов их не только стреляли ради мяса и пуха охотники, но и бочками заготавливала кооперация. Я взял этот факт по трем причинам. Во-первых, как пример азарта и смелости собаки. Во-вторых, он имел своеобразную моральную оценку. Дед по отцу — старый учитель — так возмутился, что там же, на охоте, демонстративно сломал пополам свое ружье и навсегда перестал охотиться. А в-треть-их… сюжет еще получит развитие в повествовании.
В старости Найда ослепла. Однажды вьюжным мартовским вечером 1936 года подошла к деду и бабушке, ткнулась мордой каждому в колени, как бы прощаясь, попросилась на улицу и исчезла. В начале лета ее нашли на могиле прабабушки, ухаживавшей за ней со щенячьего возраста. Мне, выросшему в играх с ней, долго говорили, что Найда просто потерялась.
Близко знал я и других легавых собак. У дяди был крапчатый английский сеттер-лаверак, у близкого друга отца — черно-подпалый шотландский сеттер-гордон, у соседа-рыжий ирландский. Эти породы в отличие от гладкошерстного пойнтера с тонким хвостом-«прутом” имели длинную волнистую шерсть и красивые хвосты под названием “перо”. Они лучше подходили для утиной охоты, а болотной дичью тогда, как, впрочем, и теперь, почти никто не занимался.
Не могу не сказать и о единственном в Салехарде русском гончем, которого видел при сборах на осеннюю охоту. Он был по совместительству и утятником, т.к. работать по основной профессии мог только какой-нибудь месяц, пока лесотундра не заметалась глубоким снегом. Тогда хозяин приглашал друзей на зайцев, и, как правило, все возвращались с трофеем-беляки водились в изобилии. Случалось, охотники наблюдали целые заячьи стаи. Еще в середине 50-х годов сослуживец по Ямальской комплексной сельхозстанции известный ученый-охотовед В.П.Макридин рассказывал, что видел скопления беляков в Ненецком округе во время своих многочисленных охот на волков с самолета.
Хорошо помню возвращение отца с довоенного коллективного выезда и свежий рассказ о нем. В октябре, по последней воде, кто-то подсмотрел, что на высоком большом обском острове с весны осталось много зайцев. Десять охотников отправились туда на четырехвесельной большой лодке и взяли за воскресенье 115 беляков.
— Все, как в Европе, — говорил отец, имея в виду не только организованный характер охоты (установку стрелков на номера, выкладку трофеев). Мясо сдали в кооперацию, шкуры — в “Заготживсырье”, получив за них боеприпасы и кожу на бродни.
Чемпионом выезда стал директор рыбоконсервного комбината Константин Гладовский, ухитрившийся взять на дуплет двух косых, выскочивших из-под одного бревна-плавника, да еще застрелить “влет» лису, прыгнувшую со своей лежки на стогу. Главным героем был тот гончак.
В общем, породистых охотничьих собак в довоенном Салехарде было гораздо больше, чем теперь. Этому способствовали и культура охотников, и постоянный приток новых людей (политссылка, крупная база Главного управления Северного морского пути). Собак привозили самых разных, порой невиданных на Севере служебных и декоративных.
В 1937 году репрессировали одного работника Главсевморпути, и его жена в связи с отъездом отдала отцу редкого тогда черного прямошерстного ретривера Мишку. Это английская собака, внешне очень похожая на сеттера, может быть, уши чуть покороче и морда помощней. Характерный признак-довольно большая мочка носа с открытыми ноздрями.
В нашу семью пес входил трудно. Несколько раз убегал в прежнюю квартиру. Первое время был злобен даже с отцом, хотя детей любил. После ареста хозяина возненавидел людей в шинелях. Однажды покусал ехавшего на велосипеде милиционера, за что получил два выстрела в угон из револьвера. К счастью, пули ничего жизненно важного не задели, а так и остались под кожей.
Он безотказно и четко проработал по уткам пять лет. Мне довелось наблюдать это на своей первой утиной охоте. Августовский теплый, ясный вечер 1939 года, сонно-спокойная золотистая гладь реки. За ней светло-зеленая пойма с желто-коричневыми в предзакатном солнце стогами. А на воде, чуть ли не от самой пароходной пристани и дальше вверх по течению, насколько хватало глаз, бессчетные стаи уток- выводки хохлатых и морских чернетей, синьги, гоголя, перемежающиеся линяющими взрослыми нырками. На илистых отмелях и по ручьям, оставшихся от высохшего заливного луга-сора, — стайки уже вставших на крыло серых уток, в основном, шилохвостей-остро-хвостов.
Вся картина открылась, когда мы — отец, я и Мишка — подошли к старой деревянной лестнице на крутом обдорском яру, укрепленном высоким срубом из бревен. Переехав в лодке на пойму, некоторое время шли по стерне. Дальше начинался сырой кочкарник, и отец помог мне взобраться на стог вместе с кожаной сумкой, где лежали бутылка молока и кусок черного хлеба. С высоты я увидел узкие полоски невысокого тальника, проточки и мелкие озера. У одного из них от прибрежной густой осоки вылетела утка, свернулась комком и упала, а после выстрела черным порохом легло облачко белого дыма. Мишка сплавал за трофеем.
Начинало смеркаться, раздавались еще выстрелы и были видны огненные снопы с искрами, вылетающие из стволов. Вернулся отец уже в полной темноте с несколькими утками. Мокрого Мишку уложил на корме, завернув в старый полушубок. Той осенью побывать на охоте больше не удалось. Отец уехал на уборочную, а в первой половине сентября выпал да так и не растаял снег.
На осенние охоты 1940-1941 годов отец брал меня, уже школьника, довольно часто. Они были в общем-то однотипные из-за позднего спада воды. Ездили мы только на “вечерники”, без ночевок, в одно и то же место — Кысканы. Название произошло от хантыйского слова “каскан» (перевес) — старинная, запрещенная в 20-30-х годах, ловушка для дичи. Они были двух видов — с сетью, падающей сверху при подлете уток (в лесу), или, наоборот, поднимаемой с земли (в пойме). Непременной принадлежностью их являлись два длинных столба-жерди с блоками. Под Обдорском перевесы ставили еще в незапамятные времена, когда росли высокие кусты, в которых делали специальные просеки.
Здесь водоплавающие птицы весной и осенью “спрямляли” свой путь на Север в изгибе Оби. Они и сейчас летят там, только очень высоко. А раньше на пойменных мысах и выше, по горным ручьям и озерам, стояли капитальные станки-засидки на гусей. Многие горожане охотились там и на уток.
Мы заезжали на калданке прямо в густые тальники, предварительно расставив 10-15 манщиков. Кустики, покрытые листвой, торчали из воды примерно на метр и отлично нас маскировали. Вечерами по разливу вдоль и поперек носились местные утки и снижались северные, прилетающие из-за горы, с Оби. Совсем рядом был сухой бугорок с кострищем, где я иногда оставался с Мишкой и смотрел, как отец стрелял. Если трофеи падали в воду, он выталкивался веслом и подбирал; если на берег или в затопленные кусты — работала собака.
18 августа 1942 года Мишка аппортировал мой первый ружейный трофей — кулика-турухтана. За три дня до отъезда на фронт отец нашел время вывезти меня на охоту с утра. Пойма сильно обмелела. Мы переправились через реку и заехали в узкую канавку, идущую к лугам. За ней был небольшой волок с круглыми жердями, по которым перекатили лодку, и снова канавка, переходящая в залив. Чтобы попасть на протоку, нам пришлось перетаскиваться еще через небольшую гривку. Вдруг метрах в двадцати на кочку опустился турухтан. Отец глазами показал на ружье. Мишка замер. Я осторожно взял “За-уэр-Аист” 16 калибра, взвел левый курок, положил для упора на лодку, прицелился и выстрелил. Кулик даже не трепыхнулся.
“Взять!’’ — гордо и радостно скомандовал я собаке. Она резко рванулась за первой в сезоне дичью и с высоко поднятой головой и горящими глазами торжественно подала мне. Отец коротко похвалил и как-то неожиданно просто сказал: “Теперь это ружье будет твоим”. Только много позже я вдумался в завещательный смысл этих слов, сказанных перед отправкой на войну. Обретение первого трофея и собственного ружья стало доминантой той охоты, хотя все время нависала и тяжесть от предстоящего расставания с отцом.
По протоке приехали к озерам. Там с моими короткими яловыми сапогами делать было нечего. Отец повесил на куст часы, сказал, к какому времени сварить обед, и ушел с Мишкой на охоту. Я достал топорик, срубил две таловые ветки с развилками и толстую перекладину, на которую навесил котелок и чайник. Заготовил дрова и наломал в тальниках тонких, как спичка, засохших веточек на растопку. За хлопотами с костром время шло незаметно. В поисках валежника я вышел к заливу, где почти из-под ног выплыли сидевшие в прибрежной осоке несколько длинношеих шилохвостей. А к невиданной ранее близко желтой трясогузке-плиске подошел на метр-полтора и внимательно рассмотрел. До чего непугаными были птицы! Вернувшемуся с добычей отцу я сразу сказал об утках, на что он посмеялся и ответил, что они наверняка уже улетели. Мы пили настоящий охотничий чай, ели дымящуюся картошку, а Мишка лакал из своей чашки молоко.
Домой поехали, не дожидаясь вечерней зари, т.к. пароход под очередной “эшелон мобилизованных в Действующую Армию» уже стоял у причала. Я сидел “на веслах” и тихо греб, отец помогал мне сильными гребками кормового весла. Вдруг высоко в еще светлом небе появилась белая точка. Мне показалось, что летит серебристая в вечерних лучах солнца птица.
— Папа, смотри, как высоко залетела чайка!
Он слегка развернул лодку и улыбнулся: это не чайка, а Венера -первая утренняя и вечерняя звезда. Очень метко назвали ее ненцы -“звезда зари”. Сейчас она разгорится и скоро погаснет, зато утром и взойдет раньше всех, и сиять будет дольше всех.
В предсумеречном ясном небе взошла платиновая Венера, ранняя звезда моей охоты. Я не сводил с нее глаз и видел, как она становится все ярче и ярче. Наутро встал очень рано, чтобы убедиться, что Венера еще светит. Она, как и вчера, одна красовалась на небе, только в противоположной стороне, и как бы ободряла меня, слегка подмигивая.
Дед-математик, проходивший в начале века курс “Космогонии» в Москве, в обсерватории Петровской (Тимирязевской) академии, прочитал мне маленькую лекцию о Венере. Я узнал, что эта планета -самое яркое после солнца светило на небе, у нее есть смена фаз, как у Луны, а белая она из-за плотной атмосферы. Римляне почитали богиню Венеру как покровительницу весны и садов, а впоследствии отождествляли с греческой богиней любви и красоты Афродитой. Планетой любви было освящено и мое первое поле. Под ней прошла и вся долгая охотничья жизнь. А Мишка не вынес разлуки со вторым хозяином, заскучал, почти перестал есть и через два месяца умер.
Пять лет в нашем доме не было никакой собаки. Летом 1947 года отец привез из командировки местного лайкоида при положительной и обнадеживающей характеристике — “шибко хорошо уток таскает”. Крупный, остроухий, белый с желтизной и добродушный Бобка постоянно сопровождал меня с друзьями на берег и с удовольствием лежал на плотах, с которых мы ныряли и ловили ершей, выносил из реки брошенную палку, не оставляя сомнений в своих охотничьих способностях.
Однажды в мое отсутствие соседские ребята из озорства столкнули его с плотов, причем в сторону реки. Пес не только испугался, но и нахлебался воды, выбираясь на высокие бревна. Брат Владимир рассказал об этом уже на охоте, когда собака не захотела идти за лежавшей почти у самого берега уткой. Пока вода в озерах оставалась сравнительно теплой, мы сами частенько забредали выше пояса или плавали за своими трофеями. Тех уток, что падали или забирались в траву, Бобка все-таки находил, но в пасть не брал, только придавливал носом. И даже такая помощь значительно сократила наши потери. На воде все-таки убитую птицу видно — можно взять вброд или подождать, пока поднесет к берегу, если не застрянет в водорослях. Были и разные приспособления — “карманные собаки”-привязанные к длинным веревкам гирьки или палки с крючками.
Зиму Бобка “проработал” дворовым сторожем, ни разу никого не облаяв, кроме чужих собак. И хотя ему был разрешен вход в дом (отец всех своих собак держал в квартире на правах члена семьи), спал пес на улице, оставляя по утрам на снегу подтаявший кружок.
В начале лета его увезли на родину, а взамен получили небольшую черную оленегонную лайку Дамку с лисьей мордочкой, длинной шелковистой шерстью, пышным хвостом-калачиком, закинутым на спину. У нее были широкие и короткие уши, похожие на половину квадрата, разделенного по диагонали. Внешне — ну, типичный шпиц с картинки из собачьей энциклопедии. Как все пастушеские собаки, она показала себя послушной, сообразительной и, можно смело сказать, даже умной.
Почти все лето Дамка провела со мной на рыбалке и сенокосе. Судя по ее поведению, я был уверен, что осенью поохотимся без потерь. Но в августе началась необычная и сильная прибыль воды. Пойму затопило. Вечерами мы ездили с отцом на зорьку. Сидели с манщиками в замаскированной кустами лодке на подтопленной кочковатой гриве у озера, превратившегося в залив. Стреляли до самой темноты.
Дамка с первого выезда поняла, что от нее требуется. Если утки падали в воду, она охотно плавала и выносила на берег, если в траву — я выходил вместе с ней. Искала лайка, в основном, низовым чутьем, как и Бобка; уток в руки не подавала, но не теряла.
Следующий осенний сезон из-за болезни отца я провел полностью самостоятельно. Мы уезжали с другом по субботам километров за шесть к большому озеру со множеством заливчиков и примыкающих мелких луж. Утром и вечером сидели в одном скрадке, а днем бродили с собакой по берегам. Охотились до самых заморозков, ночуя у костра в полузаброшенной избушке без окон и дверей. Лайка работала очень спокойно, без особого азарта, но старательно и совсем не боялась холода. Кстати, в лодке мы ее перевозили только через реку, а дальше она бежала по берегу до самого стана, форсируя по пути пару проточек.
В начале зимы у Дамки появилось потомство. Перед тем, как раздать желающим, мы с братом провели испытание по старому способу. Еще слепых щенков клали на покрытый тряпкой табурет. Все они, поползав немного, падали на пол. Только самый крупный чувствовал высоту и с писком пятился от края. Он был отдан приехавшему из армии дяде и получил кличку “Маркиз” в память о его сеттере тридцатых годов.
Смышленый щенок вырос в огромную сильную лохматую собаку. Это был отчаянный драчун, проказник и самый настоящий вор. Дома и у соседей он съедал все, что плохо лежало — мясо, рыбу, пельмени, а однажды принес большой ягодный пирог вместе с противнем. Хозяин вынужден был избавиться от него и продал рыбакам в ближайшую деревню.
Осенние охоты 1950-1951 годов я пропустил — сначала поступал в Тимирязевскую сельхозакадемию, затем был в военных студенческих лагерях. Когда впервые приехал на каникулы, Дамки уже не было в живых — умерла при родах. Поскольку дядя переехал в другой поселок, во дворе у нас жил Маркиз, не захотевший тянуть лямку ездовой собаки. Свои порочные наклонности он удовлетворял в соседнем дворе, где под огромным брезентом хранились продовольственные запасы железнодорожных строителей. Он постоянно “задирал» привязанных сторожевых овчарок и частенько приносил банки с тушенкой и сгущенкой, лизал, кусал, с остервенением грыз их, чтобы добраться до содержимого.
Вот с таким “зверем» пришлось охотиться две осени. Картинка, конечно, была живописная. Впереди иду я с ружьем и толстой облиственной таловой веткой, затем рвущийся из ошейника Маркиз и Володя, еле удерживающий поводок двумя руками. Время от времени пускаю в ход «метлу”, чтобы охладить собачий пыл.
У очередного озера, если были кусты, пса привязывали, и он, как ни странно, уже не пытался вырваться, наверное, сказалась работа в упряжке. Мы обходили водоем и отпускали Маркиза подбирать добычу. Здесь он был силен и неутомим — разыскивал в траве, много плавал. Как-то с одного озера вынес подряд 18 уток, пару даже захватил враз.
Но уж если срывался с поводка, то с лаем носился по округе, распугивая все живое. Тогда приходилось садиться к стогу и ждать, пока набегается. Как бы то ни было, уток мы с ним не теряли, а потерялся он сам, говорили, что увели назад рыбаки.
Мои последние каникулы впервые полностью совпали со сроками охоты, но все омрачилось отсутствием собаки. Опять в ход пошли разные “закидушки” и вынужденные заплывы. Порой приходилось думать, а стоит ли вообще стрелять.
Во избежание потерь местом стационарной охоты выбрали большое озеро в форме восьмерки с двумя выдающимися мысами, на которых стояли скрадки. Чтобы легче собирать трофеи, перетащили из реки лодку. На ней плавали Володя и младший, послевоенный, брат Бориска.
Метрах в трехстах от “восьмерки” располагалось узкое длинное озеро с низкими топкими берегами. Уток днем на нем почти не было, из-за труднодоступности его часто выбирало для отдыха жившее в окрестностях семейство лебедей. Через небольшой перешеек начиналось огромное озеро длиной километра два и шириной 200-300 метров. На нем мы тоже не охотились, т.к. птицы обычно сидели далеко от берега. Между этими водоемами я стал позже ходить на обмелевшие протоки, где стрелял уток «на грязях” и почти без потерь.
Однажды утром, возвращаясь с хорошей добычей, остановился на перешейке полюбоваться вдруг по-новому открывшейся красотой большого озера.
Большое озеро, как блюдо.
Над ним скопленье облаков,
Нагроможденных белой грудой Суровых горных ледников.
Пастернаковские строчки дополнялись отражением облаков в стеклянной воде, игрой сменяющихся красок: розовых, голубых, дымчато-серых на светлой глади озера и темных — в тени высоких травянистых берегов. Я достал блокнот, чтобы записать впечатления, но тут же, нагнувшись, потянулся к ружью. Прямо на меня летели утки, рядом-еще. Сделав несколько выстрелов, понял, что попал на перелет по давно знакомой системе озер и проток. Не поленился тут же нарубить веток в соседнем ивняке, принес сена и построил два скрадка.
К вечеру приехал отец. Мы красиво настреляли около десятка уток и почти половину не нашли. Запомнился редкий угловой дуплет по свиязям. После выстрелов птицы резко остановились и медленно парашютировали к земле; одна из них плавно вращалась по спирали. Упали обе всего метрах в пятнадцати и как провалились, хотя я, казалось, разобрал все травинки и заглянул под каждую кочку.
Когда пришли на стан, у костра вместе с братьями сидели два немного знакомых охотника. Рядом лежала темная небольшая собака с длинными ушами.
Отец не замедлил меня покритиковать:
— Видишь, люди с помощницей, а ты четыре года прожил в Москве и не мог найти сеттера или пойнтера.
— Какая помощница, — заплевались мужики, — дрянь ленивая. Два раза в озеро кидали, совсем уток не берет. Бросим здесь, берите, если надо.
Попив чаю, они ушли. Собака и не пошевелилась, тем более ребята уже хорошо подкормили ее и тут же назвали Найдой.
Перед рассветом без особого приглашения она потянулась за нами на охоту. Эффект, как говорится, превзошел все ожидания. Около моего скрадка собачонка повела носом, потянула по ветру в траву, громко зафыркала в кочках и одного за другим обнаружила свиязей. На зорьке валом пошла северная утка. Как только моя или отцовская добыча падала, мы вместе с Найдой бежали подбирать. Нашла она и все другие вчерашние потери.
Утром окончательно рассмотрели свою бесценную находку — помесь единственного в городе пойнтера (кстати, комнатного, нерабочего) и дворняжки. От породы, кроме ушей и гладкой шерсти, осталось немного крапа. Цвет преобладал черный, хвост был более толстый, с белым кончиком, но прямой и горизонтальный. Тут уж не до экстерьера, а работницей оказалась прекрасной, правда, сначала неохотно шла в воду, вероятно, сказалось принудительное купание.
На следующей охоте Найда сама следила за пролетающими утками. Как-то схватила острохвоста, едва он коснулся травы, а в это время второй свалился ей прямо на спину. Она низко присела от испуга и неожиданности, наверное, вспомнила грубых старых хозяев, резко повернулась, но, увидев утку, яростно вцепилась в нее зубами.
Когда я окончательно вернулся через год в Салехард на работу, у Найды подросла дочь Кукла — почти полная ее копия, только более темная, без крапа и с густым «дворняжистым” хвостом, но не крючком, а поднятым вертикально кверху. Найду отец оставил себе, а мне досталась молодая, теоретически подготовленная собака со знанием основных команд, передней и задней поноски, приученная к воде.
Первую утку сбил для нее не совсем удачно. Высоко летевшая шилохвость спланировала почти рядом с нами на стерню и тут же подняла голову. Кукла насторожилась, напряженно вытянулась и стала медленно, как бы принюхиваясь, подходить к ней сзади. Когда расстояние сократилось до нескольких сантиметров, птица легко поднялась и стала круто, испуганно-быстро набирать высоту. Собака лишь лязгнула зубами в прыжке. Мы с братом, хотя и держали ружья в руках, от удивления даже не обстреляли беглеца, который был только шокирован дальним выстрелом.
Так проснулся азарт, а остальное вышло без особых проблем. В отличие от матери, работавшей только на подборке и не подававшей уток в руки, она постоянно вела поиск, любила воду, порой ловила чужих подранков. И была очень цепкой к добыче. Иногда я делал вид, что не замечаю ее, и Кукла спокойно шла за мной по тропе с уткой в зубах, пока не забирал добычу.
Как-то она ощенилась незадолго до охоты. Беспородный помет, естественно, был обречен на утопление. Но среди черных дворняжек оказался один белый крапчатый щенок с более длинными ушами. Рискнули оставить — вдруг пойдет в деда — и назвали Мишкой. Вместе с ним пощадили еще одного, для компании. О том, чтобы не взять Куклу на охоту, и речи не могло быть, повезли вместе с выводком. Я носил щенков в корзине на перелет и укладывал в скрадке на сено. Кукла лежала с ними, а после выстрелов выбегала за утками.
Солнечным утром, точнее в начале теплого осеннего дня, мы шли на привал. Корзину я нес на руке. Кукла челноком бегала по высокой траве. Смотрю, вышла на тропу с живым чирком в зубах и отдавать явно не хочет. Кое-как выманил у нее почти непомятую птицу и положил в корзину под нашитую сверху тряпку с намерением где-нибудь незаметно выпустить.
Около длинного озера, окаймленного густым тальником, я оставил корзину на стерне и пошел посмотреть, не сидят ли утки. Собака, конечно, со мной. Вернувшись, увидел перевернутую корзину, рядом ползающих с жалобным визгом щенят и сидящего чуть в стороне чирка. Кукла, игнорируя детей, заспешила к утке. Но, увы, история повторяется, чирок вспорхнул у нее из-под самого носа и низко потянул за кусты.
Совсем близко грохнул быстрый дуплет. Я был уверен, что чудом спасшийся чирок уже в ягдташе у отца или брата. Но вот они выходят. Один смеется, другой ругает не то кривой пыж, не то крупный порох. Чирок, побывавший в зубах собаки, в руках человека и, наконец, под выстрелами охотника, оказался счастливым.
Поохотиться с персональными собаками нам удалось только осенью. Зимой Найда погибла под машиной, а Кукла выросла в почти идеальную утятницу, прослужившую мне верой и правдой семь сезонов. Но каждую осень в начале сентября я обязательно и в ущерб утиной охоте пару выходных посвящал лесотундре. Издали в пасмурную погоду синяя, а на солнце — золотая, вблизи она поражала пестротой и яркостью красок. Стоят рядом платиново-изумрудная пушистая лиственница и пожелтевшая березка, ярко-зеленая трава у озер контрастирует с желто-багровыми листьями ягодников и стелющихся кустарников.
Вдруг Кукла насторожилась, нервно понюхала воздух и потянула в низину. Вот она уже почти крадется, прижавшись к земле, вытянувшись от головы до хвоста в одну линию. Я осторожно спускаюсь наперерез и вижу, как из карликового ивняка появляются прямые шеи куропаток, услышавших собаку. Стайка веером взлетает почти из-под ног. Звучит дуплет. Кукла быстро разыскивает пару кирпично-пестрых птиц. И мы идем дальше за переместившимся выводком. Такие охоты всегда вызывали у меня мечты о настоящей легавой, делающей стойку. С ней можно было бы красиво, по-тургеневски или по-некрасовски, поохотиться на дупелей и бекасов, которые изредка встречались на осенней пойме.
К сожалению, судьба Куклы не была счастливой. В начале зимы 1961 года она попала под машину. Что же, у каждой собаки своя драма, но конец всей династии оказался одинаковым, включая и Мишку. Тот белый щенок, что ездил на охоту еще будучи слепым, вырос в крупную красивую собаку. По стати и масти очень походил на пойнтера. “Пролетарское” происхождение выдавали лишь маленькие хитрые глаза да толстый хвост крючком. Он много лет хорошо помогал постаревшему отцу в его неторопливой охоте. В быту это был на редкость умный пес. Ходил за покупками в соседний магазин с кирзовой сумкой, где лежали записка-заказ и деньги. Частенько ездил на автобусе к брату Володе пообедать и никогда не путал остановки. Прожил лет пятнадцать, под конец почти ослеп, полностью оглох и был задавлен грузовиком.
В год смерти Куклы меня назначили директором зверооленеводческого совхоза в далекий таежный поселок. Помню, вышел из самолета «Ан-2» на лед реки. А за ней все высокие березы покрыты черными и серо-бурыми фигурками косачей и тетерок, а темнеющие ниже тальники — белыми куропатками. Увидев мое удивление, а также ружье среди вещей, встречающие обнадеживающе и как-то интригующе сообщили, что в лесу за километр-два от поселка водится не меньше глухарей и рябчиков.
Мне повезло, что в совхозе работали самые увлеченные местные охотники и знатоки угодий: инженер рыболовства Иван Маркович Морозов и бухгалтер Владлен Иннокентьевич Уваровский — сын известного организатора охотпромысла на полуострове Ямал в начале 30-х годов, т.е. охотник “с пеленок”. Кроме умения одинаково ловко управлять оленьей упряжкой в лесу и мотолодкой на своенравных таежных речках, Иван Морозов славился редким тогда немецким бок-флинтом, а Владлен Уваровский — лучшими лайками-глухарятницами.
К осени я вырастил себе собаку из этого гнезда. Снежно-белая стройная Кукла с узкой мордочкой и острыми ушами-локаторами начала облаивать белок в возрасте шести месяцев.
Зверьков я никаких не стрелял. Ружье брал, когда на безлистных березах появлялись стаи тетеревов, в таежных распадках — выводки рябчиков, безотказно идущих на свисток-’’пищик”, а на песчаных отмелях — огромные скопления глухарей. Однажды, проезжая на катере перед самым ледоставом, мы насчитали на одном берегу стаю из трехсот штук и сбились со счета. Птицы подпускали очень близко, на дробовой выстрел, а облаянные собакой, с любопытством наблюдали за беснующейся под деревом охрипшей лайкой, забавно поворачивая толстую шею.
Признаться, я не получал удовольствия от стрельбы по неподвижной крупной мишени, а специально выпугивать, как утку, не было смысла, т.к. глухарь слетал сначала камнем вниз и сразу скрывался в ветвях деревьев. Но мне очень нравилось наблюдать собачье рвение в поиске и реакцию птицы. Стрелял же я с большим удовольствием шумно взлетающих с земли рябчиков или поднимающихся почти вертикально из тальниковых зарослей куропаток.
Но снова собачья трагедия. Весной какой-то пьяный хулиган расстрелял из дробовика греющихся на солнце лаек, в том числе и Куклу. Через некоторое время друзья привели мне случайно оставшуюся без хозяина старую оленегонную Чайку, очень похожую на уже известную Дамку, только белую. Об уме и разносторонности этой собаки ходили легенды, и несколько пастухов предлагали мне за нее по паре оленей. Действительно, она не умела только говорить, но необыкновенно широкий диапазон звуков и интонации, казалось, позволял прочитать ее мысли.
Будучи универсальной таежницей, Чайка шла и по белке, и по соболю, а на глухарей имела какое-то особое чутье. У самого густого непроглядного кедра безошибочно садилась с той стороны, где была птица, и спокойно, ритмично лаяла хрипловатым голосом.
К осени 1963 года меня снова перевели в Салехард, где довелось поохотиться с Чайкой на уток и боровую дичь. Поехал с новыми сослуживцами — знаменитым уже поэтом Леонидом Лапцуем и Николаем Вора, известным в свое время комсомольским вожаком. Пригласил я их на то самое озеро, где когда-то охотился с Дамкой. Я пошел от избушки по тропе, а спутники решили перетащить к озеру свою лодку.
Замаскировав сеном остов старого скрадка и расставив манщики, с тревогой вглядывался в хмурое небо, не летят ли утки. Тем более оказавшийся у озера знакомый охотник сказал, что утреннего лета не было.
Невдалеке послышался негромкий возглас Лапцуя: яптик, яптик (гусь по-ненецки)!
— Какой Яптик (это уже фамилия), Семен что ли, откуда он здесь взялся? — ответил на ненецком Николай.
— Садись ниже, — прошептал по-русски Леня, — гусь летит!
Приняв сигнал, я тоже спрятался и через несколько мгновений белолобый гусь был рядом. Первый выстрел заставил его часто замахать крыльями на месте, а второй замертво свалил прямо в манщики.
Чайка как-то спокойно и солидно зашла в воду, взяла гусака за бок ниже крыла, медленно подплыла к берегу и вытащила тяжелую птицу задним ходом.
К сумеркам прояснило, подул запад и начался интенсивный пролет северных серых уток. Несколько шилохвостей, в т.ч. уже начавших приобретать зимнюю окраску селезней, составили наши с Чайкой трофеи. Большинство из них она разыскала в густой некошеной приозерной траве.
Ночь мы просидели в избушке, вспоминая юность, когда Николай был секретарем Пуровского райкома комсомола, Леонид-Ямальского, и я часто приезжал к ним как корреспондент «Тюменского комсомольца”. Лапцуй читал у костра новые стихи. А утром все озеро затянуло тонким льдом — конец охоте.
Следующее воскресенье, день осеннего равноденствия, я решил провести в лесотундре. Ночью засветилось первое и яркое полярное сияние, а с утра поднялся сильный туман, рассеявшийся к полудню. Резко похолодало и от быстрой конденсации влаги образовалась сильная изморозь. Потяжелевшие листья ив и берез, окаймленные сверкающими льдинками, стали опадать желтым дождем.
Куржак (кухта) посеребрил зеленые ели, придал благородный матовый отблеск золотистым лиственницам, а ивы и березы приобрели совсем зимний вид, опустив свои безлистные ветви серебряными блестящими нитями.
Солнечные лучи заиграли на светящихся инеем бордово-красных листьях рябины, толокнянки (волчьей ягоды), голубики. Морозными узорами заблестел на озерах тонкий прозрачный ледок. Взматеревший выводок куропаток поднялся врассыпную, сверкая первой белизной пера. Это был последний праздник осени и, увы, последняя охота с Чайкой.
К тому времени в городе стали появляться единичные экземпляры породистых охотничьих собак. Я выбрал спаниелей и только с ними в течение тридцати лет по-настоящему разгорелась моя охотничья звезда.
Продолжение следует…