Воспоминания бывшего начальника уголовного розыска Ханты-Мансийска майора милиции в отставке Николая Михайловича Костина, записанные Людмилой Лосевой
 – …Родился я в деревне Каменка Заводоуковского района. Семья по тем временам была самая обыкновенная, родители – колхозники, детей – четверо. Строили планы на будущее, да сбыться-то им было не суждено: началась война. Отца, Михаила Петровича, мобилизовали в числе первых. Все заботы о детях легли на плечи матери, Пелагеи Ивановны. А было нас четверо. Старшей сестре Марии было одиннадцать лет, мне – четыре года, брату Петру – два, самой маленькой, Валентине, девять месяцев.
– …Родился я в деревне Каменка Заводоуковского района. Семья по тем временам была самая обыкновенная, родители – колхозники, детей – четверо. Строили планы на будущее, да сбыться-то им было не суждено: началась война. Отца, Михаила Петровича, мобилизовали в числе первых. Все заботы о детях легли на плечи матери, Пелагеи Ивановны. А было нас четверо. Старшей сестре Марии было одиннадцать лет, мне – четыре года, брату Петру – два, самой маленькой, Валентине, девять месяцев.
«Похоронка» ждать себя не заставила – сухие официальные строчки сообщали, что 26.02.1942 г. рядовой Костин Михаил Петрович погиб, защищая Советскую Родину.
Как пережила эту весть крестьянка, мать четверых детей, у которой было всего два класса церковно-приходской школы, одному Богу известно. Как бы то ни было, мать нас в детдом не сдала. Надрывая жилы, от зари до зари трудилась в колхозе. Конечно, и мы, ребятишки, по мере своих возможностей помогали.
Помимо работы за трудодни, мама, как и все жители Каменки, занималась «общественной» работой: зимой для бойцов вязала шарфы, носки, рукавицы. А мы вместе с мамой резали на кусочки картошку и сушили ее в печке, мясо солили и вялили, высушенный заранее творог стирали в порошок. Все для фронта, все для Победы.
А как жили в тылу работники вроде нашей семьи? Ели траву – лебеду, крапиву, пучки, медунки, кислицу. Нынешнее поколение и травы-то такой не знает. А мы смешивали траву с мерзлой картошкой и пекли лепешки. От такой «еды» брюхо было полное, а ноги отнимались.
…В 1953 году я поступил в Тобольскую мореходную школу юнг, закончил ее с отличием по специальности радиооператор. Попав по распределению в Новороссийскую базу государственного лова, отработал положенные два года радистом на сейнере СПЧ-50. Обратился в военкомат и был направлен служить на Курильские острова.
Уже в армии у меня зрела идея посвятить свою дальнейшую жизнь внутренних как я обустроил дела – то, что называется личной жизнью, я пошел работать в милицию по направлению ГК ВЛКСМ. Комсомолец я был активный, и людей, поручившихся за меня, не подвел. Начав свою службу в Ханты-Мансийском ГРОВД, там же ее и закончил.
А начал я работу в органах МВД в марте 1964 года. Меня, молодого, неопытного, направили под начало Чукомина, в то время работавшего начальником Ханты-Мансийского медвытрезвителя. Он был терпеливым учителем, добрым и мудрым. Именно от него я усвоил и перенял в своей дальнейшей работе, что в вопросах, касающихся жизни любого человека, не бывает мелочей, и что каждого человека надо уметь выслушать, прежде чем принимать решение, которое для него очень важно именно в данный момент.
Через положенный срок мне присвоили звание младшего лейтенанта и перевели на работу в уголовный розыск. Начальником УР в то время был многоопытный Собко, который учил меня азам оперативной работы.
В милицию я пришел уже женатым человеком. Женился я на Клещевой Галине Самсоновне. Первое время мы жили с родителями жены, которые построили дом по улице Доронина. Даже по тем временам он был маленьким. Поэтому вскоре в Ханты-Мансийском ГРОВД мне выделили первое в моей жизни жилье – большую комнату в так называемых милицейских бараках по улице Свердлова. Квартира моя находилась в двух шагах от места службы, что было несомненным плюсом. В самые сильные холода, сколько бы мы ни топили, не могли нагреть наше жилище, и совсем еще крошечный сын ходил по квартире в шубке и валеночках.
Жена никогда не попрекала меня за бесконечные «бдения», которыми так богата милицейская жизнь, не устраивала мне истерик по поводу моей всегдашней занятости и спокойно несла свой женский крест: работала сама, готовила, стирала, гладила, убирала, занималась воспитанием детей. Если выдавалось свободное время, мы ходили в кино, на танцы, участвовали в художественной самодеятельности. С началом службы в милиции я поступил в Тюменский машиностроительный техникум, а после его окончания – в Омскую высшую школу милиции.
Наш громадный на углу улиц Мира – Свердлова двор вмещал четыре одноэтажных дома – барака и один небольшой дом. Практически все квартиры в бараках занимали работники милиции. Бахтияровы, Воронцовы, Доронины, Панины, Осинцевы, Шевелевы, Вакарины – вот те немногие из сослуживцев, которых я помню.
В многолюдном нашем дворе все знали друг друга, многие годами дружили семьями. Материально все жили примерно одинаково, то есть небогато. Телевизоров еще не было, и мы находили удовольствие в общении. В праздники устраивали застолья, принося к праздничному столу, кто что мог, пели, танцевали под радиолу…
За домами, в сторону улицы Ленина, был конный двор, предназначавшийся для «милицейских» лошадей – в командировки по району ездили преимущественно на лошадях.
До милиции, двухэтажного деревянного здания на углу улиц Мира и Дзержинского, было несколько минут. Построенное в 30-е годы, оно было холодным, отапливалось дровами, и в холода его невозможно было протопить. В числе прочих, в обязанности дежурного по отделу милиции входило и обеспечение тепла в здании и КПЗ (камере предварительного заключения). Помощник дежурного по отделу выводил из камеры «указника», т.е. гражданина, отбывавшего положенные ему по решению суда за мелкое хулиганство «сутки», в соответствии с Указом от 1966 г. «хулиганы, тунеядцы, алкоголики» таскали дрова из громадных поленниц, сложенных во дворе, и топили многочисленные печи. Но все равно в здании было холодно, и приходилось сидеть за столом в шубах, унтах или валенках. Впрочем, вещевое довольствие было вполне достойным – на государство грех было жаловаться.
Вообще, отношения с гражданами в те времена были уважительными с обеих сторон. Никто не называл нас «ментами», не оскорблял, не унижал. Но и мы к людям относились очень уважительно, находили возможность выслушивать их жалобы и отвечать им.
Все годы, особенно в начале своей деятельности, мне приходилось много бегать – гораздо больше, чем сидеть. И чем больше я работал, тем больше людей обращалось ко мне со своими проблемами. Наверное, многие сейчас подумают: какие могли быть проблемы в маленьком провинциальном городке? Да было их множество. В милицию обращались по поводу причинения вреда здоровью, краж личного, государственного и общественного имущества. По поводу краж самые сложные проблемы возникали летом. Подростки обворовывали летом киоски, взрослые преступники похищали лодки и лодочные моторы.
Не всегда удобно было отрывать человека от работы, вызывать его в милицию. Поэтому я больше работал в «поле», как сейчас говорят. Зато и преступников находили быстрее, и дела, казалось бы, совсем ненадежные, раскрывались. Я же в свою очередь не только повышал «процент раскрываемости», но и приобретал бесценный опыт общения с людьми и потом, в других случаях, обращался за помощью непосредственно к определенной категории людей.
Меня удивляет, как просто сейчас относятся к физическому насилию, особенно в семье. В наше, советское время, если женщина обращалась в милицию за помощью, и были основания для возбуждения уголовного дела, дела всегда возбуждались. Сколько было спасено женских жизней, сколько предотвращено побоев и увечий, если женщина была последовательна в своем отношении к зверствам со стороны мужа. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.08.1966 г. «Об усилении уголовной ответственности за хулиганство» многим сохранил жизнь. Как учили в Высшей школе милиции: хулиган – потенциальный убийца. Жаль, что сейчас уголовная ответственность за хулиганство наступает очень редко.
В 1969 г. меня назначили начальником уголовного розыска, и работы добавилось. Впрочем, к этому времени у меня появились негласные помощники. Кроме того, я никогда не уклонялся от общения с человеком, если от него шел неприятный запах или он был плохо одет. И благодаря этому, я часто узнавал такие тайны, которые редко бы мне доверили в стенах моего служебного кабинета. Так раскрывались многие тяжкие преступления, в первую очередь – убийства.
Мы прожили долгую жизнь с женой Галиной Самсоновной, сыграли золотую свадьбу, воспитали двоих детей. Как говорится, настало время подводить итоги. Во всяком случае, если у меня и состоится где-то там, далеко, «встреча» с родителями, мне не будет стыдно перед ними. Как говорил поэт: «жизнь мы прожили, как люди, и для людей».
Продолжение следует…

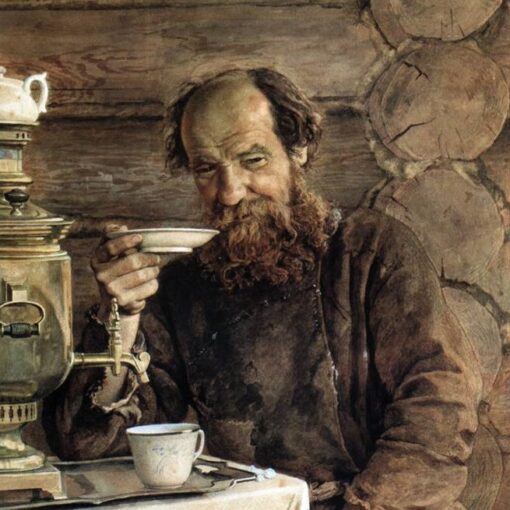



Мысль на тему “Ханты-Мансийск. Уголовный розыск. История”
Интересно и поучительно! Здоровья, Вам, Николай Михайлович. ХАНТЫ_МАНСИЙСКГефизика. Здание есть, а людей таких уже нет