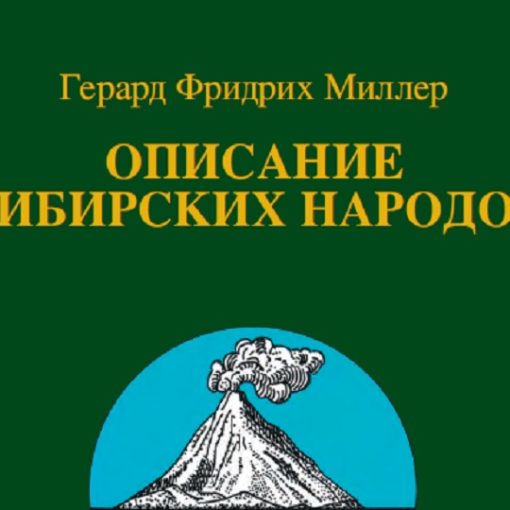Валентина Патранова
Тем, кто живёт в Ханты-Мансийске, не надо объяснять, что означает это слово. А для несведущих сообщим: Перековка — район города, застроенный преимущественно частными домами.
По ухоженным дворам и огородам, замысловатым наличникам и аккуратной изгороди видно, что живут здесь люди трудолюбивые, домовитые, одним словом — хозяева. Начало такому укладу жизни, как и самому названию, было положено в 30-х годах, когда обосновались здесь так называемые спецпереселенцы, или по ленинско-сталинской терминологии — кулаки.
Если когда-то кулаки и были богатыми, то, высланные на Север, они стали беднее самого бедного здешнего жителя. И это не голословное утверждение. Вчитаемся в документы, которые хранятся в окружном архиве: “Претерпевая невыносимый холод и не имея теплой одежды и обуви, просим вашего разрешения выдать нам полушубки, пимы и рукавицы, а также отпустить мануфактуры для нижнего белья. Иван и Михаил Краснопеевы. 17 октября 1930 года”.
“Работаю с сыном Михаилом с 27 июля. Пошел четвёртый месяц, обносились совсем… время грязное, сырое. Матвей Чесноков. 1930 год”.
Заявления были адресованы директору Самаровской консервной фабрики Казарину, в ответ — размашистая роспись — “Отказать!” Потеряв надежду получить “полушубки, пимы и рукавицы”, отец и сын Краснопеевы 9 ноября 1930 года вновь обратились с просьбой “выдать кожу на головки для сапог”, наверное, хотели старые починить. “Отказать!” — последовал ответ директора. Как они, Краснопеевы, Чесноковы и другие ссыльные, пережили первую зиму на Севере, доподлинно мы не знаем, но можно предположить, что очень тяжело.
Не было у них не только сапог и полушубков, но и жилья. Несколько семей по приезду разместили в доме именитого самаровского купца Шеймина, предки которого были настоящими русскими меценатами, помогая в организации научных экспедиций на Север — об этом подробно рассказано в книге Хрисанфа Лопарева “Самарово”. Советская власть, “экспроприируя экспроприаторов”, забрала себе дом купца Шеймина и, заселив поначалу спецпереселенцами, вскоре потребовала от директора Самаровского рыбтреста “выселить из занятого дома спецпереселенцев (11 апреля 1931 года)”.
Первую партию ссыльных крестьян весной 1930 года бросили на возведение “Самаровской консервной фабрики” — так тогда называли Ханты-Мансийский рыбоконсервный комбинат. Его возводили из кирпича разобранной церкви, “пропитавшегося” за столетие христианскими молитвами, но власть это не смущало. В эти же годы началось строительство центра национального округа. Место под «столицу» подобрали в пяти километрах от старинного села Самарово, куда и стали направлять новые партии спецпереселенцев.
Церковный кирпич вскоре закончился, пришлось строить свой кирпичный завод на месте нынешнего Центра искусств, а гвозди для новостроек выковывали кузнецы. Сегодня при разборке старых зданий окружного центра можно увидеть и подержать в руках те кирпичи и те гвозди, место которым в музее.
Если сказать, что условия жизни людей были плохими, значит, ничего не сказать — они были просто ужасными. Жили в землянках, наспех сколоченных холодных бараках, которые, в свою очередь, делились на секторы. В каждом секторе регулярно вели подсчёт: сколько работающих мужчин, женщин, иждивенцев, детей… Учёт был обязательным условием, так как побеги стали не такой уж редкостью
Невыносимые условия жизни людей заставляли окружную власть принимать меры. Идея выделить территорию под застройку частными домами принадлежала председателю окрисполкома Якову Рознину, человеку яркому, неординарному. Скорее всего, это он и придумал, в духе времени, название посёлку спецпереселенцев — Перековка. Сам выходец из крестьян, Рознин, наверное, понимал масштабы беды, обрушившейся на российское крестьянство, поэтому и дал им возможность заиметь свою землю, дом. Правда, для этого пришлось много потрудиться, ведь участок, выделенный под посёлок, представлял собой густой лесной массив.
Председатель окрисполкома лично курировал все стройки, в том числе и частную застройку. Через каждые десять дней составлялись справки: сколько участков тайги вырублено, на скольких домах положен сруб, стены, сколько это составляет рядов, сколько человек переехали в посёлок — семейных, одиноких, квартирантов…
Так, согласно сводке на 10 декабря 1934 года, а это была четвёртая годовщина образования округа, в посёлке Перековка было уже построено 75 одноквартирных и 27 двухквартирных домов, «срублено — 29 домов, находятся в рубке —24”. К этому времени Перековка приняла 74 семьи, таким образом, 374 человека покинули бараки и у них появился шанс выжить в экстремальных условиях, искусственно созданных большевиками. А вот самый главный большевик округа — председатель окрисполкома Яков Рознин — не выжил — в том же 1934 году у него отказало сердце. В Ханты-Мансийске осталась улица Рознина.
Ещё долго спецпереселенцы были бесправны в собственном государстве. Вместо паспортов они имели справки с обязательно проставленной на обратной стороне пропиской. Справка была действительна только “на территории Самарово и гор. Остяко-Вогульска” (сегодня это Ханты-Мансийск). Сегодня сотни таких справок хранятся в окружном государственном архиве.
В 1935 году Перековка приняла несколько человек, которых выслали из крупных городов страны после убийства Кирова: они снимали здесь квартиры. В 1937 году их всех арестовали, и Перековка замерла в ожидании: кто следующий? За годы репрессий было арестовано 36 жителей посёлка, самому старшему — Луке Тимофеевичу Мишагину — было 74 года. Ночью 7 августа 1937 года были арестованы 11 человек, всех их расстреляли в один день — 19 сентября 1937 года. Среди репрессированных целые семьи, к примеру, отец и сын Пестеревы, Тимофеевы, братья Гришины…
Сегодня от тех первых домов практически ничего не осталось, несколько лет назад снесли потемневшее от времени здание бывшей комендатуры, наводившей страх на жителей Перековки.
Вообще, вся эта местность достойна того, чтобы быть увековеченной хотя бы памятной стелой. Аура Перековки соткана из людского горя, стойкости, выдержки. Это место знаковое для жителей окружного центра. Даже если когда-то оно попадёт под многоэтажную застройку, всё равно и для будущих поколений хантымансийцев останется Перековкой…
Конфискация, национализация, высылка
В начале 1930 года в Обдорск из Берёзова выслали семьи Добровольского Ивана Ксенофонтовича и Плеханова Петра Александровича. Их хозяйства к началу 30-х годов претерпели неоднократные конфискации, национализацию. Так, в начале революции у Добровольского были национализированы рыбопромысловое заведение, находившееся близ Обдорска, рыбацкая баржа и мотор. В 1921 году во время крестьянского восстания у него изъяли ценное имущество, а к 1928 году деревянный дом с крупными постройками.
В распоряжении семьи оставались флигель, хлевы, сенник, завозня, одна корова, одна лошадь и до сорока оленей. Шестидесятипятилетний глава семьи самостоятельно занимался рыбной ловлей для собственного потребления, излишки сдавал в кооперацию, наёмный труд использовали время от времени. Четверо сыновей жили самостоятельно. Так продолжалось до марта 1930 года, пока при проведении в Берёзово компании по “ликвидации кулачества как класса», связанной с именем председателя Березовского райисполкома Лопатина, Добровольского не подвели под категорию кулаков.
Сын Василий Иванович ходатайствовал о предоставлении отцу права жить рядом с родными, просил освободить его от высылки, но Тобольский окрисполком постановлением от 07.01.1931 г. отказал, несмотря на нетрудоспособность раскулаченного ввиду его преклонного возраста, “абсолютную политическую и экономическую безвредность”.
Отказано было в ходатайстве и братьям Плехановым. На заседании Тобольской комиссии по рассмотрению жалоб на неправильное выселение, которое состоялось 15 октября 1930 года, были отмечены кулацкий характер хозяйства, “систематическая эксплуатация батраков и туземного населения”. Формальным (официальным) обоснованием такого решения со стороны районной власти Берёзово стало отсутствие у сыновей юридических документов о разделе хозяйства отца — бывшего купца, рыбопромышленника, председателя следственной комиссии, созданной участниками антисоветского крестьянского восстания 1921 года. Фактически же главным побудительным мотивом высылки братьев Плехановых стала предполагаемая “возможность мести за раскулачивание”, проведенное ОГПУ.
С жалобами по поводу раскулачивания в Тобольский окружной исполнительный комитет также обращались Ангатупов Семён Васильевич (так в документе), Алексеев Андрей Гаврилович, Едрёнкин Георгий Артемьевич, Кондашков Евгений Тимофеевич (так в документе), Колачёв Семён Антонович, Проскуряков Александр Алексеевич, Паршуков Павел Петрович, Петров Анатолий Иванович, Рещиков Иван Николаевич, Смирных Филимон Лаврентьевич, Тепиркин Степан Иванович. Но положительного ответа добился, по имеющимся в окрархиве документам, только один из заявителей — А.И. Петров, которому разрешили вернуться из Кондинского района (место высылки, где он находился в течение пяти месяцев) в Берёзово с возвращением отобранного имущества. Правда, последнее оказалось делом крайне непростым.
Берёзовский РИК воспрепятствовап возвращению некоторых предметов домашнего обихода, мебели, а также тех вещей, что были получены в наследство от покойного отца и заработаны самостоятельно за время службы в различных организациях. В послужном списке Петрова — работа в Берёзовском казначействе, казённой палате окрфинотдела, Берёзовском уисполкоме, райисполкоме. Он избирал членом Берёзовского горсовета (до 1926 года Берёзов имел статус города), судебным заседателем, выполнял общественные поручения уполномоченного месткома, культармейца, писал в стенные газеты стихи на революционные темы.
Негативное отношение Березовского РИКа к восстановлению А. Петрова в правах проявилось в телеграмме, адресованной Тобольскому окрисполкому и окружному прокурору: “Постановлением окрисполкома возвращён раскулаченный бывший торговец и виноторговец, махровый кулак. Считаем восстановление неправильным. Возбуждаем ходатайство, настаиваем на нашем решении. Имущественное положение: два дома. Опись имущества: кроме золота, серебряных 405 предметов. Минимальная стоимость свыше 3000. Возвращаемое ими продаётся населению. Самораскулачиваются. Выезжают из пределов. Возврат разорит все учреждения”.
Началась кампания по раскулачиванию…
Публикация подготовлена по документам Ханты-Мансийского окружного государственного архива Л. Набоковой
«Новости Югры», 30 октября 2000 года