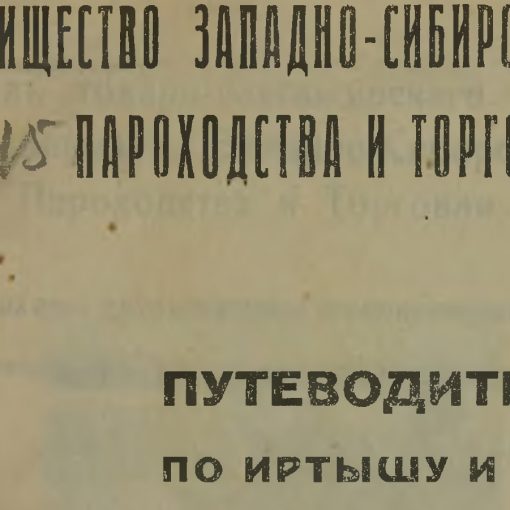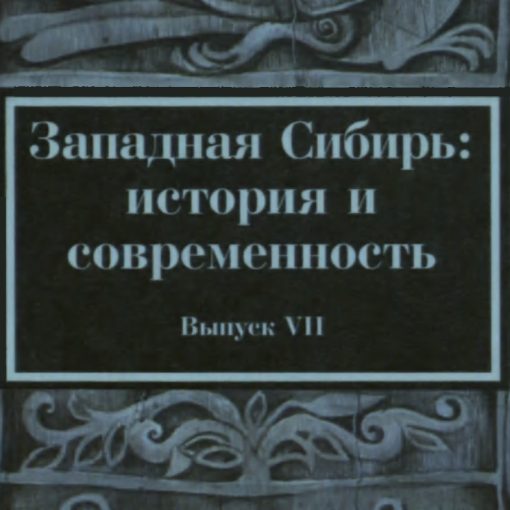Валентина Патранова
В двадцатых числах сентября 1936 года в Остяко-Вогульске, как тогда назывался Ханты-Мансийск, стояла теплая ясная погода. С 21 по 23 сентября здесь проходил окружной съезд Советов, а на 24 сентября была назначена партконференция.
Официальная часть проходила в поселке Остяко-Вогульск, который недавно начал застраиваться, а неофициальная — в пяти километрах от него — в селе Самарове, где на берегу Иртыша стоял самолет У-2 «Остяко-Вогульский комсомолец».
Руководство авиагруппы не возражало принять самолет на полное техническое обслуживание, если будет на то согласие окрисполкома. В сентябре сотрудник авиагруппы должен был вылететь в Остяко-Вогульск для заключения договора.
ШУМЕЛА БУРЯ, ГРОМ ГРЕМЕЛ
После заседания самые смелые делегаты поднимались на борт, и пилот Леонид Хрущев, сделав круг над Самаровской горой и новым поселком Остяко-Вогульск, шел на снижение. Внизу уже угадывались контуры будущих улиц Ханты-Мансийска, прорубленных прямо в тайге.
К вечеру 24 сентября погода испортилась, усилился ветер. В 23 часа пилот Хрущев наведался к самолету. Чтобы машину не снесло ветром, он вбил в землю три кола, привязав к ним хвост и обе плоскости самолета. Через два часа началась настоящая буря. Порывом ветра вырвало кол, крепящий правую плоскость, и, перевернувшись, самолет встал вверх колесами.
Утром 25 сентября здесь уже работала комиссия. Мотор, к счастью, оказался неповрежденным, но при этом общие убытки составили свыше 17 тысяч рублей. После такой аварии взлететь самостоятельно «Остяко-Вогульский комсомолец» уже не смог. Через несколько дней его разобрали, погрузили в ящики и последним пароходом отправили в Омск в авиаремонтные мастерские. А Хрущевым занялась окружная прокуратура.
ПОДАРОК ОТ КОМСОМОЛЬЦЕВ
Мечта о собственном самолете у руководителей округа зародилась давно. Еще не был построен аэродром в селе Самарове, а уже начался сбор денег на самолет. Окружная газета «Ханты-Манчи Шоп» (№ 38 за 1932 год) поместила заметку «Построим самолет «Остяко-Вогульский комсомолец». Автор призвал всех комсомольцев округа принять участие в сборе средств, поставив им в пример Сургутский и Самаровский райкомы комсомола, которые обязались собрать по 10 тысяч рублей.
Это не было модой на авиацию, которой страна увлеклась в 30-е годы. Округ при его огромных расстояниях действительно нуждался в скорейшем развитии авиации, а окружная власть в собственном самолете, предназначенном «для связи с районами, для скорейшей переброски материальной помощи рыбакам, охотникам, лесорубам», как сказано в одном архивном документе.
В стране с жесткой централизацией экономики, где не было свободного рынка, получить в собственность самолет было не так-то просто. Сколько писем и куда направила окружная власть, прежде чем заимела самолет, неизвестно. Известно лишь то, что получали его через Тюменский аэроклуб ОСОАВИАХИМ (предшественник ДОСААФа) и некоторое время он хранился в ангаре в Тюмени.
В Остяко-Вогульске самолет появился в начале лета 1936 года, а в августе в адрес председателя окрисполкома пришло письмо от начальника Главной инспекции Гражданского воздушного флота Малиновского (копию он отправил в Центральный Совет ОСОАВИАХИМа СССР комкору Эйдеману и главному прокурору армии), в котором сообщал, что «приобретенный самолет от СнабОСОАВИАХИМа СССР без предварительного разрешения главного инспектора противоречит Воздушному кодексу СССР, и согласно распоряжению Наркомюста виновные в этом должны привлекаться к ответственности».
Правда, в этом же письме Малиновский сообщал, что «Главная инспекция разрешает иметь самолет для связи округа с районами» и что «эксплуатацию самолета надлежит производить в точном соответствии с Воздушным кодексом и изданными в его развитие наставлениями и инструкциями». Но в самом начале возникли проблемы, и было это связано с Леонидом Хрущевым, «сталинским соколом», как называли в ту пору летчиков».
А ЛЕТАТЬ НЕЛЬЗЯ…
В Государственном архиве Ханты-Мансийского автономного округа в фонде №1 хранятся документы, проливающие свет на историю самолета «Остяко-Вогульский комсомолец». Согласно трудовому договору, который Хрущев подписал с окрисполкомом, прибывший из Москвы летчик должен был отработать в округе с 1 апреля 1936 года по 1 апреля 1938 года. Со своей стороны окрисполком предоставлял ему «квартиру, отопление и подвозку дров за свой счет», а также «механика и моториста для обслуживания самолета».
10 июля 1936 года состоялось заседание президиума окрисполкома, в его повестке значился вопрос «О приеме самолета «Остяко-Вогульский комсомолец» от окружного комитета ВЛКСМ». В постановлении записали: «Самолет принять и сдать по акту под ответственность тов. Хрущеву». Он должен был срочно выехать в Тюмень и Омск «для приобретения запчастей и оформления паспорта самолета». Кроме того, на летчика возлагалась обязанность оборудовать помещение для хранения самолета, заготовить бензин и разослать в районы, где должен был совершать посадки «Остяко-Вогульский комсомолец».
Но Хрущеву так и не удалось вылететь ни к рыбакам, ни к охотникам, ни к лесникам. У него не оказалось пилотского свидетельства, хотя Хрущев еще в 1931 году закончил Одесскую школу военных пилотов. Присвоить соответствующий класс пилота Гражданского воздушного флота должна была классификационная комиссия в Москве.
В объяснительной на имя председателя окрисполкома Федора Марковича Ануфриева Хрущев написал: «С теми документами, которые у меня в руках, по трассе нельзя летать до тех пор, пока не придет из Москвы пилотское удостоверение (свидетельство). Прошу откомандировать меня временно в распоряжение рыбтреста. 25 июля 1936 года».
Речь шла об «Обьгосрыбтресте», который находился в Тобольске, в его подчинении были все рыбокомбинаты и рыбозаводы двух национальных округов. По всей видимости, пилота Хрущева с управляющим трестом Авериным связывали достаточно дружеские отношения, так как тот ходатайствовал перед руководством округа за Хрущева. В письме на имя председателя окрисполкома он писал: «…Договоритесь с Павловым (первый секретарь окружкома партии—Авт.), чтобы Хрущева не задерживали в Остяко-Вогульске. В Москве его восстановят в правах пилота. Поездку я могу устроить за наш счет. Если восстановят в правах, прошу отпустить в наше ведомство».
Похоже, директор «Обьгосрыбтреста» Аверин был весьма влиятельным человеком. Руководство округа согласилось командировать Хрущева в Тобольск с 1 августа по 15 ноября в надежде, что, поехав от треста в Москву, он получит пилотское свидетельство и паспорт на самолет. В Москве Хрущев должен был также прозондировать почву насчет закупки для окрисполкома еще одной машины — гидросамолета.
Перед тем как выехать в Тобольск, Хрущев совершил полет над городом в присутствии представителя местного аэропорта, который в то время принадлежал Главному управлению Севморпути. Необходимо было составить акт о состоянии самолета «Остяко-Вогульский комсомолец» с тем, чтобы получить в Москве на него паспорт.
ВЕРНУЛСЯ ПИЛОТОМ ТРЕТЬЕГО КЛАССА
19 августа 1936 года летчик из Остяко-Вогульска предстал перед квалификационной комиссией Московского управления Гражданского воздушного флота. У него были неплохие шансы получить пилотское свидетельство. Общий налет часов составлял 906, из них 60 часов — слепые полеты, 43 часа — ночные. Материальную часть самолета и мотора, наставление летной и аэродромной службы Хрущев сдал на «четыре», аэронавигацию на «пять».
В округ Хрущев вернулся пилотом третьего класса. Но надо было решать вопросы обслуживания самолета, поставок авиабензина. В Тюмени в те годы существовала Обская авиагруппа Главсевморпути, которая обслуживала линию Тюмень — Салехард. Командиром авиагруппы был Александр Кливе, москвич, чья судьба в годы репрессий сложилась трагически. Его обвинили в шпионаже в пользу английской и польской разведок и расстреляли. Но в сентябре 1936 года Кливе в письме на имя начальника Самаровского аэропорта Бирюкова приказал «из полученного авиабензина выдать 5 тонн и полтонны смазочного масла исполкомовской авиации».
МЕНЯЕМ САМОЛЁТ НА… САМОЛЁТ
Пока решались эти вопросы, рассчитывать на дальние полеты летчику Хрущеву не приходилось. По просьбе руководителей округа он поднимал в небо делегатов окружного съезда советов, пока не случилась авария.
Что же произошло дальше? В декабре следователь окружной прокуратуры Мосин завершил расследование и составил обвинительное заключение, где вина за случившееся была полностью возложена на пилота Леонида Хрущева — неправильно закрепил самолет. В ту пору его могли обвинить во вредительстве и расстрелять, но, как следует из документов, в январе 1937 года он еще собирался в командировку в Омск, чтобы перегнать отремонтированный самолет в Остяко-Вогульск и даже составил смету расходов — она хранится в архиве.
Сохранилась и резолюция нового председателя окрисполкома Кошелева, который написал на одном из документов: «Хрущеву сейчас доверить самолет нельзя. Переговорите с «Авиаарктикой» (начальник Кливе здесь), чтобы он принял самолет на временное хранение».
К сожалению, нам не удалось узнать дальнейшую судьбу пилота и его самолета. Выскажем предположение: возможно, состоялся суд и Хрущев был осужден, а самолет после ремонта послужил округу, если только его не обменяли на другой. В архиве хранится документ, подтверждающий, что руководство округа осенью 1936 года, уже после аварии, обращалось в аэроклубы Тюмени и города Энгельса с просьбой продать или обменять самолет ПС-2, известный как У-2, на АИР-6.
Возможно, это было связано с тем, что взять на борт У-2 мог только двух пассажиров, или 160 килограммов груза, да и мощность его была невелика — всего 100 л.с.
В 1936 году наша газета об этой аварии (по цензурным соображениям) не написала ни строчки. Мы восполнили пробел через 70 лет. Это тоже нашей, окружной, истории строки…
«Новости Югры», 27 июля 2006 года