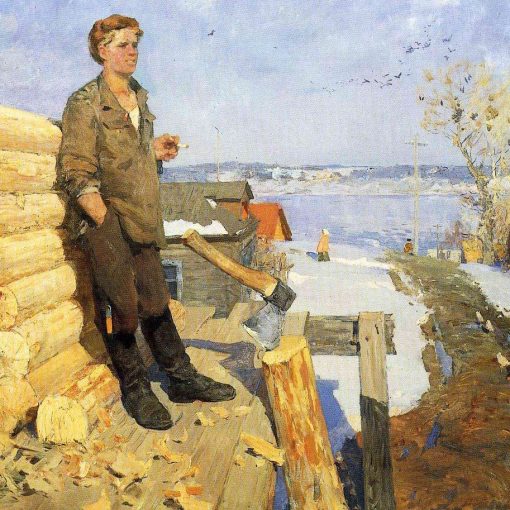Алексей Михайлович Романчук
После окончания 8 классов в 1948 году я был направлен Уральским управлением авиации в Троицкую школу авиационных механиков. …После трехмесячного карантина я записался в три кружка: вольной борьбы, хор и школу бальных танцев. Навыки, приобретенные в кружках, пригодились мне в жизни. В Ханты-Мансийске я организовал кружок вольной борьбы на общественных началах, который посещали местные милиционеры, так как они почти все никакими приемами не владели. За это начальник милиции Грунин Кузьма Кузьмич дал мне разрешение на мелкокалиберную винтовку.
У милиционеров было свое хозяйство, им надо было летом сено накосить. У каждого была своя винтовка. Преступников тогда не было. В Самарово, в гидропорту никто не имел привычки закрывать входную дверь на замок. Если дом закрывался на замок, то его хозяин вызывал подозрение. Насколько честны были рыбаки и охотники! Придешь в избушку охотничью, а там для тебя уже все готово: дрова, пища, спички. Уходя, каждый все необходимое готовил для следующего. Ничего из избушек для себя не забирали.
В Ханты-Мансийском национальном округе я оказался случайно. Из всего нашего набора школу окончили 108 человек. После окончания школы 8 выпускников должны были быть направлены на работу за границу. В этот список попал и я. Большую роль сыграло то, что я окончил школу бальных танцев и имел разряд по борьбе. Нас оставили в школе до особого распоряжения. Остальные курсанты уехали на работу туда, откуда прибыли: в Москву, Ленинград, Свердловск, Магадан.
Я поехал за распределением в Свердловск, в Уральское управление авиации, которое обслуживало 5 областей. Главный инженер управления, занимавшийся распределением молодых специалистов, был в командировке. Поэтому мне пришлось его ждать. В здании управления я встретил летчиков, которые посоветовали мне ехать на Север. Подвели меня к карте, показали Салехард. А потом добавили: «Езжай в Ханты-Мансийск. Это самое лучшее место». На приеме у главного инженера Андриевского состоялся разговор.
— Почему опоздал?
— Хотел ехать за границу.
— Куда хочешь поехать?
— В Ханты-Мансийск.
— Мы только что оттуда вернулись. Проверяли, как к зиме подготовились.
В управлении со мной заключили трудовой договор и дали денег на дорогу. Это мой первый трудовой договор от 13.12.49, который я храню до сих пор.
До Тюмени я добирался поездом. В Свердловске на железнодорожном вокзале я увидел факельное шествие, посвященное дню рождения Сталина. По Привокзальной площади двигалась колонна железнодорожников из 50-70 человек. В руках они держали небольшие баночки, в которых горели факелы. Зрелище незабываемое!
В Тюмени у работника вокзала я спросил: «Как добраться до Плеханово?». Оказалось, что до аэропорта надо идти по шпалам километров пять. Тюмень тогда была вся из деревянных домов. В аэропорт добирались на лошадях.
Добравшись до аэропорта, я снова встречаю экипаж, с которым познакомился в Свердловске. Они шли на завтрак. Эти летчики летали по трассе Тюмень-Ханты-Мансийск-Салехард, которая была проложена в 30-е годы прошлого века. Узнав, что я буду работать в Ханты-Мансийске, они взяли меня с собой позавтракать. Бортмеханик дал мне куртку, так как я был в шинели. С ними я и прилетел в Ханты-Мансийск. Билет я не покупал. Специально для меня они сделали круг над Самарово и Ханты-Мансийском.
Так я прибыл в Самарово 25 декабря, а через два дня приступил к работе. Впереди были 45 лет работы в гражданской авиации, в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Белоярском, Медвежьем.
30 декабря я пошел в клуб рыбников. На последние 10 рублей я купил билет на новогодний бал-маскарад. Пришел в форме, так как гражданской одежды у меня не было. В клубе было два оркестра: в фойе — струнный, в кинозале — духовой. Был объявлен конкурс на лучшее исполнение танцев. Я осмотрелся, выделил девушек, которые хорошо танцевали, и стал их приглашать для участия в конкурсе. Первую пригласил калмычку. Тогда в Самарово и Ханты-Мансийске было много ссыльных. С ней мы выиграли первый приз — духи в маленьком флакончике. На этом вечере я взял все призы. Последняя партнерша поняла, что я голодный. Она купила мне в буфете пельмени.
Первого января 1950 года я пошел из Самарово в Ханты-Мансийск, чтобы познакомиться с городом. Туда и обратно я добирался пешком в ботиночках. В Ханты-Мансийске был Дом народов Севера — старое одноэтажное здание. Но городская молодежь предпочитала отдыхать в Доме рыбаков. Привлекало, видимо, наличие духового оркестра, кинозала, буфета. Да и само здание было намного лучше.
Гидропорт находился в Самарово. В Ханты-Мансийске сухопутный аэропорт открылся в 1968 году. На выезде из города стал строиться авиагородок.
Кроме здания гидропорта на берегу Иртыша находились еще жилые дома. Связь поддерживалась при помощи рации. Летом гидросамолеты на воде садились, а зимний аэродром был на противоположной стороне Иртыша. Летали наши гидросамолеты АН-2, ЛИ-2. Летал американский гидросамолет «Каталина», такая огромная летательная лодка. В ее салоне размещалось 47 пассажиров. Из Тюмени до Салехарда она летала без посадки. Запасной вариант был в Воркуте.
Летом из Тюмени в Ханты-Мансийск гидросамолеты взлетали с озера Андреевского. В Тюмени их «переобували» на колеса, они долетали до озера Андреевского, а там «переобували» на поплавки, по парому спускали на воду. Летали наши самолеты по озерам до октября месяца, обслуживая геологов и сейсмопартии. У них был винт и задний ход. Они могли подойти к самому берегу, были очень маневренны. Пассажиров высаживали на плот.
В те далекие годы судьбе было угодно свести меня с Любовью Михайловной Улановой, прославленной летчицей, фронтовичкой, одной из первых летчиц — Героев Социалистического Труда. С тридцатых годов стала действовать авиалиния «Северморпуть». Базировались летчики в аэропорту Свердловска. После войны на этой линии летала Любовь Михайловна Уланова. И не только летала, но и готовила летные экипажи. Опытные авиаторы побаивались ее, а мы, новички в авиации, взирали с благоговением.
Однажды зимой она доверила мне ключ от своего самолета. Для меня это был экзамен на профессиональную пригодность. Всю ночь я штудировал конспекты, а утром стал проверять двигатель Улановского ЛИ-2. Благодарность прославленной летчицы оказалась для меня настоящим благословением в авиацию. Как авиамеханик я был допущен в дальнейшем к обслуживанию фактически всех видов авиатехники, начиная от вертолетов различных модификаций до самолетов ИЛ-12, ИЛ-14, ЛИ-2, АН-2, АН-24.
Самую первую благодарность я получил 10 декабря 1951 года за оказанную помощь в розыске самолета ПО-2. Это был маленький фанерный самолет, в котором кроме летчика могли разместиться только два пассажира. Вот такой ПО-2 вылетел в Самарово в начале декабря, попал в снежную бурю и исчез. Оказывается, из-за плохой видимости пришлось посадить самолетик в открытом поле. Кроме летчика Вальтера Францевича Короуза на борту было два пассажира. Ни у кого не было спичек, так как все подобрались некурящие, из продуктов — банка тушенки.
Летчик и один пассажир были тепло одеты, в валенках. Второй пассажир — демобилизованный солдат, в кирзовых сапогах. Когда удалось вдали увидеть огни, летчик смог по компасу сориентироваться. Он нацарапал на бумаге свои координаты и с этой запиской отправил солдата за помощью, чтобы тот не замерз. К счастью, на борту оказались одни лыжи. Парень еле-еле перебрался через Иртыш.
Двое суток поиска самолета не дали результатов. Тогда начальник аэропорта дал мне лошадь с санями, возницу, ракетницу с патронами. «Если что, — говорит — хоть трупы вывезешь». Надежды на спасение людей не было: пурга не стихала. Отправились мы в противоположную сторону от той, где уже производился поиск. Когда показалась избушка, мы решили отдохнуть. Возница к избушке пошел, а я к поленнице дров.
В какой-то момент ветер стих, и мы увидели на расстоянии не дальше километра самолет. Когда мы подошли к самолету, крылья которого уже занесло, мы увидели летчика и пассажира, которые сидели в кабине, прижавшись друг к другу, между ними — открытая банка тушенки. Вокруг самолета была натоптана тропа, видимо, бегали по ней, согреваясь. Еле-еле их растолкали, напоили чаем и отправились к аэропорту. Когда показались огни, я вспомнил о ракетнице, и стал из нее на радостях палить.
За время работы в авиации мне удалось встретить много интересных людей. Случай свел меня с Фарманом Салмановым. При каких обстоятельствах мы познакомились, я уже не помню. Помню, что он со своей новосибирской командой готовился в экспедицию, когда пришла из Новосибирска команда: «Никакой разведки, возвращайтесь!». В это время в Березове произошел выброс газа с водой. Салманову была дана команда продолжать работы. Фонтан в Березове не могли потушить несколько месяцев. Не было опыта закрытия газовых фонтанов. Из-за неслыханного шума люди в деревне разучились говорить.
Салманов казался нам необычным человеком. Людей кавказской национальности в нашей местности почти не было. Непривычен был его акцент. Он очень интересно выступал на партхозактивах, партийных пленумах, конференциях. Раньше на различных совещаниях говорили об оленеводстве, рыбе, пушнине. Темы его выступлений были для нас новыми. Во время его выступлений в зале стояла тишина. Позднее, когда мы встретились в Сургуте, он пригласил меня на торжественное совещание по поводу вручения переходящего Красного знамени его предприятию.
В Ханты-Мансийске я прошел все служебные ступени: авиамоторист, авиатехник, старший инженер, начальник цеха, замполит. После окончания института стал инженером-экономистом организации планирования воздушного транспорта. 12 лет возглавлял партийную организацию авиаотряда, из них 8 лет — на общественных началах.
В октябре 1971 года меня направили в Нижневартовск руководителем объединенной авиаэскадрильи. История Нижневартовской авиации началась с простой грунтовой площадки в старой части города. Именно здесь в 1965 году базировалось звено самолетов и вертолетов МИ-4. В декабре 1969 года на базе авиазвена было образовано авиапредприятие «Нижневартовская объединенная авиаэскадрилья».
Долгое время грунтовая полоса помогала геологам, нефтяникам, строителям. С развитием нефтяной промышленности, открытием Самотлора резко увеличился поток грузовых и пассажирских перевозок. Крайне необходимой стала полоса с искусственным покрытием. 4 ноября состоялся первый технический рейс. Ради этого события в Нижневартовск прилетел начальник управления гражданской авиации И. Хохлов. Гости засиделись до позднего вечера в гостинице «Самотлор» за праздничным столом. И. Хохлову нужно было срочно улетать, а новая полоса еще не была освещена. Пришлось сделать переносное освещение. Наставили на одной стороне 600 метров фонарей. АН-12 все же взлетел.
Я был назначен председателем рабочей комиссии. Чтобы разрешить полеты пассажирских самолетов, нужно было утвердить все производственные инструкции, подписать приказ в министерстве. 17 ноября пассажирский АН-24 сел на новой полосе. Аэропорт переехал на новое место — нынешнее.
В 1972 году впервые в Нижневартовске произвел посадку ТУ-134 из Тюмени. С этого времени открылись авиарейсы на Москву на самолете ТУ-134. Началось освоение вертолета Ми-8 грузоподъемностью 2,5 т.
Работников не хватало, техники для обслуживания взлетно-посадочной полосы не было. В первую зиму взлетную полосу песком посыпали, так и боролись с гололедом. Если в соседних городах по причине гололеда закрывали аэропорт, то у нас он всегда был открыт.
С 1971 по 1973 год в Нижневартовске побывали двадцать три министра. Машину для тепловой очистки полосы для аэропорта выхлопотал секретарь Тюменского обкома партии Б. Е. Щербина у министра обороны Гречко. Этот случай связан с прилетом в Нижневартовск Председателя Совета Министров Косыгина в январе 1972 года. Встречать Косыгина собралось все областное руководство. Перед этим прилетела делегация из Томска. Так что народу собралось много. Для встречи гостей мы насыпали на полосу песка больше обычного.
В это время совершил посадку грузовой АН-12, который во время разворота поднял с полосы тучи песка. Кто-то из встречающих сказал, что я в январе собрался садить на взлетной полосе картошку. Такая шутка была воспринята Б.Е. Щербиной как оскорбление: «У человека ни людей, ни техники, крутится как может, а вы издеваетесь». Тут же в аэропорту связался с Гречко. В тот же день пришла телеграмма, согласно которой мы должны были направить своего представителя в Куйбышев в военную часть для получения спецтехники.
Через четыре года численность эскадрильи увеличилась в пять раз и достигла 1700 человек. За неделю возили столько грузов, сколько раньше за год. Рейсы осуществляли экипажи пяти управлений: Западно-Сибирского, Тюменского, Приволжского, Московского, Уральского. В 1976 году на полосе был обнаружен провал плиты. Руководитель полетов Александр Баранкин принял решение закрыть аэропорт. В то время в день улетало 1240 человек. А еще встречающие, провожающие. К вечеру в аэропорту скопилось несколько тысяч человек. Никто не верит, что полоса рухнула.
Я принял решение открыть ворота. Вся толпа ринулась на место обвала. Когда подогнали технику для ремонта, многие пассажиры стали бесплатно помогать строителям заделать дыру. Оказалось, что строители перекрыли какой-то маленький ручеек, не отвели его в трубу. Проект заказывали еще в 1965 году, не думали, что он будет маловат. Позднее, при расширении полосы, изысканий не провели. Александра Баранкина наградили денежной премией.
После реконструкции полосы в 1981 году стали приземляться ТУ-154. Проведенная реконструкция в 1989 году позволила принимать аэробусы ИЛ-86. Реконструкции взлетной полосы проводил нынешний директор предприятия В. Пысенок. В 1992 году аэропорт включен в состав аэропортов федерального значения. Принята программа третьей реконструкции аэропорта.
Много было сложностей, связанных со строительством нового здания аэровокзала. Мы нашли одного молодого архитектора, который разработал хороший проект, но очень дорогой. Общая стоимость 4 миллиона 200 тыс. рублей. В то время все проекты свыше четырех миллионов рублей необходимо было согласовывать с Советом Министров. Нам было отказано. Основной аргумент отказа был такой: «Что мы скажем братским республикам». Нам порекомендовали, так как город маленький, построить здание с пропускной способностью 50 человек в час. Мне посоветовали занизить сметную стоимость проекта. Так мы и обошлись без согласия Совета Министров и построили аэровокзал, подобного которому не было в России.
За время моей работы начальником аэропорта было много забавных случаев. В городе Стрежевом Томской области, который расположен недалеко от Нижневартовска, не было аэропорта. К нам они добирались по зимнику, а летом — водным транспортом. В конце апреля 1977 году стрежевских в нашем аэропорту набралось человек 150. Все хотели попасть домой на первомайские праздники. А тут распутица. Они оккупировали горком партии и пригрозили сорвать первомайскую демонстрацию, если их не доставят домой.
Я с помощниками на вертолете прилетел в Стрежевой. У них плиты были положены, но самолеты еще не летали. Мы принялись сооружать аэропорт на три дня. За это время их всех вывезли. Из Стрежевого никого не брали.
Приходилось строить летные полосы в деревнях. Вообще-то это было обязанностью сельсоветов. Однажды вызывают меня в горком партии и говорят, что в одном населенном пункте люди на новогодние праздники остаются без керосина. Когда добрался до места, собрал мужиков. Решили накатать полосу «Буранами», так как из-за тонкого льда на реке трактор не мог проехать. Уже на следующий день летчики привезли керосин, да не тот. Пожалел я мужиков, помог им и другой керосин, в виде горячительных напитков, привезти, специально персональный самолет выделил.
Были и удивительные встречи. Однажды иду по перрону. Слышу «крепкий» разговор рабочих, строящих полуангар для АН-2. Подошел и увидел, что один из работников — маленькая девушка, в унтах и меховом комбинезоне. От удивления я спросил: «Вы кто?»
— Авиатехник Кошиль.
— Где работаете?
— У вас.
Эта хрупкая девушка с упорством шла к своей цели. Она хотела летать. По возможности, я ей помогал. Она окончила авиационный техникум по эксплуатации самолетов, но хотела летать. Переучилась на обслуживание вертолетов. Вставала в четыре утра, тащила подогреватель. Обслуживаемые ею вертолеты всегда были первыми готовы к полетам. Людмила Кошиль считалась одним из лучших бортмехаников. Позднее она несколько раз становилась чемпионкой СССР по вертолетному спорту.
На испытаниях первого «Антея» я стоял рядом с Олегом Константиновичем Антоновым. В Нижневартовске «Антей» сделал 202 рейса. Этот рекорд на Севере так никто и не победил. Когда проходил здесь же испытание ИЛ-76, сам Коккинаки приезжал.
В 1994 году я вышел на заслуженный отдых. За время работы в авиации я был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», имею 40 благодарностей, почетные грамоты.
2005 г.