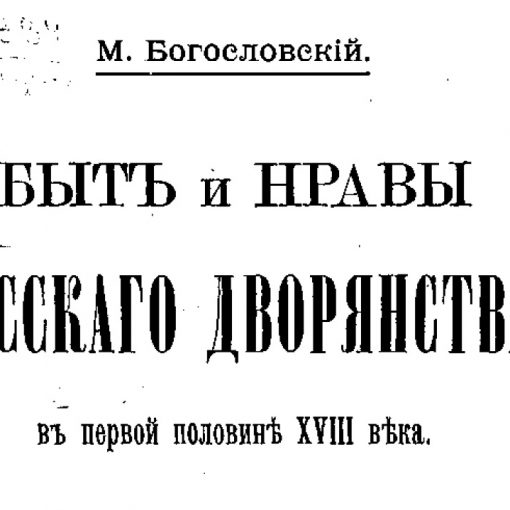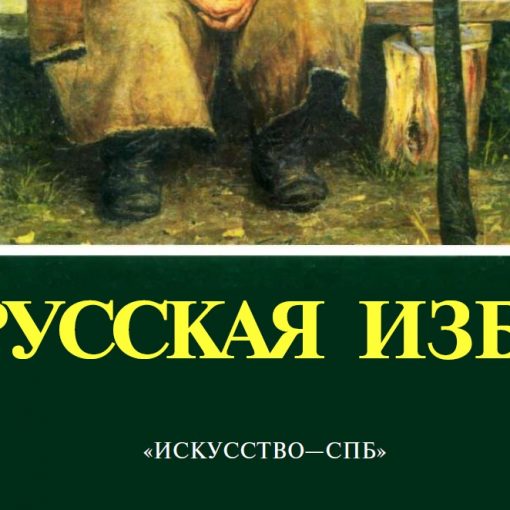В. Загваздин
В детстве как-то неожиданно, будто тайно, вложит кто в твой разум вполне оформленное готовое понятие, и вдруг ощутишь мир и свою принадлежность к нему. Может, в то время оно умещается в бесконечно дорогих коротких словак: мама, отец.
Мама навсегда остается для нас мамой, отец — отцом. Своего отца я не видел никогда. Просто знал, что его нет и как-то скоро и безболезненно привык к этому.
Настоящее понятие — отец — пришло значительно позже. Тогда я по-настоящему осознал, что значит «нет отца», что я никогда не увижу его, даже если сильно захочу…
Давно все это было и не удается вновь побывать в знакомых местах, а память все чаще уносит в ту белоснежную по весне яблоневую кипень.
Черная, полированная дождями и ветрами лента шоссе убегает от Невеля на юг. С ревом мчится старенькая «Колхида». Потише бы ехать, не спешить бы, так лучше думается. Защемило в сердце что-то, а водитель торопится: что ему мужая боль. У него дела, у него много впереди дорог, есть время поразмышлять.
Позади остаются деревни Дубище, Козлово. Машина тяжело взбирается на пригорок-взлобок. Пожалуй, ради этого взлобка и окрестили так деревню — Лобок. Ладные бревенчатые дома высыпали на пригорке, цепочкой встали вдоль шоссе.
Уже в который раз я квартирую на краю деревни в доме деда Федора Гвоздева. Дом ничем не отличается от других деревенских. Разве что историей своей жизни да местонахождением. Здесь кончается не только деревня, во и район, область, республика, сама матушка Россия-Великорусская, как на манер соседей белорусов величают ее в деревне.
Историю дома грешно выдавать отдельно, забыв про хозяина. Вместе переживали радость и беды, которых немало выпало на их долю. Дому что, все выдержала деревенская его натура. Он и теперь еще молодо глядит окнами на обмеленный веком социализма мир, хотя и отроился во времена правления последнего царя. А Федор сдал, состарился, дедом стал.
Много перевидел старый дом. И справный крестьянский достаток, и с каждым годом тяжелеющее положение семьи после смерти главного кормильца семьи — отца Федора. Знал и то, когда Федор, родившийся за четыре года до окончания прошлого века, впрягся в тягостную крестьянскую лямку, так и не получил возможности обучиться грамоте. Помнит Великий Октябрь, первые колхозы, семью Федора.
Помнит дом суровые месяцы фашистской оккупации. В нем размещался медицинский перевязочный пункт. Федор с женой и малолетними детишками ютился в помещении, где в обычное время держали домашний скот.
В детстве Федор покалечил левую руку. Высохла она, стала короче правой. Это избавило от постылой рекрутчины, а после пожизненно усадил в нестроевые. Во время войны находился на оккупированной земле. По приказу немецкого коменданта рубил лес, а после по чьей-то указке его занесли в особые списки и на целый год угнали в немецкий лагерь.
Отступая, немцы сожгли всего четыре строения, среди них и дом Федора.
Зияющими окнами, пустым провалом двери встретил хозяина отчий дом, опустел, остался без потолка и пола. Шальной осколок бомбы пробил крышу, переломил потолочную балку. И лишь сделанная умелыми руками Федора печь каким-то чудом уцелела.
— В первую очередь приладил полы, потолок, слепил из досок дверь, окна вставил. — Дед Федор после множества домашних дел с кряхтеньем взбирается на теплую русскую печь погреть спину.
Я сажусь у плиты и слушаю скупой рассказ деда о прожитом.
— Прогнали немца. Стали колхоз создавать. Председателем моего брата избрали. Вспоминать лихо, как бедствовали. Подошла весна. Хлеб сеять надо. Женщины впряглись в соху, и потянули, боронили так же. Позже быков завели…
Внимательно слушаю деда, Лица его подобрело, разогрелось в тепле. Седина заблудилась в волосах, серебром тронула усы. Чуть прищуренные сохранившие неувядающую голубизну глаза затаили навечно скорбь и печаль.
Вскоре после войны похоронил Федор жену. Жениться вновь так и не собрался. Стал детям не только отцом и кормильцем, но и нянькой.
Никакой, даже самой черной колхозной работы не гнушался. Пахал, сеял, косил сено, убирал хлеб. Терялся в заботах, забывался, да так и не заметил, как, куда ушли годы. Тут и сыновья подросли, ушли служить в Советскую Армию. Новую тяжелую утрату пережил отец —смерть любимой дочери Марии.
После службы в армии сыновья в родной дом не вернулись. Поселились в Карелии. Сиротливо опустел старый дом.
— Приглашали жить к себе. Не поехал. Здесь привычнее, свой угол. Родина тут…
Менялись председатели, разрастался и креп колхоз, а Федор Гвоздев по-прежнему оставался в нем рядовым, трудился по мере сил и лишь в последние годы ушел-таки на пенсию.
Домашние заботы отвлекают, как бы отдаляют чувство одиночества, но иногда дед вдруг словно споткнется обо что-то невидимое, тоскливо замрет возле дома, у ворот. Взгляд его скользнет через сад к железнодорожному полотну, остановится на проходящем составе. Потом, встрепенувшись, дед круто повернется, ссутулится и заспешит по узенькой зарастающей тропке на почту. Нет ли письмеца-от сыновей?
А письма приходят все реже. Старший сын Данил не пишет уже пять лет. «Забыл, может, или обиделся? А за что?» — мучается отец. Младший Михаил — покладистее. Пишет. В гости приезжает, иногда огород вспашет, поможет осенью убрать картофель.
Как-то я надолго отлучился по делам. Вернулся и едва переступил порог, как дед заторопился.
— Почитай! — протянул мне конверт.
Когда письмо кончилось, дед аккуратно сложил его, разгладил ладонью, печально склонил голову на стол. Редкие крупные слезы покатились из глаз. Он вытер их, размазывая по щекам большими огрубелыми в работе руками:
— Эх, сынки, сынки…
Я растерялся, не зная, как. успокоить старика. Ушел в комнату, закрылся, взял книгу, но читать не смог. Строки отчего-то водянисто рябили и расплывались. Так и просидел, не перевернув ни единой страницы. В избе было холодно и какая-то тоскливая холостяцкая обреченность, пустота и страх одиночества сквозили из всех щелей и углов, заставляя меня зябко вздрагивать.
Была поздняя ночь. Дед посапывал на теплой печи под старым ватным одеялом. Во сне стонал, звал кого-то. Видать, докучали сны. А я все думал, пытаясь найти вескую, видимую причину обострения в отношениях сына с отцом. Я так и не нашел ее, не смог понять чужую душу. И все опрашивал себя: «А как бы ты поступил? Остался бы жить в деревне?»
Утром я проснулся заботливо накрытый дедовым пальто. Старик звякал ведрами и чугунками, готовил завтрак, чертыхался, проклиная неудачно сложенную печь, грезился выкинуть это непутевое сооружение.
Как и вчера, мне снова захотелось помочь деду, утешить старого человека хоть словом, но почему-то я в этот раз не находил тех нужных сейчас слов и в душе ругал себя за молодость и неопытность. А если бы это был твой отец? Чем бы ты помог ему?
Сколько бы жизненных дорог нам ни пришлось исколесить, куда бы ни забрасывала судьба, мы всегда носим в памяти что-либо дорогое, незабываемое. Я, например, вместе с памятью о родине и детстве тепло вспоминаю старый крестьянский дом на краю России. Его история и история жизни самого хозяина для меня не кончились. Да и вряд ли когда кончатся.
Псковская область — Ханты-Мансийск
«Ленинская правда», 25 августа 1972 года