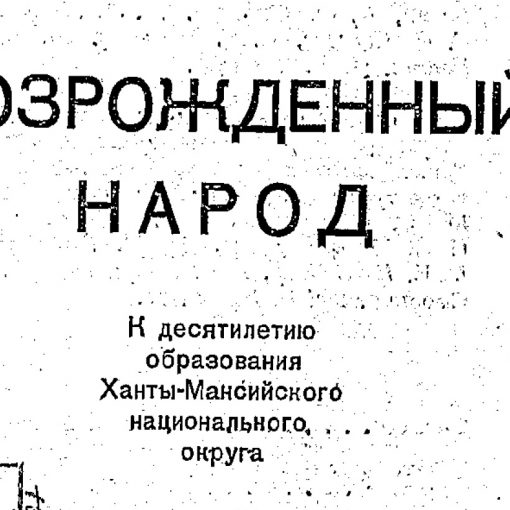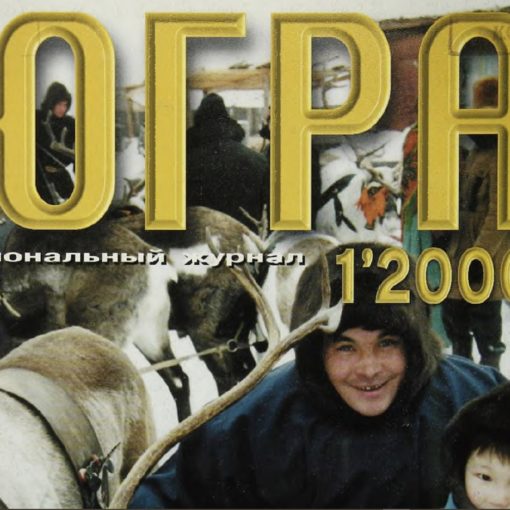Валентина Патранова
Минна Рогатинская, 32-х лет, преподаватель Ленинградского технологического института, в марте 1935 года постановлением особого совещания при НКВД была выслана на три года «за принадлежность к троцкистско-зиновьевской контрреволюционной группе». Выслана в Омскую область, в состав которой в то время входил Остяко-Вогульский округ.
В ночь на 30 августа 1936 года в дом по улице Советской, 12 посёлка Перековка громко постучали. Хозяйка Зинаида Ржавина, сама из высланных в пору коллективизации, открыла дверь. Начальник окружного отдела НКВД Дудин и сопровождавшие его оперуполномоченные прошли в комнату квартирантки Рогатинской.
Минна Григорьевна жила в отдельной комнате, и, как показала потом на следствии хозяйка, когда Рогатинская принимала гостей, всегда плотно прикрывала двери. Вела ли она контрреволюционные разговоры с гостями, Зинаида Ржавина не ведала, а вот изъятые при обыске вещи, будучи понятой, рассмотрела хорошо и вряд ли причислила их к контрреволюционным. Одна книга, несколько писем и две фотографии — вот такой подобрался компромат на высланную ленинградку.
На первый допрос её вызвали через четыре дня, и это не был психологический трюк, моральное давление на подследственную. Просто немногочисленный штат окружного НКВД задыхался от работы. В эти дни арестовали еще 15 человек из полит-ссыльных, кроме того, были арестованы несколько человек из местных, в основном работники рыбокомбината. Арест в Тобольске управляющего рыбтрестом Николая Угланова, в прошлом видного большевика, секретаря Московского горкома ВКП(б), автоматически повлёк за собой аресты работников рыбной промышленности от Тобольска до Полярного круга. Вот почему несколько дней сотрудникам местного отдела НКВД было не до Рогатинской.
Зато уже 3 сентября начались многочасовые допросы, заполнение анкеты, где, помимо графы о происхождении, образовании, были и другие: требовалось перечислить подробно всё движимое и недвижимое имущество, количество лошадей, коров, овец, свиней, сельхозорудий сложных и простых, количество земли и сумму налога. Сначала до февральской революции, потом с февральской 1917 до 1921 года, далее с 21-го по 29-й и, наконец, на день ареста. Для мужчин надо было ответить на вопросы: служил ли в старой армии — чин, должность, в белой, в полиции, жандармерии, участвовал ли в партизанских отрядах, указать точное время, место, в качестве кого. Рогатинская отвечала на другие вопросы: жила ли за границей, когда, в каких государствах и городах, имеются ли родственники за границей?
Что она могла сказать? Родилась в Киеве, отец журналист. В гражданскую войну девчонкой была оставлена губкомом комсомола для подпольной работы, в тылу белых распространяла нелегальную литературу.
В партии не состояла, только в комсомоле с 1919 по 1926 годы. Имела неосторожность разделить взгляды партийной оппозиции, что, собственно, и послужило поводом для высылки из Ленинграда через шесть лет после разгрома оппозиции.
А сейчас следователь обвинял ее в организации сборищ, на которых Рогатинская «вела контрреволюционную пропаганду, направленную против вождей ВКП(б) и правительства». Статья 58, п. 10, 11, самая страшная по тем временам.
Рогатинской припомнили и другое. В Тобольске, куда она сначала попала после Ленинграда, познакомилась с бывшей женой Троцкого А. А. Бронштейн, тоже высланной. Между ними завязались дружеские отношения, но вскоре Рогатинскую, после окончания курсов лаборантов при рыбтресте, направили на работу в Остяко-Вогульск. Она тогда ещё благодарила судьбу, что ей посчастливилось работать: другие были лишены и этого. Правда, в марте 1936 года её уволили без объяснения причины, и с тех пор до момента ареста она, педагог с высшим образованием, так и не смогла найти работу. Кончались деньги, вывезенные ещё из Ленинграда.
Минна Рогатинская была из породы свободолюбивых, неосторожных людей, которые не умеют приспосабливаться к режиму. Её критические высказывания по поводу «текущего момента» даже у части политссыльных вызывали негативную реакцию. Что же тогда говорить о следователе НКВД, для которого главным было набрать больше доказательств ее контрреволюционной деятельности? И сама Минна хорошо ему в этом помогала.
Вот её высказывания, запротоколированные в деле № 8100 от 1936 года. Только один раз она позволила себе умолчать на допросе о своих взглядах. «Что касается моих прошлых взглядов на политику партии в области экономики, крестьянства и других вопросов, то я о них здесь не считаю нужным говорить, так как перед выселением из Ленинграда мной уже были даны показания НКВД».
А далее сама набрасывает петлю на шею: «Должна признать, что отношусь безразлично к тому, кто находится в руководстве нашей страны. Сталина как личность я не люблю, так же как и ряд других руководителей ВКП(б) и правительства». А по советской логике обязана была любить. В нелюбви можно было признаться мужу Илье Шакиру, военачальнику, которого тоже зачислили в антисоветскую белорусско-толмачёвскую группировку. Как пояснила Рогатинская, некоторые военные Белорусского военного округа и академии имени Толмачёва высказывали мнение против введения единоначалия в армии. Оказывается, был в нашей истории период в 20-е годы, когда можно было иметь свое мнение, правда, уже в 30-е годы за это пришлось дорого заплатить.
Больше всего вопросов вызвала у следователя позиция Рогатинской по отношению к только что закончившемуся процессу над Каменевым и Зиновьевым. Минну поразило, откуда в НКВД известно, буквально по часам, как она провела тот день 24 августа 1936 года, когда ожидалось вынесение приговора.
В тот день Минна Рогатинская решила пригласить на обед, как ей казалось, своих единомышленников по политссылке. В первую очередь речь шла об Израиле Иоффе, молодом человеке с едким, критическим умом, неплохо образованном и тоже ленинградце. Его отношение к Сталину, как ей казалось, было совершенно определённым: «У меня с ним разногласия по земельному вопросу, — говорил Иоффе, — Сталин хочет закопать меня в землю, а я этого не хочу».
Пригласила она также Зенона Жукова, бывшего работника торгпредства в Лондоне. Он имел неосторожность 7 декабря 1934 года принять участие в обеде в столице Великобритании, на котором присутствовал ряд директоров ленинградских заводов, среди которых, как оказалось впоследствии, были зиновьевцы. Шесть лет работы в торгпредстве за границей, обед в одной компании с «зиновьевцами», найденная при обыске газета на английском языке — этого было вполне достаточно, чтобы высланного из Ленинграда Зенона Жукова вторично арестовать, но уже в Остяко-Вогульске. Случилось это в последний день августа, а 24 числа он должен был обедать у Рогатинской.
Жуков жил в бараке леспромхоза. Наведавшихся к нему в этот день политссыльных Мельникова и Лившица он пригласил с собой к Рогатинской. Андрей Мельников, член партии с 1919 по 1935 год, хотя и вёл, по его словам, «исключительную борьбу за генеральную линию партии», был сослан на три года за то, что в 1926 году «собирал и читал нелегальную оппозиционную литературу».
Бывший работник ленинградского политпросвета Борис Лившиц, исключённый из партии за то, что был знаком с Хани-ком, проходившим по делу об убийстве Кирова и впоследствии расстрелянным, попал в ссылку из-за того же злополучного знакомства. В апреле 1935 года его направили сначала в Сургут, а в октябре — в Остяко-Вогульск.
Вот такое общество, все земляки, ленинградцы, собралось 24 августа 1936 года за столом у Минны Рогатинской в посёлке спецпереселенцев Перековка.
Иоффе тогда не удержался и задал вопрос Борису Лившицу, работавшему экономистом в Самаровском райпотребсоюзе: «Ну и как ваши служащие реагируют на процесс над Зиновьевым и Каменевым?»
«Говорят, сволочи», — ответил Лившиц. На что Иоффе заметил: «Вот это хорошо, потому что надо догадываться, кто сволочи: тех, которых судят, или те, которые судят?»
После обеда решили пойти к Мельникову, чтобы послушать радио — ожидался приговор над группой лиц, проходивших по делу Каменева-Зиновьева. Приговор выслушали в полном молчании. И тут с Рогатинской случилась истерика: слёзы, выкрики «Какая наглость! Всё ложь! Уничтожается вся старая гвардия, кто работал с Лениным». Успокоившись, с горечью заметила: «Этот процесс — острое блюдо Сталина».
Неожиданно Лившиц заявил: «Правильно их расстреляли, что тут особенного?». Рогатинская возмутилась: «Так легко и весело может говорить об этом человек, пришедший в революцию с Невского проспекта».
Всё это Минна Рогатинская услышала от следователя и поразилась точности изложенных событий. Её заставили написать стихи, которые она декламировала за столом. Стихи подшили в дело. Не давала покоя мысль: кто предатель?
А следователь все твердил: вы обвиняетесь в злостной клевете на вождей ВКП(б) и особенно на товарища Сталина. Минна не отрицала: «Действительно, в отдельных случаях я высказывала свою точку зрения по вопросу об огульной ссылке бывшей оппозиции. К приговору суда над троцкистско-зиновьевским блоком отнеслась с недоверием, так как прочитанные мной материалы не убедили меня окончательно в том, что Зиновьев, Каменев и другие занимались террористической деятельностью».
А перед следователем лежали запротоколированные слова одного свидетеля, который показал: «Рогатинская выступала против проекта новой конституции, против закона о запрете абортов. Она говорила: самое гнусное, что у нас есть, — это политика. Такой гнусной политики нет ни в одной капиталистической стране».
И снова следуют вопросы о знаменитом процессе. Минна откровенна. Впечатление такое, что у неё напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. «Процесс над Зиновьевым и Каменевым у меня вызывает сомнения и кажется крайне подозрительным. Для меня официально опубликованный приговор не является достаточным документом, поскольку не опубликован стенографический».
На вопрос: если бы Рогатинская присутствовала на собрании, где осуждали приговорённых, как бы она себя повела? -Минна бросила следователю: «Безусловно, я бы голосовать не стала». И подтвердила всё, что говорила у себя дома и на квартире Мельникова 24 августа. На предложение следователя дать характеристику на лиц, находившихся в ссылке, заявила: «Показания давать не буду».
О новой конституции говорила так: «Никакая конституция не снимает вопрос о репрессиях. Репрессии будут оформлены в рамках новой конституции в форме пересудов. Не исключена возможность, что при таком пересуде возможно новое добавление срока».
Вспомнила, как после прослушивания приговора по радио, после пролившихся слёз, она, обращаясь к хозяину квартиры Мельникову, сказала: «Неужели после того, что случилось, вы не снимете портрета палача?» — и указала на Сталина. Иоффе тогда поддержал её: «Я то же самое хотел сказать».
«Так кто же из политссыльных оказался предателем? — мучилась она в камере. — Мельников, Лившиц, Жуков? А может быть, Израиль Иоффе?..»
Нет, Израиль Иоффе не мог быть провокатором. И не потому, что один из свидетелей показал, будто он находился с Минной Рогатинской «в общественно-политической связи». Он не мог быть потому, что именно их двоих — Рогатинскую и Иоффе — окружной отдел НКВД поставил во главе контрреволюционной организации политссыльных, действовавшей в окружном центре.
Забегая вперёд, скажу: направляя дело № 8100 на рассмотрение особого совещания при НКВД, организаторы его написали, а окружной прокурор Гончаров утвердил: «Остяко-Вогульским окружным отделом НКВД арестована группа ссыльных троцкистов-зиновьевцев. Проведённым следствием установлено, что Иоффе и Рогатинская создали контрреволюционную группу, проводили нелегальные собрания…»
Контрреволюционная группа… Два главаря. Это звучит. Это будет отмечено наверху как проявление социалистической бдительности. Но не в традициях советской системы ставить во главе заговорщиков женщину, а из мужчин на эту роль лучше всех подходил беспечно-безрассудный, критически настроенный Иоффе. К тому же и стаж политического ссыльного у него, несмотря на молодость (29 лет), был самый большой. При этом в партии Иоффе, в отличие от других, никогда не состоял.
В 16 лет он вступил в комсомол и был исключен в конце 20-х годов «за принадлежность к троцкистской оппозиции». И не просто исключен, как тысячи других, а сослан Днепропетровским ГПУ в заштатный городишко Веловецк. Сколько он там пробыл, из документов дела не ясно, но впоследствии оказался в Ленинграде. Окончил рабфак, почти написал дипломную работу в индустриальном институте, но в 1933 году его арестовали и выслали «за троцкизм» в Челябинск. В 1935 году его снова за тот же «троцкизм» ссылают в наши края.
Иоффе, почти дипломированный инженер, устроился конструктором на консервный комбинат. Поселился он в Самарово, на улице Республики, 19.
Общительный, откровенный, он не оглядываясь по сторонам говорил то, что думал. Касаясь растущей безработицы среди политссыльных и беспричинного увольнения Рогатинской, Иоффе, перефразируя знаменитое изречение Сталина, иронически заметил: «Раз жить стало лучше, раз жить стало веселее, поэтому увольняют и не дают возможности работать». А семнадцатый партсъезд он едко окрестил синагогой: «Это когда все кричат, а ничего не поймёшь».
Ещё до опубликования конституции некоторые ссыльные надеялись, что их освободят. Скептик Иоффе откровенно насмешничал над их слепой верой, говорил не таясь: «Сталин вернёт всех в политизолятор». Читая газеты, тоже делал свои выводы: «В нашей стране облить человека грязью, выслать его -пара пустяков». Он, как и тысячи других, свято верил в Ленина, считая: если бы тот был жив, того, что творилось в стране, не было бы. По этой же причине он выражал недоверие нынешнему партийному органу ЦК ВКП(б).
Среди ссыльных своей угрюмостью, неразговорчивостью выделялся металлист-станочник из Ленинграда Васильев. Член партии с 1916 года и дважды исключённый из неё, он был выслан сначала в Сургут, а потом переведён в Остяко-Вогульск. Жил он недалеко от Иоффе на той же улице Республики, а работал баянистом в клубе рыбников.
В ссылку Васильев приехал вместе с женой (ее потом обвинят в том, что она, встречая пароходы, передавала в центр контрреволюционную корреспонденцию, и требовали от мужа дать показания против жены). Подозрительный ко всем, Васильев выработал стратегию поведения в ссылке. Как-то высказался откровенно: «А кто его знает, кто он такой? Мало ли что он говорит и с какой целью. Потом могут пришить всё, что угодно». И, действительно, «пришили» Иоффе и Рогатинской создание контрреволюционной группы.
А помогли в этом никто иные, как сами политссыльные, которых окружной отдел НКВД — кого по убеждению, а кого и путем шантажа — склонил к сотрудничеству. Агентами НКВД были Панов, Лившиц, Жуков, Мельников. Как раз трое из них и были .в тот злополучный день, 24 августа 1936 года, рядом с Рогатинской и Иоффе. Вместе пили водку, а потом вместе слушали по радио приговор Каменеву и Зиновьеву.
Только Панов не мог быть на том обеде, потому как незадолго устроился (или перевели?) на Белогорский лесокомбинат. По-своему интересна судьба этого человека. Искренне преданный делу партии, он состоял в её рядах с 1919 года и до момента ареста в Ленинграде. Здесь он был председателем бюро Союза боевого землячества. В Союз входили те, кто создавал в Петрограде губком комсомола, воевал на фронтах гражданской войны.
Свой арест в начале 1935 года он воспринимал как чудовищное недоразумение, страшную ошибку органов. Он, входивший в партийную элиту тех лет, был хорошо знаком с секретарём ЦК ВЛКСМ Косаревым. К 15-летнему юбилею Ленинградского комсомола не без ведома Панова, а при его активном содействии, был составлен список старых комсомольцев и направлен через облисполком в комиссию по награждению при ВЦИК. Наградой должно было стать личное оружие. Но что-то тогда не сработало. Вторично вопрос о награждении был поднят в августе 1934 года на заседании бюро боевого землячества, председателем которого и был Панов. Предлагалось к 15-й годовщине обороны Ленинграда комсомольцев, участников гражданской войны, наградить оружием.
Бюро поручило Панову согласовать этот вопрос с секретарём ЦК ВЛКСМ Косаревым. Тот не возражал, но предложил согласовать также вопрос с командующим Ленинградским военным округом Беловым. Но что-то помешало, и в этот раз оружие никто не получил. Тем не менее история с оружием, случившаяся накануне убийства Кирова, заставила органы НКВД обратить внимание на Панова.
В его политическом падении сыграло роль и другое обстоятельство: знакомство с видными троцкистами Ленинграда Хаником, Толмазовым и другими, проходившими по делу об убийстве Кирова. Так видный комсомолец и большевик был сослан в ссылку в Остяко-Вогульск на целых пять лет.
В отличие от Иоффе и Рогатинской, у него не было критического взгляда на окружавшую действительность. По всей видимости, их антисталинские высказывания вызывали в нём протест. Не из идейных ли соображений согласился Панов на сотрудничество с органами НКВД? Его показания против Рогатинской, Иоффе, других политссыльных были наиболее точными и полными, как раз то, что и нужно НКВД. И хотя он, как уже говорилось, не был на обеде у Рогатинской, тем не менее хорошо запомнил предыдущие высказывания оппозиционеров.
Хорошая подобралась компания 24 августа: двое беспечных «контрреволюционеров» и трое тайных агентов НКВД. Даже незначительные события из жизни политссыльных благодаря агентам получали на следствии нужную политическую окраску. Например, обмен мнениями о только что вышедшей книге «Как закалялась сталь» был изложен Мельниковым так: дескать, Рогатинс-кая заявила, что книга ничего хорошего из себя не представляет.
Как видим, даже иметь собственное мнение о книге, которую одобрил Сталин, было небезопасно.
Лившиц постарался передать даже тон разговора Иоффе: «Со злой усмешкой он говорил о любви к Сталину трудящихся». Не изменил Иоффе иронии в разговоре о содержании газет: «Ну как же, без его портрета ни одна газета не была бы выпущена в свет».
По словам Жукова, имевшие место «гулянья» ссыльных на берегу Иртыша «с граммофоном и водкой» нужны были Рогатинской и Иоффе для того, чтобы «прощупать» каждого ссыльного, установить политические настроения для ведения контрреволюционной пропаганды».
Но если кто-то думает, что режим ценил свои кадры, то он глубоко ошибается: все агенты были арестованы и приговорены к различным срокам заключения. Андрей Мельников и Александр Панов получили по пять лет заключения в концлагере. Зенон Жуков — десять лет тюрьмы плюс пять поражения в правах. Борис Лившиц тоже был приговорён к десяти годам тюремного заключения…
Из всех он единственный дожил до XX съезда партии. Освободившись из лагеря в Архангельской области 17 декабря 1946 года, он как «социально опасный элемент» был снова выслан на пять лет. Последний раз его осудили в 1950 году после 15 лет отбытия наказания. Постановлением особого совещания он был выслан в Северо-Казахстанскую область.
Здесь в сентябре 1956 года его и допросил следователь КГБ. Это была пора пересмотра многих политических дел, в поле зрения органов попало и дело № 8100, состряпанное в Остяко-Вогульске. Лившиц признался, что его принудили к сотрудничеству с НКВД посредством шантажа, используя тяжёлое семейное положение: вслед за Лившицем из Ленинграда в Остяко-Вогульск приехали также жена и двое малолетних детей.
В 1956 году Лившиц отверг наличие среди ссыльных Остяко-Вогульска контрреволюционных настроений. В этом же году был допрошен и сотрудник окружного отдела НКВД Е. Шешуков, который заявил, что «при аресте материалов о существовании контрреволюционной группы не было».
Всего же из 16 человек, арестованных в августе 1936 года, к расстрелу были приговорены двое, остальные получили от пяти до десяти лет концлагеря и тюрьмы. Но даже отсидев положенное, они не были выпущены на свободу: им «наматывали» всё новые и новые сроки. Выдержать такое было невозможно, и, повторяю, к 1956 году в живых остался один Борис Лившиц.
Трудно понять логику членов выездной коллегии Верховного Суда СССР, заседавших в Тюмени: нераскаявшуюся Рогатинскую с её взглядами оставили жить, хотя и в тюрьме. Дмитриева же, умеренного во взглядах и поступках, расстреляли в один день с Иоффе. В чем причина? На мой взгляд, их много.
Петр Андреевич Дмитриев с 1910 по 1917 год состоял в социал-демократическом интернационале — это его первый грех. Второй — его национальность. Он был финн. Всплыло, что он посещал финское консульство. Два раза с 1918 по 1929 год. В этом же году он перешёл в подданство СССР. Но на следствии ему припомнят его походы в консульство: «Вы хотели перейти границу с Финляндией и, обосновавшись там, выпустить мемуары с клеветой на СССР».
Третий его грех. Член ВКП(б) с 1919 по 1935 год, он был исключён из партии за хранение запрещённой литературы и за то, что был связан с активным зиновьевцем Поташниковым, высланным в концлагерь по делу об убийстве Кирова.
Четвёртый грех. Дружба с Тарасовым, который в эти же дни проходил по аналогичному делу о создании в Сургуте контрреволюционной организации. Так как многие из остяко-вогульских ссыльных были направлены в Сургут и жили там какое-то время, то можно было заподозрить «организационно-политическую связь» между двумя группами политссыльных.
Тарасов проходил по сургутскому делу как организатор нелегальных сборищ, сгруппировавший вокруг себя троцкистов-зиновьевцев. Дмитриеву довелось не только сидеть с Тарасовым в одной камере ещё в Ленинграде, но и ехать в одном вагоне в ссылку. До Сургута добирались на лошадях, и опять Тарасов попал с Дмитриевым в одну партию. Перед отъездом Дмитриева в Остяко-Вогульск им довелось выпивать в одной компании. Всё это вместе взятое, как посчитали органы, тянет на высшую меру. Их и расстреляли в один день: Иоффе, Тарасова, Дмитриева. И неизвестно, кому больше повезло: тем, кто принял мгновенную смерть, или тем, кто умножил свои мучения годами заключения в тюрьмах и концлагерях.
Однажды приклеенное клеймо «троцкиста», «зиновьевца» преследовало человека всю жизнь, и редко когда эта жизнь не обрывалась трагически.