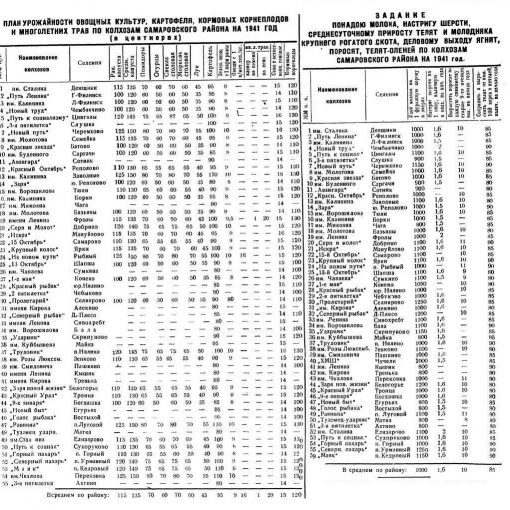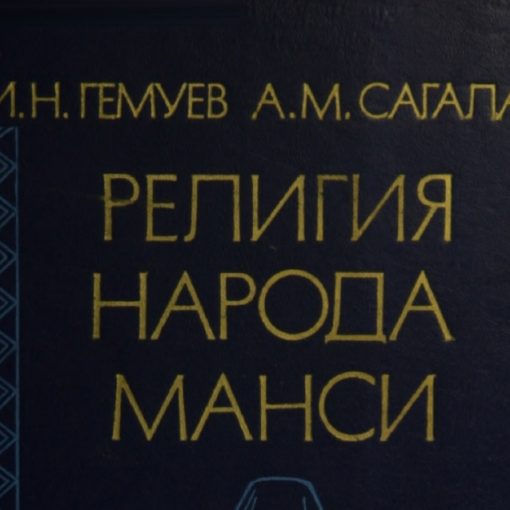Сергей Козлов
Леликом его нежно называла жена. Мать же назвала его Алексеем. По отцу он был Иванович, а по фамилии Меркушев. Кладбищенскими псами их называли горожане…
По огромному городскому кладбищу Лелик неразлучно ходил с лопатой и, когда не было работы, метал ее, как дротик, в специально выбранный для подобных упражнений ствол дерева. Лопату он уважал и ухаживал за ней, как воин ухаживает за своим оружием. Остра она была, как бритва, а черенок ровный, словно литой.
Кроме метания лопаты в свободное время Лелик бродил между могил, читая надписи, раздумывая о земной жизни и о жизни загробной, останавливался у какого-нибудь надгробия, показавшегося ему интересным, пытался представить себе жизнь кого-либо из усопших и не переставал удивляться: в десяти километрах от этой вязкой тишины, сквозь которую даже ветер крадется, шумит живой город, а здесь? Здесь – город мертвых. Уже, наверное, превосходящий по своей численности город живых. Есть здесь свой исторический центр, есть новостройки, наступающие на пригородный бор…
Ох, уж это наступление! Пять лет назад Лелик и представить себе не мог, что корни деревьев такие длинные и такие сильные. И рука не поднимается их пилить, если того требует работа. Этим обычно занимается Микрун. Он после стакана водки все может, а за стакан – с любым покойником в уста лобзаться готов. Работник из него никакой – кряхтеть только, но держат его в бригаде именно для черной работы. Хоть и не часто эксгумации, но туда, даже не спрашивая никого, Микрун идет. Мужики отроют, а Микрун после стакана гроб, если от него что осталось, вспарывает…
Семь лет назад Алексея Меркушева, как и многих его соотечественников, сократили из Института проблем освоения Севера, но так как с Севера податься ему и его семье было некуда, он стал изучать эти проблемы на бытовом уровне. С год мыкался, работу искал, перебивался случайными заработками, челночил. Еще год батрачил у друга в коммерческом ларьке, но не по нутру ему это было. Обозленная безысходностью душа запросила вдруг покоя и безлюдья. Надоела ей тупая бессмысленная суета, да совсем-то от нее не уйдешь. А тут встретил одноклассника своего — Бахрушина, тот и позвал с собой – на кладбище. Как раз друг и собутыльник Микруна умер, замена требовалась. Взяли с испытательным сроком на три месяца… Платили прилично да еще и от каждых похорон родственники усопшего доплачивали. Гроб им переставь, на полати опусти, заколоти… Это уже в обязанности кладбищенских псов не входит. За это отдельные деньги и отдельные бутылки.
Ох, и наломался в эти первые три месяца Лелик, уставал до смертного пота. Именно смертного, потому как весь воздух на кладбище пропитан сладковатым запахом смерти. Не всякий его долго выносить сможет. Тошновато. Лелик смог. Но запах его собственного пота тоже теперь был смертным. Смирилась с ним и жена. Главное – семья в достатке.
Бригадир Иван Степанович Колесов — обстоятельный мужик лет пятидесяти — Лелика уважал особенно. Все никак не мог понять, как удается Меркушеву совмещать высшее образование с гробокопательством и быть при этом один из самых выносливых и безотказных работников.
— Я в армии служил, — как бы оправдывался первое время Лелик, но остальных это мало волновало. Раз лопатой не хуже других ворочаешь, оградку починить можешь, водки стакан хлобыстнуть, на морозе кайлом махать – значит свой. И не важно, в каком балете ты до этого выступал. И не косился на него никто, когда в свободные минуты он вместо картежной игры или винопития бродил по кладбищу, или забирался на гору автопокрышек, что скрупулезно собирали со всего города «для отопительного сезона». Спрашивали иногда, чем он там на этой резине занимается.
— В небо смотрю, — не скрывал Лелик.
— Это правильно, — признавал бригадир, — мы ж больше носом в землю, а в небо взглянуть – не по уму нам. В небо поэты и художники смотрят!
— Зато вся сила от земли! – возмущался Микрун.
— Это так, — соглашались все, в том числе и Лелик. Каждый из них себе столько силы из этой земли накопал, что на спор с незнающими мог порвать колоду карт.
Володя Бахрушев, который попал на кладбище сразу после школы «по семейному подряду», сменив ушедшего на пенсию отца, сюда же вернулся после армии. Тогда над ним посмеивались, а он не обижался. Кто-то и могилы копать должен. И, в свою очередь, не над кем не посмеивался, когда перестроечными ветрами посдувало однокашников с научных кафедр, от кульманов, из общественных приемных. Для некоторых из них он собственноручно рыл «два на полтора».
Особой дружбы с Лешей Меркушевым у него не было, но когда встретил его в городе, ошивающегося возле биржи труда, не преминул представить его бригадиру, а недоверие последнего на счет интеллигентства развеял своим поручительством. И за это предстательство Лелик был благодарен Володе уже пять лет, но дружбы у них так и не получилось. Каждый из них был по-своему нелюдим. Лелик от одолевающих его размышлений о мироустройстве, Володя от ранней житейской мудрости.
И только они двое бесплатно помогали строить возле кладбища часовенку. Остальные – за деньги. Почему отказались от денег – ни тот, ни другой объяснить не могли. В церковь они не ходили, платой от родственников усопших не гнушались, а вот за часовню денег не брали. В бригаде на них за это не роптали: не хотят – и не надо. Священник, который руководил работами и привозил сюда на автобусе богобоязненных мирян на субботники, часто любовался, как они в паре делают кладку или готовят раствор. И все молча.
Однажды не выдержал, подошел к ним и сказал зачем-то:
— Хорошие вы ребята, вот только богоискательства в вас нет…
Они промолчали. Но Лелик потом еще долго размышлял, лежа на автомобильных покрышках, над словами отца Сергия.
Действительно, нет-нет да выплывало с самого дна души безразмерное чувство пустоты. Вроде и есть все, что необходимо, дома все здоровы, дочки в школе учатся, хорошо учатся, жена не ропщет, деньги есть не только на одежду и еду, но и на любимые книги, в прошлом году даже в Сочи их возил… Есть все и нет ничего… Чего-то самого главного нет. И пустоту эту стаканом, да и бочкой водки не зальешь. Но и думать о ней некогда. Вон внизу жизнь летит – от лопаты к лопате, от могилы к могиле и кончится когда-то могилой собственной. А там что – тоже пустота? Тьма? И даже противного вороньего голоса над головой не услышишь?
Окликнет бригадир, и все эти мысли останутся лежать на покрышках, может, ветер унесет их в подпираемое соснами небо, а Лелик спрыгнет обратно на грешную землю, включится в нем некий особый механизм, превращающий человека в бездумный экскаватор, и время будет измеряться кубами сыроватой кладбищенской земли и глины. Вечером же от усталости, кроме телевизора, журнала или книги ничего видеть не хочется. В дневники дочек заглянет только для проформы и все время боится, что когда-нибудь им придется писать сочинение на тему: «кем работает мой папа» или «папина профессия».
Так бы и тянулась эта жизнь, вперемешку с могильной землей, тихим воркованьем жены по вечерам, щебетаньем дочурок… И ничего более радостного ждать даже и не хотелось. Где уж там. Над всей страной непроницаемая пелена жуткой тьмы, безысходности, безбудощности. Год от года она становится плотнее и ядовитее, отчего хочется забиться в свой мирок, сделать его бомбоубежищем и ничего уже не знать о нашествии темноты: о непонятно зачем нужных займах у всяких там фондов, о наглеющей развращенной Америке, о СПИДе, об убийствах на каждом шагу… И уж кому-кому, а Лелику о наступлении этой темноты известно больше, чем кому-либо. Он измеряет ее ямами. И не закрыться от нее ни за какими стенами, она всепроникающа, она сочится сквозь стены и окна, она сквознячком струится под двери, она давно уже сидит внутри каждого человека.
Хоронили двадцатилетнюю девушку, убитую в подъезде собственного дома. Историю ее кладбищенские псы узнали из тихих разговоров провожающих и надрывного плача родственников. Стояли чуть в стороне, ждали, когда закончится прощание, все равно им гроб опускать. Каждый из них оградил себя изнутри невидимой стеной напускного безразличия. Иначе нельзя – душа не выдюжит, переполнится чужим горем, и не сможешь больше здесь работать.
И день-то такой весенне-пронзительный. Небо чистое до бездонности, нежный теплый ветерок разносит запах первой травы. Жить да жить. Лелик стоял чуть в стороне от остальных, стараясь не смотреть в мраморное, даже после смерти красивое лицо покойницы. Зато ловил недружелюбные взгляды родственников и близких, словно кладбищенская бригада виновата в смерти этой девочки. Чтоб выглядеть независимее и спокойнее, сорвал на обочине дороги травинку – сунул в рот. А потом и вовсе отвернулся, словно еще чего не видел в этом городе надгробий. Но нет-нет да оборачивался, чтобы не пришлось его звать, просить о помощи, от этого люди еще больше их ненавидят, считают, что они на чужом горе наживаются. Понаживались бы сами…
Мать все никак не отходила от гроба, все звала свою Юленьку, а остальные уже нетерпеливо переминались с ноги на ногу: быстрей бы и это горе в землю. Микрун подсуетился, и более дальние родственники под его наигранные причитания оттащили мать под руки. Кладбищенские псы вышли на исходную.
Далее все как по нотам. Удары топора, вгоняющего в крышку гроба гвозди, спугнут ворон с ближайших деревьев, скользнут с натруженных плеч длинные полотенца, выбьет на крышке первую дробь первая горсть земли, и снова наступает время лопаты. Обратно земля идет намного легче. Установили памятник-времянку, отошли в сторону.
— Слышь, пес, вы могилки-то когда снова откапываете?
К Лелику никто и никогда так не обращался и он даже не отреагировал. Но обращались все-таки к нему:
— Я же тебе говорю, синявка! Небось, золотом покойницким не брезгуете?
Наконец Меркушев рассмотрел справа от себя бритоголового парня: нос картошкой, широкие скулы, красные рыбьи глаза, в которых перемешались пренебрежение, ненависть и мнимое горе. Мнимое – потому что чувствовать он умеет еще хуже, чем кладбищенские псы, раз положено горевать – вот и горюет. Живет по придуманным самим собой и такими, как он сам, правилам.
— Чего? – на всякий случай переспросил Лелик.
— Если в Юлькину могилу полезете, сами для себя рыть будете, — прошипел бритоголовый.
И впервые в жизни Лелик сначала сделал, а потом уже подумал. Включился в нем что ли экскаватор? Но только со всей силы, что могла протечь вдоль его правой руки в одно мгновенье, да еще с разворота, саданул он по квадратной челюсти бритоголового, и тот, словно набитая опилками кукла, полетел головой вперед, а приземлился в свежевырытую рядом могилу. «Символично», — подумал Лелик, а уж потом услышал:
— Да что же это такое!?
— Игорек! За что он тебя!?
— Вот псы паскудные! Мало им того, что на чужом горе наживаются!
— И откуда такие ироды берутся!
— Правильно… Нормальные-то люди сюда работать не пойдут… Надо на них в суд подать!
— Лучше по мордам!
Кто шептал, кто кричал, женские голоса перемешались с мужскими. Только сейчас Лелик заметил, что бригада, собрав инструмент, удаляется в сторону балка, где размещался их штаб. Никто из ребят даже не возразил.
Игорек тщетно пытался вылезти из ямы, матерясь на чем свет стоит, обещая разнести всю эту похоронную контору, а Лелика закопать прямо сейчас и здесь живьем. Лелик посмотрел на него с победным безразличием и, закинув лопату на плечо, двинулся следом за командой. Даже насвистывать зачем-то начал. А, может, не за командой, за сворой? Псы же все-таки? А эти пусть сами оградку вкапывают. Хоть руками.
В балке молча выпили по стакану. Иван Степанович, взглянув на Меркушева только вздохнул: чего уж теперь. Только Микрун вслух разрядил ситуацию:
— Ну вот, две поллитры мимо горла и четвертной мимо кармана…
— А я бы еще и сам заплатил, чтоб этому мордорылому по лбу дать, — рыкнул Бахрушин, — я слышал, что он там Лехе шептал.
Дома Меркушев жене ничего не рассказал. Как обычно принял душ, поужинал, проверил уроки дочек и устроился у телевизора. Он не сказал ничего, но Марина все же рассмотрела в нем что-то странное. Села рядом, но долго не знала как и о чем спросить. Наконец собралась:
— У тебя ничего не случилось? Трудные похороны?
— Трудные… Девчонку молодую хоронили… Как живая в гробу… Уж, кажется, сколько я таких перевидал… Вроде, и привык уже, а все равно… — и не договорил.
Жена понимающе вздохнула. Помолчала, обдумывая услышанное.
— Лелик, может, тебе оставить эту работу? – осторожно спросила, знала, что вопрос этот болезненный, боялась обидеть.
— Другой-то ведь нету, да и к нам – очередь. Скоро по конкурсу принимать будут.
И все… Поговорили. Дальше жизнь снова потекла, просеиваясь через комья коричневатой земли.
Но какое-то неприятное чувство, холодок в душе остались. Вспоминалось, правда, лицо Юленьки, но не в гробу, а живое, а вот квадратную морду Игорька Меркушев вспомнить не мог. Ничего, кроме ежика волос на макушке и массивных челюстей, произносящих угрозы. Глаз у него словно и не было.
Летом вдруг началась зима, в июне сначала выпал снег настоящий, а уже через десять дней полетел над городом тополиный пух. И если снегом пух не назовешь, но то, что из него получалось на городских улицах, очень походило на сугробы. Но сугробы эти из-за баловства мальчишек то тут, то там вспыхивали разбегающимися во все стороны огненными ручейками, доставляя нешуточные хлопоты пожарным.
А вот на кладбище, где гудел свою поминальную песню сосновый бор, было все также тихо и спокойно. Еще с Радоницы аллейки и все закуточки были прибраны, мусор вывезен или сожжен, а похоронных оркестров здесь никто уже и не помнил. Немногих еще хоронили по-христиански, но и от пресных гражданских панихид тоже отказались. Да и нечем было платить заунывно фальшивящим пьяным трубачам. Этой музыки Лелик с детства не выносил. Лучше железом по стеклу! Да и то сказать: жмуру все равно, а как только начинал звучать траурный марш, родственники переходили на истеричный рев, отчего смерть казалась самым страшным явлением в этой жизни, и хотелось читать фантастические рассказы, где ученые разработали и пустили в производство эликсир бессмертия. Или инопланетяне им поделились с земными братьями по разуму. Это уж потом Лелик понял, что смерть – это не самое страшное, что может случиться с человеком, но музыку похоронную ненавидел еще больше.
На сороковой день, как и положено, родственники и близкие Юленьки появились на кладбище. Кладбищенские псы, будто по команде, забились в свою конуру. Иван Степанович заметно нервничал, опасаясь, видимо, новых инцидентов. Даже глаза разъедало от его бессменной омской «примы». Но зря волновался.
В балок вошел неказистый мужичок, ломая в руках старорежимную шляпу. По виду – из бывших совслужащих. Некоторое время мялся на пороге. Его словно не замечали. Так в бригаде положено. От этого цена услуг возрастает.
— Мужики, вы извините, — несмело начал он, — мы тогда не правы были, погорячились… — И все поняли, что речь идет о той самой Юле. – Парень этот, он, вроде как, ее парень. Он и не в себе был, Игорь-то, да и живет он по правилам, по которым вся эта нынешняя братва живет. В общем, не серчайте…
И уж совсем смял свою шляпу. Исподлобья пытался заглянуть мужикам в глаза, увидеть их реакцию. Но реакции никакой не было, мужикам было все равно.
— Так я вот что, я по делу. Времянку заменить надо и оградку покрасить…
— С этого и надо начинать, — рассудительно вздохнул Иван Степанович, наконец, затушив свою сигарету.
— Нет! – вздыбился Микрун. – Начинать надо не с этого!..
— Понял! – оживился мужик и тут же юркнул обратно в дверь, но уже через пару секунд снова стоял на пороге с авоськой, в которой призывно позвякивало. – Меня Леонид Семенович зовут…
Стало ясно, что он пришел сюда заранее подготовленный к благоприятному повороту событий. Микрун просветлел:
— Вот это деловой подход, осталось договориться о бумажной сатисфакции, — откуда только слово такое выкопал.
— Как скажете, мужики, — заранее согласился на все условия Леонид Семенович.
— А скажем мы так… — Иван Степанович отвел заказчика в сторонку, словно стоимость услуг была для остальных тайной. Но сделал он это, исходя из тех же неписаных правил.
Памятник с помощью автокрана, нанятого Леонидом Семеновичем, установили быстро. Огромный гранитный монумент с изображением Юлечки, как небоскреб, поднялся среди скромных деревянных крестов. Не на ту улицу встал этот последний дом. Потом ушли в балок, ожидая, когда закончат поминать, уж потом решили красить оградку. И с непривычно массивной чугунной оградкой, больше похожей на забор какого-нибудь административного здания, провозились неожиданно долго, слишком много было на ней витого литья.
На закате сидели в балке, расписывая работу на завтра. Услышали, как скрипнули тормоза автомобиля, но не обратили внимания. Только Микрун и прислушался: вдруг еще что-нибудь обломится.
Обломилась тишина, и в железную дверь вагончика вместе со звуком близкого выстрела ударила картечь.
— Ой-йо… — прокомментировал Иван Степанович. – Никак рэкет пожаловал. Так они, вроде, все уже в городе решили. В конторе.
Действительно, вокруг прибыльной фирмы «Бюриус» (бюро ритуальных услуг) очень долго велась война за крышевание, но работяг она никак не касалась. Напротив, братва всех бригад относилась к ним с должным уважением, особенно к кладбищенским псам. Потому как каждый из них в любой момент мог стать продолжением так называемой «аллеи героев», где стояли вычурные памятники авторитетов, а на некоторых кроме имен были нанесены даже клички. И почти на каждом претендующая на звание крылатого выражения эпитафия. Единственное, что отказались делать кладбищенские псы для братвы всех калибров – хоронить «без вести пропавших». Да те и не настаивали. С разного рода общаков даже выделялись специальные суммы на то, чтобы на этой аллее всегда был образцовый порядок. И эта улица мертвого города была единственным местом, где они не стреляли друг в друга. Ни живые, ни, тем более, мертвые…
Дверь открыли пинком. На пороге стоял огромный детина в кожаном плаще с помповым ружьем наперевес. Словно только что сбежал из боевика. А вот за его широкой спиной маячил экземпляр поменьше, хотя и не менее свирепого вида, в котором мужики узнали побывавшего в могиле Игорька.
— Который, бля? – спросил «плащ», осматривая пустыми от ненависти глазами претендентов на заряд картечи.
— Да вон, в хэбэ, — показал Игорек, и в глазах его тоже полыхнули безумные искры.
Сразу стало ясно, что в крови у них гуляет изрядная доза какого-либо наркотического вещества, на свой страх и риск перемешанного с алкоголем.
Лелик не испугался. Просто не успел. Под ноги ему лег густой плевок картечи. Чудо, что рикошетом никого не задело.
— Пшёл! – этак даже не все помещики с крепостными общались.
Этим «пшел» «плащ» снял Лелика с предохранителя. Смерти он не боялся, но принимать ее из рук такого омерзительного существа!.. В этот раз его действия были осознанны и четко выверены, ибо малейшая ошибка в движениях могла стоить жизни не только ему, но и его товарищам, которые, надо отдать им должное, труса не праздновали, а смотрели на явление сумасшедших мстителей со спокойной ненавистью. Каждый из них уже прорабатывал собственный план избавления от этих уродов, даже, наверное, могилку наскоро в уме вырыл, но Лелик опередил всех.
Вместе с броском лопаты Меркушев упал на пол, и, как оказалось, не зря. Тело плаща уже без головы выстрелило и даже попятилось и только потом, когда ноги запутались, повалилось на бок. Ошарашенный Игорек только мгновение оценивал ситуацию, а потом бросился к стоявшей поодаль иномарке. Лелик за это мгновение прокрутил в голове дальнейшее развитие событий с продолжающейся вендеттой и прочими жуткими неприятностями, и решил, что ни он, ни его семья, ни вся их бригада не заслуживают этого. Через несколько секунд его лопата догнала беглеца.
Потом он вернулся к столу, на котором лежала пачка пресловутой «примы», и в первый раз в жизни закурил, присев на лавку. Первым опомнился Микрун и еще раз удивил окружающих своими неожиданными познаниями.
— Ты Леха это, ты – Майн Рид! – определил он.
— Ты не в спецназе служил? – спросил Иван Степанович.
— В стройбате…
Совещание по поводу отдания соответствующих почестей погибшим было кратким. Решили вырыть им братскую ямку недалеко от «аллеи героев». Перед этим внимательно осмотрелись – посторонних глаз не было. Машину Бахрушин взялся отогнать подальше и там сжечь. О милиции никто даже не вспомнил, потому что никто из них не хотел продолжения всей этой истории. Лучше уж быть соучастником превышения самообороны.
Микроавтобус, приезжавший ежедневно за ними из «Бюриуса» отправили, сославшись на срочную шабашку. Закончили со всем этим уже в полной темноте, но еще долго не хотели расходиться. Просто молча сидели в балке или произносили ничего не значащие в таких случаях фразы. Потом кто-то первый вспомнил, что дома, вроде как, тоже ждут. Выпили по стакану водки. Не от стресса, а чтобы оправдать свою задержку перед домашними. Даже профсоюзное собрание придумали, на котором Микруна в шутку выдвинули лидером. И разошлись.
Когда Лелик вернулся домой, Марина и дети уже спали. Он принял душ и, не поужинав, тоже лег. Утром его разбудила жена.
— Алеша, что с тобой? – в первый раз за долгие годы она назвала его по имени.
Лелик не открыл глаза и не ответил, потому что сам не знал, что с ним. Кошмары ночью не снились, спал, как убитый, нигде не болит…
— Лелик, ты слышишь меня?! Ты седой!
— Ладно хоть не рыжий, — попытался отшутиться он, но когда открыл глаза, понял что серьезного разговора с женой не избежать.
— Ты что, опять страшную смерть видел?
— Свою…
Пока Меркушев рассказывал, Марина плакала. Он прижал ее к себе и даже убаюкивать начал, а она то и дело навзрыд причитала:
— Ты все правильно сделал, Лелик… У тебя другого выхода не было…
— Да любой решит, что правильно, — согласился Лелик, — не я их, так они меня. Отпусти я второго, он бы не унялся. Так что все правильно, только вот все мы неправильные стали. И те, что приходили, и я…
На немой вопрос в заплаканных глазах жены он ответил, уже собираясь на работу:
— Богоискательства в нас нет… — и тут же подумал, имеет ли он право рассуждать об этом после всего, что с ним произошло. Замер и сам себя спросил вслух:
— Странно, совесть не мучает, и страха никакого нет. Это от беспредела нашего нынешнего. Я вот все думаю – ради чего мы живем? Особенно сейчас… Что с Россией-то сделалось?
Вздохнул горько.
— Может, в милицию пойти? Пусть судят?
— Пусть Он судит…
Горноправдинск, 1999