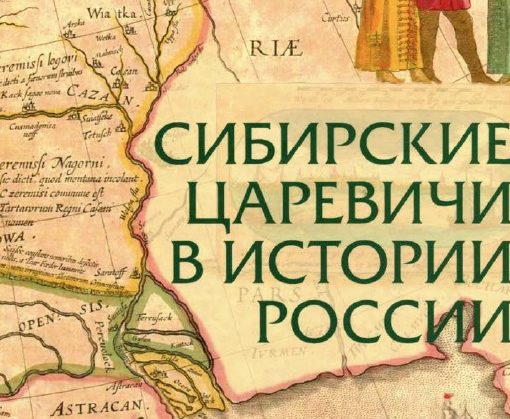Нина Лексина
Я легла спать с тяжелым сердцем, тяжелым, как камень: я сегодня согрешила…
В доме темно, хоть глаз выколи. Шуршат в подполье мыши. Стучатся в окна голые ветви березы, похожие на страшные щупальца. А в трубе истошно воет ветер. Мне страшно — зажмуриваю глаза; меня душат слезы – молча их глотаю; мне тяжело, но совесть еще больше обличает меня. Все спят – никому нет до меня дела…
В памяти всплывает мой недавний разговор с учительницей.
— Анна Петровна, а я в октябрята не пойду: мне мама не велит, — не смея глянуть учительнице в глаза, говорю я, густо краснея.
— Нина, что ты говоришь? Как это возможно – не стать октябренком? Октябрята — внуки Ильича, который дал нам всем счастье. И потом, ты учишься на одни «пятерки», — возмутилась она.
— А моя бабушка говорит, что Ленин антихрист, а мы всей семьей в Бога верим, — возражаю я к великому изумлению учительницы.
Она поспешно прижимает меня к груди, испуганно озираясь кругом:
— Не надо так говорить. Я этот вопрос улажу с твоей мамой. Скоро праздник – 48-я годовщина Великой Октябрьской революции! Ты ведь знаешь Правила октябрят. А потом, Шура без тебя собьется и не расскажет ничего. А маме ты можешь не говорить, что станешь октябренком. Ты просто звездочку октябрятскую в школе на груди носи, а домой пойдешь – спрячь в портфель…
У моей одноклассницы Шурочки на самом деле большие проблемы с памятью. Она очень долго не могла запомнить буквы, и Анна Петровна сажала нас за одну парту, чтобы я учила ее читать. Подумав, я кивнула головой в знак согласия и вскоре забыла о нашем разговоре.
А между тем приближался роковой День — 7 Ноября, а вместе с ним и осенние каникулы. Сегодня, за два дня до праздника, Анна Петровна повела меня и Шурочку в сельский клуб, где собрались все учителя и ученики нашей школы на торжественное собрание, посвященное приближающемуся празднику и окончанию первой учебной четверти.
В клубе, украшенном яркими осенними листьями и надувными разноцветными шариками, стоят рядами длинные деревянные скамьи. Дощатый облезлый пол чисто вымыт и выскоблен, «под косарь». Даже жаль топтать его резиновыми сапогами.
На стенах, под самым потолком, висят лозунги: «Ленин и теперь живее всех живых», «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». На сцене – кумачовое знамя и красный транспарант, на котором зубным порошком выведено: «Партия – наш рулевой».
От волнения у меня подкосились ноги, а ладошки вспотели. «Как же я выйду на сцену? Что скажу маме потом? Но как мне хочется стать октябренком! И как я могу подвести Анну Петровну и Шурочку?»- роились в моей голове мысли и тревожили меня.
«Будь что будет, а в рай закачу!» – окончательно принимаю я решение и сажусь на скамью в первом ряду.
На сцену к трибуне вышел директор нашей школы, Аркадий Андреевич. Он фронтовик в прошлом, был ранен в спину, поэтому всегда полусогнут в пояснице, идет, будто поклоны отвешивает. Он ведет уроки истории. Ученики его любят: интересно рассказывает, особенно про войну. Но двоечники и нарушители дисциплины придумывают ему обидные прозвища.
— Вон Курдюк вышел, — шипит за моей спиной и ржет Колька Бармалей, двоечник и хулиган с моей улицы. Я оглядываюсь, показываю ему кулак:
— Погоди, я вот сестре Любане скажу, так она тебя с подружками зимой за руки-ноги раскачает и в снег под мост бросит. Колька зло сощурил свои наглые глаза в длинных густых ресницах, но ничего не успел мне сказать, потому что очень строгая учительница, Анимаиса Максимовна, сделала ему замечание и погрозила пальцем.
Аркадий Андреевич уже начал свою речь с трибуны. Я прямо глазами впиваюсь в него. А на нем брюки-галифе и китель защитного цвета. На груди приколот красный бант, а на ногах – черные, начищенные до блеска, хромовые сапоги. Большие, чуть навыкате карие глаза смотрят строго, большая голова, лысый череп. «Как у Ленина», — подумалось мне.
Ох, до чего же он интересно рассказывает! Даже ни в какую бумагу не заглядывает, все помнит наизусть. И так складно у него получается, будто он тоже вместе с рабочими и крестьянами революцию делал.
Наконец, вступительная речь была завершена. Затрубил горн, забил барабан…
Какая-то неведомая сила метнула меня на сцену по мановению руки Анны Петровны. То ли от волнения, то ли с испугу я звонко кричу Правила октябрят, жутко картавя, (ну и что, Ленин тоже картавый был): «…перед лицом Партии, обещаю хорошо учиться, любить свою Родину, как завещал великий Ленин…»
К нам приближается пионервожатая и пионеры-отличники. Они поздравляют нас и прикалывают на грудь, слева, пятиконечную рубиновую звездочку, в центре которой улыбается мальчик Ленин, кудрявый и очень хорошенький. А еще мне подарили книжку со смешным названием «Снег отправляется в город», за отличную учебу в первой четверти, и вручили табель с бойкими задиристыми «пятерками» по всем предметам. Я бережно прижимаю к груди подаренную книгу. В нашей большой семье книг мало, но они на вес золота.
Праздничное настроение быстро улетучилось, как только я засобиралась домой. На душе скребли кошки: как же я теперь буду звездочку носить? И, спохватившись, бережно снимаю ее с груди и прячу в портфель.
— Ты что, отличница, еле ноги несешь, аль двойку схватила? – спрашивает меня почтальон тетя Тася.
Я рассеянно улыбаюсь, отрицательно качая головой, и несу тяжкое бремя греха домой. Меня терзала совесть, но расставаться со звездочкой мне тоже не хотелось. А слово «октябренок» было такое звонкое и веселое, как «олененок», «зайчонок», как само детство…. Свернув за чужую погребницу, я снова вытащила из сумки звездочку. Ленин-мальчик лукаво щурил на меня глаза: «Не дрейфь!» Я вздохнула и спрятала значок в заветное место.
— Ты что, аль заболела? – спросила меня мама, как только я переступила порог дома. Я подняла глаза на портрет отца, встретившись с ним взглядом, ища поддержки. Он был коммунистом, по рассказам мамы. Я хмуро посмотрела на нее. Отдала табель с пятерками и ушла молча в свой уголок. Мама внимательно наблюдала за мной, но ни о чем не спрашивала.
И вот сейчас мама спит рядом. Сегодня моя очередь спать с ней на ее широкой железной кровати с ажурными спинками и блестящими шариками по углам. Прижавшись к ее теплой руке, я заревела, уткнувшись в подушку.
— Ты что взревкнула, аль что не ладно? – сонно, испуганным голосом спрашивает мама меня, кладя руку на мой лоб. И от этой ее заботы и ласки я заплакала еще горше. Она обнимает меня, прижимая к себе, и я все, как на духу, рассказываю ей о своем прегрешении.
— А я уж вижу: ты сегодня сама не своя. Наломала дров, отличница. Постарайся теперь хоть заснуть: повинную голову меч не сечет.
Наутро я проснулась оттого, что солнечный зайчик щекотал мне ресницы:
— Вставай, а то проспишь…
— Да у меня же каникулы! И я теперь октябренок. А главное – маме во всем призналась, — вспомнила я ночной разговор.
В избу, громыхнув ведром с родниковой водой, входит мама, а вместе с ней врывается в дверь неповторимый осенний аромат, бодрящий душу и тело.
— Ну что, октябренок, пошли к дедушке и бабушке – ответ держать будешь.
— Семь бед – один ответ, — вспоминаю я полюбившуюся пословицу и поспешно встаю.
Бабушка сидит за столом, трет картошку на терку – готовит крахмал для киселя на поминальный обед по моему погибшему отцу. Дед у окна подшивает дратвой валенки.
У мамы грустный взгляд и опухшие от слез веки. Она плачет тайно от нас, но я все равно догадываюсь.
Пять лет назад, в канун 7 Ноября, погиб мой отец. Теперь это самый грустный праздник в нашей семье. Завтра придут старушки, будут долго петь молитвы, вздыхать и креститься, кто-нибудь назовет нас «сиротинушками». Запахнет талым воском от множества зажженных свечей…
Верующие люди теперь могут сообща молиться только на поминках. В годы колхозного переустройства храм в нашем селе был разрушен активистами, а теперь в нем находится амбар для хранения зерна. После глумления над храмом старики, в ком Божья искра не угасла, собирались по праздникам возле Черного креста у святого колодца, но председатель колхоза, коммунист, собственноручно вырвал из земли крест и, прицепив к трактору, волочил его по всему селу. А вскоре занемог он и умер на операционном столе под наркозом. С тех пор партийные руководители народ верующий не трогали, а так – пугнут на словах иногда, для порядку.
Отец мой был «пришлым» в нашем селе; коммунист, он уважал стариков и не глумился над их верой, поэтому на поминках будет много народу. Утоленная слезами печаль опять спрячется в сундук с отцовыми вещами, а он будет грустно смотреть на всех с портрета…
Серым воробушком вспорхнула я на теплую печь-лежанку, прилегла рядом с мурчащим котом Васькой. Тот недовольно осветил меня зелеными глазищами-фарами: не мешай спать.
— Отличница-то наша что удумала: октябренком вчерась стала, — слышу я мамины слова, обращенные к бабушке, и сердце мое заколотилось.
— Наш пострел везде поспел: старшие сестры и брат никуда не вступают, а она, значит, удумала, — строго говорит бабушка.
— Тревожит она меня. Хоть к учебе способная и по дому помогает, но уж если что удумает, с пути не своротишь – вся в отца. Тот идейный был, не тем будь буженный. Тоже ведь поперек матери пошел – коммунистом стал, — сокрушается мама.
— И я давно приметила: сердце у нее уж больно мягкое до чужой боли, жалостливое, а голова горячая. Бедовая какая-то. Тяжело ей жить будет, — соглашается бабушка и, обращаясь ко мне, спросила:
— Так уж и нельзя отказаться было? Дедушку вон тоже в партию гайбали, а он отборонился. «Я, — говорит, — «беспартейный большевик». И не пошел в партию-то. Что ты скажешь, дед?- обратилась она к нему.
Дедушка, молчаливо работающий у окна, сказал:
— Плетью обуха не перешибешь. Времена такие настали – с пеленок идеи в голову вбивают. И оборотившись ко мне, спросил:
— Клятву-то Ленину, какую давала?
— Я, дедушка, обещала учиться хорошо и любить Родину, а еще перед лицом Партии…, — не успеваю ответить я, потому что он не дал мне договорить:
— Учиться – учись. Это все правильно. Родину и я защищал на фронте. Тоже верно. А насчет Партии сама разберешься, когда подрастешь. Но над верующими не глумись и не смейся над Богом. Это свято… А то, что правду матери сказала, — похвально. Не привыкай жить во лжи.
Дедушка в нашей семье – авторитет. Он пришел с фронта без ноги. У него орден и медали. И у меня окончательно отлегло от сердца.
Я слушаю женскую воркотню у печки и незаметно засыпаю.
И приснился мне чудной сон. Будто в большом городе очутилась я. И людской поток вынес меня на широкую улицу или площадь. Стоит там броневик, а на броневике – Ленин. И, как в кино, он поднял руку и так приветливо улыбается…
— Дедушка Ленин, я здесь, я здесь! — кричу я и проталкиваюсь сквозь толпу ближе к нему. Но броневик вдруг взревел и прочь умчал вождя.
— Я октябренком стала, не уезжай! – кричу я в слезах.
Вдруг чувствую: чья-то рука легла на мое плечо, и я услышала голос:
— Иди, дочка, домой, он не вернется….
Обернувшись, вижу мужчину со знакомым, родным лицом и узнаю в нем отца:
— Папка, папка, и ты здесь! А я в октябрята вступила! — радостно говорю и оглядываюсь на площадь. А когда повернула голову назад – его уже не было.
— Где же ты? – кричу я и просыпаюсь в слезах…
Меня держит обеими руками мама и испуганно говорит:
— Ты ведь чуть с печки не свалилась!
— Мама, я видела их, отца и Ленина. Разговаривала с ними.
Дед удивленно смотрит на меня поверх очков. Мама и бабушка тревожно переглянулись. И мне как-то стало не по себе. Уткнувшись лицом в мамину грудь, я дала волю слезам.
— Не плачь, не плачь, покойников с погоста не носят. Да ты ведь и не помнишь его, — утешает меня мама.
Я сижу у нее на коленях и размышляю: отец мой коммунистом был, дедушка – «беспартейный большевик», мама и бабушка – христианки, а я октябренок. Пойди — разберись…
Знать бы тогда, во что мне обойдется раскол моей маленькой души…