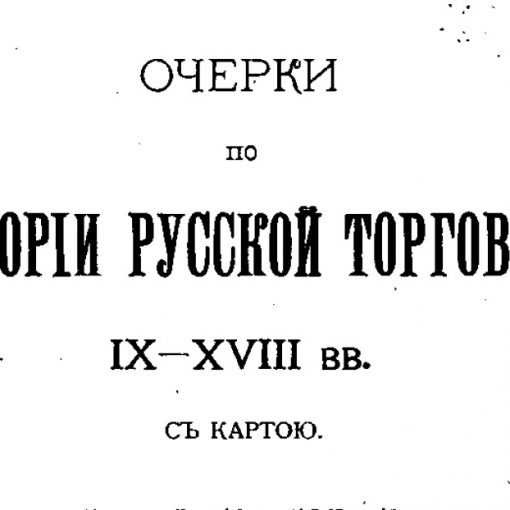Владимир Загваздин, фото Александра Кулешевича
В минуты, когда пишутся эти строки, гремят в кедровниках выстрелы. Горстями летит смертоносный свинец, падают в лесную чащу доверчивые пестрые ронжи. И ни один стрелок не подойдет к «добыче», чтобы глянуть в ее тускнеющие глаза, чтоб укор кольнул…
Грохочут выстрелы, и не поспеешь остановить руку, лес-то большой. Сиротеет лес без хозяйки. Быть может, и посадили-то его в давние времена сами кедровки. Оно ведь как: любит птица кедровыми орешками лакомиться. Набьет желудок, а самые зрелые да ядреные орехи в зоб положит и запрячет.
Много у ронжи кладовых. Под корнями деревьев, под валежинами, порой там, где и леса вовсе нет. Запрячет и забудет. Орехи полежат-полежат, а подоспеет пора – прорастут. Так вот и появляются вдали от родных лесов одинокие кедры, целые рощи – живые памятники неутомимым труженицам – ронжам.
Случилась как-то у нас авария с судовым дизелем. Плывем на самоходке по течению. Надо бы причалить, но Конда уж больно хорошо несла нас, и берега не радовали. Болотистые, неприметные. Капитан Толя, как сыч, сидит на кедровой рубке, местность обшаривает.
– Ого-го! Полный ход к берегу!
Шестами подогнали судно, якорь бросили. На взлобке среди юных березок стоял одиноко громадный кедр. Рядом белела палатка. Встретил нас шустрый старичок, Федотычем назвался. И мы представились, ситуацию обрисовали.
– Я тут каждое лето живу, сенцо кошу, рыбу ловлю на уху. Дышать здесь легко.
– Не скучно одному-то?
– Да я же не один, тут хозяйка есть.
– А где она?
– Погодь, придет вечер – увидишь.
Я подружился с дедом, все ночи проводил в его палатке, бывальщины слушал (много их знал старик, одна другой занятнее) и засыпал незаметно под неторопливый дедов говорок.
В первый вечер на закате солнца с вершины кедра послышался крик ронжи.
– Вот и хозяйка явилась, – обрадовался Федотыч. – Второе уж лето здесь живет.
– Может, это другая?
– Нет, свою соседку я в «лицо» знаю.
Оспаривать деда не стал. Кедровка повозилась чуток, нырнула в густые ветви дерева и затихла – спать устроилась.
– Вот так всегда. Утром улетит в кедровый бор.
Утром раным-рано кедровка разбудила нас криком. Она выискивала что-то в золе потухшего костра, потом присела на край сколоченного из досок столика, деловито осмотрела горку посуды, оставила на скамейке белое пятно – штамп ревизора – удовлетворенно крикнула и улетела в чернеющий километрах в двух за лугом кедровый бор. На весь день.
В полусне я слышал, как Федотыч вжикал оселком по лезвию косы, потом ушел за рощицу: по утренней свежести росная трава под косой податлива. К обеду старик делал передышку: уплывал в долбленке на озеро, привозил медно-желтых толстобрюхих карасей, и вскоре в котле беспокоилась уха. Вечером точно, хоть часы проверяй, кедровка прилетала к одинокому кедру.
Так и шло своим чередом целую неделю. Птица привыкла к нам, мы – к ней. Днем все скучали по пернатой хозяйке, особенно Федотыч. Все ходил да поглядывал на вершину кедра.
…В следующую навигацию мне снова довелось побывать на знакомом месте. Кедр, как прежде, ловил могучими ветвями упругие ветры, а палатки Федотыча не было, заросло травой кострище. Распалась таинственная взаимосвязь черного бора, одинокого кедра, птицы и человека. Еще прошлым летом положил ей конец свинцовый плевок…
Не пела в то утро коса в росистой траве. Сник, почернел лицом Федотыч, когда пил чай, кружка вздрагивала в его руке. К вечеру засобирался домой.
– Поясница побаливает, должно, к непогоде. В баньке надо попариться, – сел в лодку молча, на прощанье махнул рукой и уплыл.
Вечером мы закончили ремонт и подняли якорь. Рекa извивалась в низких берегах, и гигант-кедр еще долго маячил вдали.
Появится ли вновь у тебя хозяйка, старый отшельник, или вот так до скончания века лишь залетный гуляка-ветер, задираясь, будет тревожить твои невеселые думы?..
«Тюменский комсомолец», 3 сентября 1975 г.