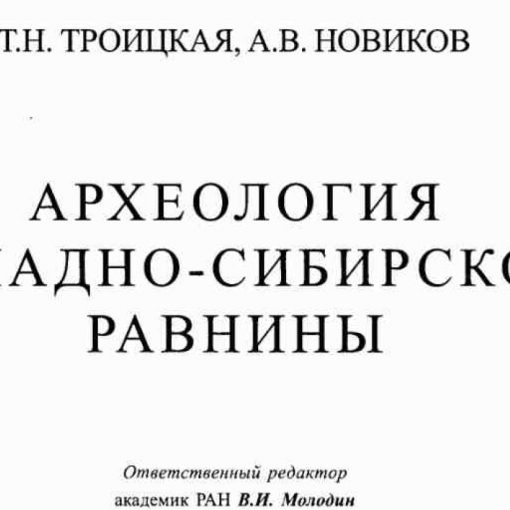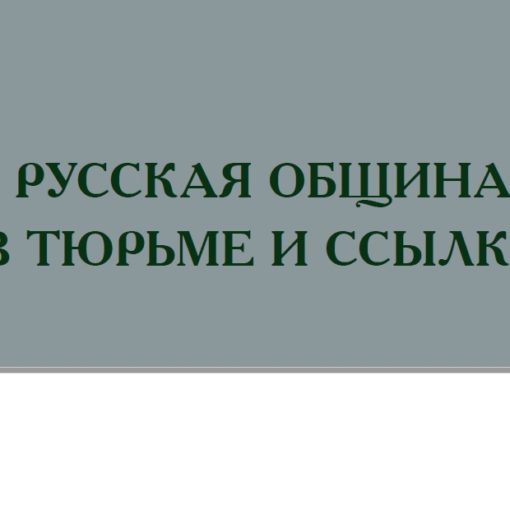Николай Коняев
Жил на нашей тихой улице Мишуня Бикбаев. Мой одногодок. Его старший брат, Родион Ильич Коньков, и поныне живёт на том же месте в новом коттедже — теперь уже, наверное, пенсионер. В отличие от брата фамилию Мишуня носил материну, потому что, кто был его кровным отцом, твёрдо не знала, похоже, и сама родительница. А её звали Шамсия – она была башкирочка. Невысокого роста, черноглазая, смуглолицая, весёлая женщина. Работала поваром в рабочей столовой. Она как-то вдруг выскочила замуж за одного заезжего красавца кавказской внешности, соседки поговаривали: «за карачая», и этот «карачай» по имени Джамал увёз её вместе с малолетним Мишуней к себе на родину. Родиона они оставили на временное попечение старикам Коньковым. Свой северный домик, построенный первым русским мужем Ильёй, утонувшем в начале пятидесятых на сплаве, Шамсия продала, чтобы на вырученные деньги купить хороший дом на родине Джамала в Карачаевске – городке на живописном месте слияния Теберды и Кубани. Дом купили, Шамсия родила своему карачаевцу наследника – Кемала. А потом что-то сломалось в их жизни. Кто из них был прав, кто виноват, не мне судить, но кончилось всё тем, что темпераментный «карачай» однажды избил свою северную избранницу и буквально вытолкал её за порог вместе с Мишуней. Шамсия и рада бы вернуться на Север, да путь отрезан – домик-то продан. На первое время изгнанников приютила сердобольная соседка из русской семьи. Шамсия устроилась официанткой в недорогое кафе, Мишуня ходил в школу…
В школу-то ходил, но затаил обиду и, оказалось, долго вынашивал план мести. И как-то тёмной ночью поджёг дом Джамала. Не скрывался и не запирался, на первом же допросе признался во всём. Пожар вовремя потушили, никто не пострадал, но Мишуня получил солидный даже для малолетка первый срок… Русская соседка после Мишуниной выходки испугалась мести родственников Джамала, и отказала Шамсии в приюте. Шамсия, помыкавшись какое-то время на чужбине, окончательно сломалась и выдохлась: через два года её окоченевший труп обнаружили на железнодорожном вокзале в Ставрополе. Беспаспортную «синюшку» наспех закопали в углу кладбища, воткнули в холмик деревянный крест под номером, и даже Родион до Мишуниного возвращения из мест заключения ничего о матери не знал…
Вторую лагерную «путёвку» Мишуня получил в том же злополучном Карачаевске, не успев как следует отдышаться после первой отсидки. Освободившись, прибыл для розыска пропавшей без вести матери. На местном рынке, успев пропустить стаканчик дешёвого сухого вина, лицом к лицу столкнулся с братом отчима. Тот вознамерился, было, не сходя с места, отомстить за поджёг, но приземистый Мишуня сумел упредить удар карачаевского ножа… Усмотренное судьями «превышение пределов необходимой обороны» отправило его проторённой дорожкой по обратному адресу…
После второй «ходки» он предусмотрительно (от «греха подальше» ) вернулся в родной город. К тридцати годам у Мишуни за плечами имелось восемь классов общеобразовательной школы и двенадцать лет лагерной «академии». Остановился не у старшего брата — Родион к тому времени имел уже двоих детей и занимал ответственную должность в исполкоме, — а у престарелой хантыйки тёти Маши, два женатых сына которой не подавали о себе вестей с незапамятных времён. Устроился столяром в горпромкомбинат. Когда бы и где бы я его ни встретил, на ремне через плечо у него висела кожаная сумка с инструментом — с разными там рейсмусами, рубанками, ножовками. Я всегда останавливался с ним на минутку-другую.
— Привет, Мишуня. Как дела?
Он расплывался в благодушной улыбке.
— Как сажа бела!
— Что так?
— Да так. Строгаю-строгаю, пиляю-пиляю, а денег, корики-макорики, никак не прибавляется, всего-то пол-мешка осталось!
Меня он уважал. Во-первых, в раннем детстве мы с ним жили на одной улице, играли в одни игры. Во-вторых, ко времени его возвращения в родной город я уже учился в Литературном институте и начинал печататься. А Мишуня с благоговением относился к писателям, особенно к большим поэтам, потому что сам писал. Хотя, сказать «писал» — сказать не точно. Точнее было бы сказать его словами – придумывал «куплеты». Они у него рождались на ходу. Как афоризмы. Он их даже и не записывал, а запоминал. Однажды я вытащил его на очередное заседание городского литературного объединения. Прочесть свои «куплеты» на публике Мишуня так и не осмелился, зато в ходе обсуждения творчества одного из начинающих едва не разразился матом… Дело заключалось в том, что автор с каким-то очень уж неестественным надрывом читал длиннющую, никуда не годную поэму, посвящённую матери, откровенно, к тому же, подражательную знаменитому есенинскому «Письму»…
— Что за хренотень! – вскипел Мишуня. – Ты вообще адрес матери помнишь?
— Помню, — промолвил ошарашенный автор.
— Где она живёт?
— На Украине…
Мишуня в сердцах швырнул через стол раскрытую тетрадь и ручку.
— Напиши письмо! Напиши по-человечески о том, что ты здесь в стихах лепечешь! Что ты её любишь, помнишь, жалеешь, скучаешь! Ты летом в отпуск к матери едешь? Нет! Ты куда-нибудь на море мчишься! Пузо погреть! А ты сядь в самолёт – три часа, и у матушки на Украйне! На дворе – двадцатый век! Не пушкинская эпоха. Даже и не есенинская. Не мать ты любишь, а себя в… поэме!
Не на шутку оскорблённый автор двинулся, было, на Мишуню. Немало потребовалось усилий, чтобы успокоить и поэта, и его критика…
С тех пор общаться с городской литературной братией Мишуня зарёкся.
— Туда я больше не пойду. Что там за поэты? Дети, корики-макорики!
С годами я всё больше убеждался в Мишуниной правоте. Сколько всего прошло перед моими глазами! А уж в наши дни человечество научилось спекулировать даже на святых чувствах. С каким искренним убеждением мы иной раз восклицаем, пытаясь переубедить чрезмерно жестокого, на наш «человеколюбивый» взгляд, обвинителя, а пуще всего, наверное, всё-таки самих себя в том, что конкретный негодяй и подонок – человек не совсем конченый для общества. Мы ищем и зачастую находим у подлеца и отморозка какие-то доселе скрытые от постороннего взгляда положительные черты, искорки проявления человеческих чувств. Мы воодушевлённо обращаемся к этому бесчувственному, по нашему убеждению, обвинителю, не способному, якобы, разглядеть в человеке человеческое: «Прочитайте его покаянное письмо к матери. Это не письмо – это молитва! Разве оно не свидетельствует о том, что сердце этого человека ещё не остыло окончательно?»
А то, что этот подонок десятилетия своей беспутной жизни купался в роскоши, прожигал жизнь в дорогих ресторанах и казино, «омывал» в ваннах с шампанским многочисленных любовниц и валютных проституток, но ни словом, ни делом ни разу не помог своей брошенной на произвол судьбы, голодающей с ельцинских времён в какой-нибудь богом забытой деревушке престарелой матери, мы во внимание не принимаем…
Но вернёмся к Мишуне.
Из его многочисленных «куплетов» мне запомнился один:
В России долго не живут —
В России долго выживают.
А выжив, тут же умирают
И воскресения не ждут…
— Неплохо, — оценил я. – Вот только последняя строчка…
— А что, последняя не в яблочко?
— Вот именно… Не внятно как-то! Ну, что значит – «воскресения не ждут?»
— А что тут непонятного? Зачем воскресать? Чтоб, воскреснув, начать мыкаться по новой?
— Не в том, Мишуня, евангельский смысл воскресения!
— Мы евангелий не проходили, — буркнул Мишуня, но, впрочем, долго не упрямствовал. — Ладно, может, как-нибудь докумекаю!
Как-то раз он «забежал» вскоре после моего очередного возвращения из Москвы. Слово за слово, разговорились о столичных знаменитостях. Он всё интересовался:
— А Евтушенку видел?
— Видел.
— Живо-ого?!
— Ну, не мёртвого же, Миш!
— Не, в смысле, не по ящику – в натуре?!
— Не по ящику, в аудитории…
— А Вознесенку?
— И Вознесенского видел.
— У, корики-макорики! – Миша восторженно встряхивал головой.
— А вот этого… который «пил из черепа отца»?
— Кузнецова? Юрий Поликарпович ведёт в семинар в институте…
Большие поэты, по-видимому, представлялись Мишуне людьми из другого мира, дотронуться до которых — «в натуре!» — ему уже и не мечталось…
— Ну, тогда наливай! – Мишуня выковырнул из-под инструмента в сумке припасённую для случая бутылку. — Выпьем!
— За кого? За Евтушенко с Вознесенким?
— Зачем? За нас! Чтоб нас тоже… видели!
С тех пор прошло немало лет. Однажды на вопрос о Мишуне кто-то из наших общих знакомых сообщил, что он, вроде, помер. Я, конечно, погрустил о друге детства, посетовал на жизнь нашу безобразную, вспомнилось мне его проникновенное: «В России долго не живут…». В церкви поставил за упокой души раба божьего Михаила свечку. На том бы и закончилась эта история, если бы…
Этими редкими «если бы» и озаряется порой наша тусклая жизнь.
В августе 2003-го я отдыхал на одной из черноморских баз неподалёку от Геленджика. Про Геленджик рассказывать не надо. Геленджик, он и есть Геленджик. Солнце, море, пляж…
Моё рассеянное внимание постепенно сосредоточилось на одной восторженной группе отдыхающих. У берега бултыхались два очень похожих друг на друга белоголовых пацанёнка лет семи-восьми. Они грудью ложились на набегавшую волну, азартно молотили руками-ногами, но волна возносила их на гребень и, как щепок, отбрасывала назад…
Кряжистый, средних лет белотелый мужчина и спортивной выправки высокий чернявый парень с бронзовой от загара кожей осторожно, словно по битому стеклу, шли по раскалённому песку от лежаков к морю. Парень сходу, с гиком, бросился в набежавшую волну, на мгновенье исчез в ней, затем словно выпрыгнул на полкорпуса из пучины, мощными гребками торпедой преодолел с десяток метров и лёг на спину, взмахом руки подзывая остановившегося в нерешительности на берегу мужчину. А тот, козырьком приложив ладонь к глазам, следил за энергичными движениями пловца и чему-то про себя улыбался…
Я видел его испещрённые многочисленными татуировками плечи, а когда мужчина оборачивался и словно бы впервые с удивлением рассматривал кишащий человеческими телами горячий берег, — широкую белую грудь, на которой ещё не оставило отпечатка палящее солнце, синие от татуировок жилистые руки, которые он не знал, куда деть; коротко стриженные, смоляные волосы и даже розовый треугольничек шрама на левом виске…
Он зашёл в море, сначала по колено, затем по пояс; прикрываясь от долетающих отовсюду брызг, нелепо выставил на уровне глаз согнутую в локте правую руку. Долго не решался окунуться. Наконец, очередная волна объяла его, мужчина на выдохе присел и тут же пробкой выскочил из волны, выброшенный энергией родившегося в нём восторга…
Я видел его глаза. Это были необычайно счастливые, по детски восторженные глаза немолодого уже человека, впервые, вероятно, оказавшегося в море. Парень по-прежнему лёжа на спине, как в люльке, качался на волнах, а мужчина, совершенно не умевший, очевидно, плавать, с гиком барахтался с детворой на взбаламученной отмели, кувыркался, сплёвывал и фыркал, и опять нырял, как утёнок, а затем вдруг затих. Сел у кромки моря и сидел неподвижно до тех пор, пока от лежака не подошла к нему и не обняла за плечи полная круглолицая женщина в синем купальнике и белой пляжной шапочке…
— Мишу-уня, — певуче протянула она, — хватит бы уже для первого разу на солнышке… Ступай под зонт в тенёчек!
Вот уж не напрасно говорится: хочешь встретить знойным летом знакомого северянина, поезжай в Геленджик или в Анапу!
Меня, разумеется, как ветром сдуло с места.
— Михаил?! Мир тесен!
Он уставился на меня, не узнавая. Тогда я сдёрнул с глаз солнцезащитные очки:
— Строгаем-строгаем, пиляем-пиляем, а денег всё не прибавляется?
Мишуня медленно приподнялся и расплылся в улыбке:
— Пол-мешка всего-то и осталось! Вот так встреча, корики-макорики!
…На частной квартире в сотне метрах от моря, которую на недельку сняло семейство Бикбаевых, мы с ним проговорили весь вечер и всю ночь…
Мишуня всё так и работал «по столярке». Когда промкомбинат закрыли, «промышлял» то в одиночку, то в составе какой-нибудь сборной бригады. А в начале девяностых исчез из города. По-видимому, тогда-то один из наших знакомых и решил, что Мишуня помер. А он не помер – он «сходил» на третий срок…
Всё лето четверо таджиков вели отделку Родионова коттеджа, а когда пришло время расчёта, брат вдруг замудрил. Неделя прошла, другая, третья, вот уже и месяц позади, холода подступают, а Родион всё кормит своих строителей «завтраками» да «послезавтраками», ссылаясь на какие-то непредвиденные обстоятельства. А затем и вовсе спрятался – даже на звонки перестал отвечать. Таджики занервничали. Обратились к Мишуне: помоги, повлияй на брата! Жалко стало Мишуне обманутых людей – сам такой же, как они, работяга. Пришёл к брату. А Родион: не суйся, дескать, не в своё дело. Ты расчёт за столярку получил, вот и скажи спасибо. Рабочим аванс на дорогу выдам, а расчёт позже переведу… Сейчас, мол, у меня проблемы. А и не переведу, им жаловаться некому. Они без прописки, на птичьих правах!
Лучше бы Родион этого не говорил!
— Виноват, не сдержался, — развёл руками Мишуня, – врезал по физиономии. Да так, что челюсть щёлкнула. Сломал. А это уже сурьёзно. Надька, жена Родькина, из комнаты выскочила, завизжала: «Изувечил! Изуродовал, зэк неумытый!». Давай звонить в ментовку. А Родька, он ведь, к тому же, ещё и депутат – лицо неприкосновенное. Таджиков моих после этого случая как корова языком слизнула из города. На суде Родька пошёл, было, на попятную, просил о снисхождении, он бы и заявление отозвал, да Надька, стерва, заладила: «Посажу, сгною вы****ка!». Дали три года…
Освободился в девяносто четвёртом. Кругом бардак. Всё рушится. Всё с ног на голову… Мне сороковник. Позади – пустота, впереди – беспросвет… Приехал на вокзал. Поезд ночью. Сижу в зале ожидания, размышляю… Хоть под поезд сигай!
Гляжу, стоит у касс дальнего следования женщина. Наша. У меня на своих глаз намётан. Узнал: Зойка из первого отряда женской колонии. Тоже вляпалась в историю, трёшник отмотала… Муж был прапором, что-то там тащил с воинской базы, а она, вроде, перепродавала… Сам из воды сухим вышел, а её утопил. Через полгода женился — замену в дом привёл… Я давно её приметил… Стоит у кассы, потухшая. Такое бывает. Пока сидишь, всё передумаешь, всё обмозгуешь – куда, к кому, с чего начнёшь… А освободился и растерялся. Не знаешь, куда податься. Где тебя ждут. И кому ты нужен. А тебя нигде не ждут и никому ты не нужен! Вот и станешь у кассы, как витязь на распутье.
Не знаю, что на меня нашло, что меня подтолкнуло. Подхожу.
— Ну что, — говорю, — Зоя, крылья на ветер?
Она брови вскинула.
— А ветер, — спрашивает, — с какой стороны?
Я отвечаю:
— С севера на юг!
Она говорит:
— В смысле?
А я:
— В смысле, давай ко мне!
Она совсем потерялась:
— К тебе – это куда?
— Ко мне, — говорю, — на Север.
У неё губёнки от обиды затряслись:
-Ты что, — говорит, — шутишь, что ли? Или за какую-то дешёвую сучонку меня принимаешь?
А я:
— Какие, Зоя, на хрен, шуточки! Не до шуток. Я жизнь уже прошутковал!
— Нет, — отвечает, — не могу. Меня дома ждут.
— Кто тебя ждёт? Никто тебя не ждёт. Меня не обманешь!
Она:
— А кому я там нужна, на Севере твоём?
А я возьми да бахни:
— Мне.
До сих пор не понимаю, что на меня нашло. Я ведь с бабами всю жизнь робел… А тут:
— Мне нужна, и баста! Не раздумывай. Поехали!
Она посмотрела на меня этак внимательно и говорит:
— А вот возьму да соглашусь! Что делать будешь?
— На руках носить!
И ношу. До сих пор с рук не спускаю. И до конца жизни теперь не спущу… Мы вообще-то возвращаемся из Ставрополя. У брата гостили.
— У какого брата? – не понял я. – У Родиона?
— Зачем у Родиона? Родион на месте. У меня ведь в Карачаевске брат остался. Младший. По матери. Кемал. Он сейчас в Ставрополе живёт. Спасибо, разыскал материну могилу. Сходили, поклонились. А вот этот молодчик, — с доброй улыбкой кивнул Мишуня на раскинувшегося на раскладушке и безмятежно посапывавшего во сне рослого загорелого пловца, — его сын. Мой племянник. Борис. В гости ко мне едет, на Север наш взглянуть. Из Ставрополя и надумали заехать на море. Ребятишки упросили. Двое у меня, как видишь. Санька и Виталька. Близняшки. Во второй класс нынче пойдут. Зоя через год мне двойню принесла. Я, веришь, нет, от радости расплакался… В моём-то возрасте, при моей-то жизни… Вон, ворочаются на кровати, спины, наверно, сожгли. Ты, Зоя, смазала бы чем-нибудь…
— Да смазала уже кремом, — Зоя рассмеялась. – Вас ведь всех четверых с берега палкой не угонишь – дорвались до бесплатного солнышка!
— Когда ещё придётся? Да и придётся ли когда-нибудь! – согласился Мишуня. И продолжил, обращаясь ко мне. – Об одном прошу у Господа, чтоб дал ещё хотя б десятка полтора годков детишек на ноги поставить… Есть, видно, Бог-то… Есть! Разве не он Зою мне послал? Она, можно сказать, к жизни меня воскресила…
Зоя неслышно скользила по комнате, время от времени подливала в чашки подогретый чай, подставляла блюдечки с разными вареньями и вазочки с южными фруктами…
— Вы угощайтесь, угощайтесь! – певуче приговаривала она. – Здесь всё свеженькое, витаминное, не то, что на Севере у нас… Мы вас дома по телеку часто видим! Мишуня о вас много рассказывал…
— Да и я вот приеду, расскажу своим, что Мишуню видел!