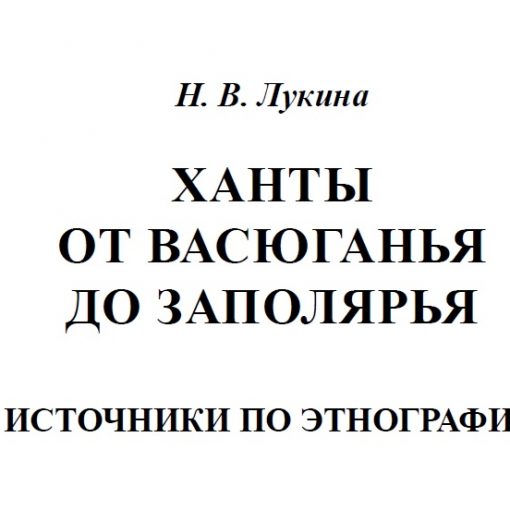Николай Коняев
Отец всё чаще сидел за столом с обвязанной сырым полотенцем головой хмурый и неразговорчивый. Теперь-то я понимаю, что зашкаливало давление… А рабочие «наседали». Заинтересованные в том, чтобы наряды были «закрыты получше», вечером они один по одному заходили к нам. Без ознакомительных подписей наряды к оплате не принимались. Рабочие, как правило, соглашались с объёмами зафиксированных отцом выполненных работ. В особой тетрадке — отец постоянно носил её с собою во внутреннем кармане пиджака, он вёл ежедневный первичный учёт на каждого работника. Тут споров не возникало. Как не возникало и сомнений в правильности применённых расценок: отец выписывал их из какого-то толстого растрёпанного справочника. Но, не оспаривая объёмов, соглашаясь с расценками, рабочие, тем не менее, часто бывали недовольны суммой начисленного заработка…
— Ты чё, Иван Ефимыч, и это вся зарплата? — возмущался, помню, подвозчик воды к общественной бане, уволенный вскоре за пьянку и прогулы.
— Сколько наработал! — подтверждал отец.
— А семью на чё кормить?
— Об этом думать тебе полагается! Давай-ка вместе посчитаем. Сколько бочек в субботу в баню завёз?
— Разве я помню? Сколь надо было, столь и завёз!
— Нет, не «столь», «сколь» надо было! Воды в субботу в бане всего на полтора часа хватило! Сколько раз в месяц топлена баня? Всего четыре раза. Вместо двенадцати бань!
— Я, чё ли, виноват, что баньшшица филонит? Я-то тут причём? Мне семью кормить! Не обижай, Ефимыч!
— Я в прошлом месяце о чём тебя просил? Распилить лесины возле бани, поколоть да сложить! Где твоя поленница? Дожили — в лесопункте баню топить нечем!
Так ведь… ты чё, Иван Ефимыч? Чё ты не напомнил-то? Трудно, чё ли, мне? Взял бы да и распилил! Делов-то! Завтра ж распилю!
— Последний раз пишу почасовую, — шёл на уступку отец, — учти, больше не пройдёт. Как потопаешь, так и полопаешь, безо всяких «чё ты»!
Как сейчас, гляжу на серую, плотную, шершавую бумагу, разграфлённую вдоль и поперёк, исписанную отцовым крупным, своеобразным почерком: бледно-фиолетовые и лиловые буквы из-под обычной перьевой ручки выходили у него с «отрезанными» верхними концами, словно по линеечке обрубленными, а чистое место на бумаге обязательно гасилось размашистой, на ширину страницы, нерусской буквой «Z». Мы, дети, с почтением относились к отцовым бумагам. Случалось, находили на улице исписанный листок и несли домой:
— Папка, это не твоя?
Отец мельком взглядывал.
— Нет, не моя, ребятишки, выбросьте в мусор. — Но видно было по глазам, что наше уважение к документу им поощрялось.
Ему давно следовало показаться врачам, подлечиться. Но он и мысли не допускал, чтобы однажды «плюнуть на всё» и поехать в больницу. Даже после случившегося на рыбалке, за год до рокового дня, сердечного приступа, о чём маме рассказал уже после его смерти бывший напарник. Вероятно, то был первый звонок — микроинфаркт. А может, уже и не первый, кто знает. Тогда он «переморщился»…
В медпункт он обратился лишь однажды. Когда запустил ангину и уже не мог не только есть, но уже и дышать. Перепуганная медичка вызвала вертолёт, и отца увезли в Ханты-Мансийск на операцию.
Не помню, чтобы в доме имелись какие-то лекарства — таблетки, капли. Больной зуб себе и маме лечил током магнето. Медпункт же в Сеуле работал время от времени. Медички (фельдшерицы) приезжали в лесопункт, месяца два-три чем-то занимались (запомнились прививки в школе), затем вдруг спешно увольнялись, и на двери медпункта месяцами висел замок. По отчётности органов здравоохранения можно составить ясную картину: в 1962 году «на 225 врачебныхдолжностях работали 135 человек. За предыдущие три года в округ прибыли 77 врачей, а выбыл, в основном по окончании трудового договора, 81. Не хватало и средних медицинских работниковла, зажгла керосиновую лампу. Поднялся и отец. В дом вошёл среднего роста мужчина в огромном полушубке, с чёрным пузатым портфелем под мышкой…
— Васюня, где мой диван?!
Мама всплеснула руками:
— Господи, Иван Палыч! Напугали вы нас! Раскладушка-то на месте, а вы откуда так поздно?
— Только что с обозом прибыл.
— А в сенцах как же дверь с крючка открыли?
— А что ваш крючок? Сунул расчёску в зазор, приподнял да сбросил с петли. На запорах, называется, сидите! Выговор тебе, Иван Ефимович!
— Да от кого нам запираться? — буркнул в оправдание отец.
Иван Павлович сбросил тяжёлый полушубок, и оказался в строгом чёрном костюме.
— Ставь, мать, чайник, — сказал отец. — Околел наш гость в дороге…
— От стакана кипятка не откажусь!
Дядя Ваня приехал! — проснувшись, зашушукались мы в постелях. В каждый свой приезд дядя Ваня обязательно одаривал всех четверых гостинчиками…
— А вы спите, спите — в школу завтра рано! — прицыкнула мама…
Прибывший с конным обозом из Ханты-Мансийска то ли на очередную ревизию, то ли по каким-то иным торговым делам ревизор ОРСа Иван Павлович Карандашов по старой дружбе остановился, как всегда, у нас, хотя отец уже не работал в ОРСе. Сколько помню себя в Сеуле, постоянно в нашем доме квартировали какие-то заезжие люди, но дядя Ваня (Иван Павлович) с его обязательными гостинчиками был для нас самым желанным. Его личный «диван» — раскладушка всегда стояла за печью…
В 1950-1960-х годы Иван Павлович работал в ОРСе Ханты-Мансийского леспромхоза заведующим базами, товароведом, инспектором по торговле и общественному питанию, бухгалтером-ревизором. Приходилось постоянно разъезжать по торговым отделениям, закупать товары в Омске и Тюмени. С одной из его сестёр, Галиной Павловной, мои родители были знакомы по Нялино, где она работала ночной нянечкой, а затем поваром в детдоме. С Карандашовым же отец сдружился ещё в Трудовике. Вторую жену Ивана Павловича звали, помнится, Марией Карповной, она работала медсестрой в окружной больнице, и в 1953-м была награждена орденом Трудового Красного Знамени…
Иван Павлович приехал в ночь на 12 февраля. К вечеру того же дня по радио прошло сообщение о том, что комплекс работ по освоению нефтяных и газовых месторождений Тюменской области объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Эта новость и стала предметом обсуждения отца и нашего гостя. Запала в память отцова фраза:
— Всё перепашут… «Караул» закричим!
Я по-детски пытался вникнуть в смысл этой фразы, представляя перепаханными берег, лес, болото, огород…
Помню разговор о наградах… Думаю, речь шла о наградах отца. В начале 1965-го вышло постановление о всенародном праздновании 9 мая. Именно выход этого постановления стал поводом к хлопотам отца о судьбе своих фронтовых наград. Он написал запрос или даже несколько запросов по разным военкоматам, но получил ли от кого-то ответ, не знаю. До своего главного праздника — Дня Победы отцу не довелось дожить всего каких-то трёх месяцев…
Утром 13 февраля отец поднялся раньше обычного. Иван Павлович ещё спал на своём «диване» в кухне…
— Что так рано? — шёпотом спросила мама.
— Сердце что-то давит, — поморщился отец, — пойду глотну воды холодной…
Выпил воды и стал одеваться.
— Куда в такую рань? Поспал бы немножко ещё…
— Чего вылёживать? Схожу пораньше, раз поднялся.
Всё ещё морщась от боли, оделся и обулся…
Мама встревожилась.
— Не ходил бы ты сегодня на работу, раз плохо себя чувствуешь…
— Да нет, схожу тут ненадолго, к завтраку вернусь…
Он надел «москвичку», сунул в карман распечатанную пачку папирос «Красная звезда», коробок спичек, шагнул к порогу и… упал.
Я видел, как упал отец. Ни охнув, ни вскрикнув, не проронив ни слова… Как подрубленный.
Дико закричала мама…
Закричали, испугавшись, мы…
В трусах и майке выбежал из кухни Иван Павлович. Подбежал к отцу, склонился…
— Бегите за медичкой! Кто-нибудь! Быстрей! — Иван Павлович снял с отца «москвичку» и, кажется, стал делать искусственное дыхание…
— Иван! Иван! — кричала мама. — Иван, открой глаза!
Перепуганные, плакали братишки и сестра…
Я не видел, что было дальше… Крик Карандашова: «Быстрее! Кто-нибудь!» подтолкнул меня. Натянув штанишки, всунув ноги в валенки, набросив фуфайку, я со слезами кинулся из дома…
— Папочка, родной, не умирай! Папка, потерпи!..
Я мчался по безлюдному в ранний час посёлку в сторону медпункта, ещё не зная, что он на замке, что медички в лесопункте нет…
У закрытого медпункта меня остановила фронтовичка тётя Маша Казакова.
— Ты чего ревёшь-то? Что у вас случилось?
— Папка умирает!
— Что с ним?!
— Не знаю. Он упал…
— Сердце? Да, наверно, сердце! Подожди минутку — валидолу дам! — Тётя Маша скрылась во дворе. Через несколько томительных, тягостных минут, показавшихся мне вечностью, вынесла флакончик с несколькими крупными белыми таблетками…
— Беги! Таблетку под язык!
…Отец умер в 8.30 утра в пятницу 13 февраля 1965-го от кровоизлияния в мозг.
В тот же день в лесопункте был издан приказ № 5: «Коняева Ивана Ефимовича из Сеульского ЛЗУ отчислить в виду преждевременной смерти»…
Не знаю, как в Майке, но в Сеуле на моей памяти ни один не умер «своей смертью». Помню, утонул рабочий Лебедев. Его труп искали долго в пределах рек Большой и Малой Горной. При переправе лошадей через курью Яхоре утонул конюх Озеров. Зимой 1964-го в деляне «сыгравшей» в падении сосной убило пильщика Василия Гребенникова — отца пятерых детей. Люди гибли в основном в результате несчастных случаев. Умирали «не своей смертью». Но как нелепо звучит: «отец умер своей смертью» на сорок пятом году жизни…
Телеграмма, отправленная в Омск старшему брату Егору, адресата не застала. Егор Ефимович в ту пору находился в пике кризиса семейной драмы, разрешившейся разводом. Оставив с матерью двух дочерей, он выехал из Омска в неизвестном направлении.
Из Кам-Курска же на похороны выехали мамин сродный брат Егор Гаврилович (Вижевитов) и муж нашей тёти Нины Анатолий Иванович (Ячменёв). Из Омска через Тюмень приехали в Ханты-Мансийск, а в Ханты-Мансийске застряли. В Сеуль добрались почти через неделю «верёвочкой» через Луговской, Троицу и Матку… Почти неделю гроб с телом отца стоял в неотапливаемом клубе. За всю неделю верный Пудик не отошёл от дверей клуба…
Ни ОРСовские обозники, ни Иван Павлович Карандашов — низкий поклон им за это! — не оставили нас наедине с бедой. Когда наша семья в июне прибыла в Ханты-Мансийск, несколько дней в ожидании теплохода на Омск провела в гостеприимном доме Карандашовых по переулку Сибирскому. Иван Павлович, его жена Мария Карповна и двое их сыновей окружили нас заботой и вниманием. Как я понимаю бывшую жительницу посёлка Лиственничный Кондинского района Нину Сондыкову:
— Вспоминая 1950-1960-е годы, я всё чаще думаю о том, что те люди, бедные, нищие, были намного богаче нас душевным теплом, порядочнее и честнее…
После похорон отца мы знали уже точно: летом едем на мамину родину. В деревню Кам-Курск Омской области…
В мае мама уволилась. Сдала обе коровы, продала отцову лодку и мотор. В июне первой самоходкой уезжали…
Мы стояли на задней площадке и смотрели на удаляющийся лесоучасток. С берега долго не расходились провожатые. Кто-то, как флажком, махал нам белым платочком, а мама тихо плакала… Мы не понимали, отчего. Мы, как обычно, радовались предстоящему путешествию на белом, большом, как город, теплоходе. Мы ехали на мамину родину, где, по её рассказам, не ловят рыбу, не охотятся на зверя, не заготавливают лес, а выращивают хлеб. Мы ещё не знали, как выращивается хлеб. Оказывается, он растёт не булками, а зёрнами в колосьях. Это так интересно увидеть своими глазами!
— Пудик! — сдавленно вскрикнул кто-то…
Перед отъездом мама подарила Пудика одному из ягурьяховских охотников по фамилии Загваздин, знавшего толк в сибирских лайках.
Наш любимый Пудик догонял самоходку по левому берегу Сеульской. В ошейнике, с оборванным поводком. Мчался, перемахивая через валёжины, карчи, выброшенные на берег топляки. Догонял и снова отставал, обегая топкие места и песчаные косы…
— Пудик, вернись! — крикнула мама.
Заплакала Люда:
— Пудик, вернись!
Безутешно плакали я и братишки…
Пудик не верил в предательство. Поравнявшись с самоходкой, он приседал на берегу и ждал…
— Да уйдите же в каюту, чёрт возьми! — в сердцах закричал капитан. — Он будет бежать до тех пор, пока видит вас!
P.S. Наиболее дальновидные, а, возможно, заблаговременно проинформированные семейные подыскивали новые места жительства путём переписки с руководством возникавших повсеместно молодых леспромхозов и первых нефтепромыслов…
Каких-либо существенных кадровых перестановок заступивший в 1965-м исполняющим обязанности начальника Владимир Николаевич Картузов уже не предпринимал. Разве что «в целях привлечения широких масс трудящихся…» создал добровольную пожарную дружину в составе 7 человек под руководством Николая Поликарповича Клочко да «в связи с отсутствием почтового отделения в Тавотьяхе» обязал того же Клочко доставлять туда почту, а в «целях усиления воспитательной работы» распорядился «оживить работу красного уголка» путём «проведения художественной самодеятельности, лекций, докладов, вечеров вопросов и ответов, чествований передовиков производства». Однако, от его распоряжений красные уголки не оживлялись, «оживлять» необходимо было воспитателя-завхоза Чемоданова.
Картузов был отменным механиком, «тракторных дел мастером», но в должности начальника не смог или не захотел организовать людей, зажечь и увлечь, а при необходимости и заставить так, как мог это сделать Кальдиков. В результате 1965 год истекал с плачевными для лесопункта результатами: план 10 месяцев был провален по всем статьям… В традиционном праздничном приказе от 6 ноября Владимир Николаевич тем не менее докладывал: «Коллектив Сеульского лесопункта идёт вместе со всеми трудящимися Союза Советских Социалистических Республик и вносит свою посильную лепту в дело построения коммунистического общества… Мы, товарищи, могли выполнить свой план, но мы его не выполнили… Это не снимает с нас ответственности… Мы должны до 1 января 1966 года ликвидировать задолженность и включиться в социалистическое соревнование за достойную встречу XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза…»
К «достойной встрече» грядущего съезда стремился не только лесопункт, но и весь леспромхоз, весь работный национальный округ. В 1965-м объём лесозаготовок в округе составил 1670 тысяч кубометров — на 425 тысяч больше достигнутого в 1960-м…
С 10 января 1966-го Картузов по личной просьбе вновь был переведён на место старшего механика, а последним начальником Сеульского лесопункта переводом из Елизаровского леспромхоза назначили Бориса Ивановича Бушмелёва.
Летом 1966-го, через год после отъезда нашей семьи в Омскую область, в Ханты-Мансийском районе случилось одно из сильнейших за всю его историю наводнений, повлекшее не только серьёзные разрушения, но и человеческие жертвы.
Весь июль и август лесопункт стоял под водой. В домах, расположенных на возвышенностях, проживало по 5 и более семей. Большинство же спасалось на крышах и чердаках. Вода унесла в Обь и разметала по берегам остатки прошлогоднего сена и дров, погибла почти вся живность, которую хозяева не успели или не сумели вывезти на гору; в квартирах пришла в негодность мебель и зимняя одежда; сгнили в огородах овощи. Луга стояли под водой до самой осени, что не позволило вовремя накосить сена на предстоящую зиму даже для леспромхозовских лошадей. Уцелевших коров пришлось сдать на забой. Необходимых в работе лошадей надеялись прокормить нарубленным талом да привозным сеном.
Вместо того чтобы помочь людям выкарабкаться из труднейшей ситуации, руководство ОРСа леспромхоза не поторопилось завезти в лесопункт в достаточном количестве хотя бы товаров первой необходимости. Уже в ноябре 1966-го на прилавках магазинов Сеуля и Тавотьяха было шаром покати.
После наводнения, полагаю, перед руководством леспромхоза остро встал вопрос о целесообразности дальнейшей эксплуатации и без того порядком прореженных лесов Сеульского массива.
Из деревень и посёлков Троицкого сельсовета начался отток. На 1 июня 1967-го практически обезлюдели деревни Востыхой (здесь оставалось 17 дворов, 77 жителей) и Матка (18 дворов, 51 житель). В Сеуле насчитывалось 46 дворов со 167 жителями. И лишь в Ягурьяхе, в котором процветало Сеульское промохототделение Ханты-Мансийского коопзверопромхоза, ощущалась некоторая стабильность.
В 1967-м «в связи с истощением сырьевой базы» было принято решение о ликвидации мастерского участка Тавотьях. На 1 июня 1967 года там, по данным переписи, оставалось 33 двора (118 жителей)…
— Жители были ошарашены неожиданным известием, свалившимся, как снег на голову, — рассказывал Владимир Найда, один из сыновей известного в Тавотьяхе лесозаготовителя, ныне — старейшего жителя Ягурьяха Владимира Кузьмича. — Люди за десятилетие прижились, обзавелись хозяйством, нарожали детей, одним словом, пустили корни и уже не думали об отъезде на родину. Увы, судьбы народа и населённых пунктов зависят не от их желания и воли, а от решений «сверху». Весной 1967 года на баржах, как сталинские изгои, люди со слезами на глазах покидали свой участок. К середине лета посёлок опустел. Только пост Ханты-Мансийской гидрометобсерватории долго ещё нёс свою вахту, отапливаясь брошенными домами. Время бессильно стереть с высоких берегов реки тропы, протоптанные за десятилетие сплавщиками, которые пешим порядком сопровождали плоты из Тавотьяха вниз по течению к Рейду…
В 1968 году та же участь постигла Сеуль…