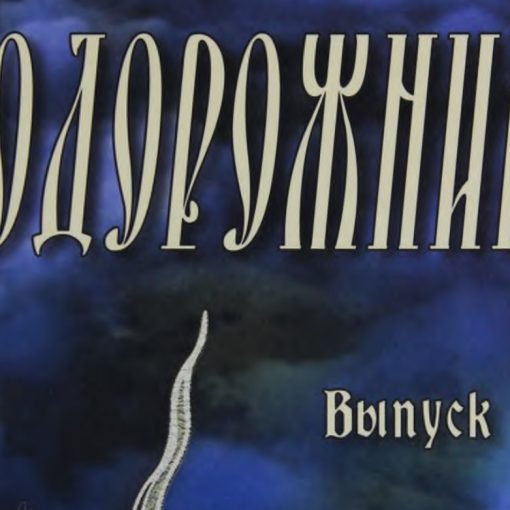Шульгин С.
Северо-западная часть Тобольского уезда, известная под названием Конды, или Кондинского края, по имени р. Конды… открывающейся своим устьем в 15 верстах ниже села Реполовского Самаровской вол [ости], граничит на севере [с] Березовским уездом, на востоке — [с] р. Иртышем с волостями Тобольского уезда: Нарымской, Филинской, Демьянской, Юровской, Уватской, Бронниковской и Кугаевской; на юге — [с] Тюменским уездом, на западе — [с] Туринским. Крайняя точка Кондинского края Тобольского уезда лежит: на западе — у юрт Терезинских Кондинской волости, на севере — у устья р. Конды. Ввиду того, что в крае нет поверстных измерений и почтового тракта, расстояния считают приблизительно. Зимою от устья р. Конды до села Болчаровского (земский тракт) около 150 верст. От Болчаровского до села Нахрачинского (земский тракт) около 118 верст, от Нахрачинского до села Леушинского (проселочный тракт) около 110 верст, и от Леушинского до Терезинских юрт 22 версты. Стало быть, наибольшая длина края с северо-востока на юго-запад около 400 верст.
Летом сообщение в Конде возможно только лодкой. Прямой путь к перечисленным выше волостям отрезан летом озерами, болотами, а потому жителям волей-неволей приходится плавать через устье р. Конды, на село Реполовское, делая таким образом огромный крюк на север. Из села Болчаровского через юрты Чесноковские, отстоящие от первого в 20 верстах выше, и из того же села через деревню Островную Демьянской волости есть прямые пути к русским волостям на Иртыше в летнее время, но они возможны только пешеходом через урманы, болота и большие озера, что сопряжено с трудностями и опасностями. Вообще же расстояния между населенными пунктами при р. Конде следует считать в летнее время по крайней мере 1,5 раза длиннее зимнего по причине больших извилин реки, особенно в западной части края. Зимой, с промерзанием озер и болот, пути открыты во все стороны. Так, прямое сообщение с городом Тобольском (проселочной дорогой) — через юрты Камышинские, Ландинские, Ачировские (татарские), с Туринским уездом — через села Леушинское, Сатыгинское, Гаринское и др.; с селами Демьянским, Юровским – через юрты Чесноковские и Варламовские (земский тракт), а также через село Болчаровское и дер. Островную (проселочным трактом); с Березовским уездом — через юрты Нюркоевские и Согомские (проселочным трактом).
Площадь Конды состоит из лесов, озер и болот, среди которых встречаются клочки материковой почвы в виде отдельных островов. Правый береговой кряж р. Конды по мере удаления от устья на юго-запад становится выше, богаче лесом, живописнее. Материковая почва — супесок. Удобрение его навозом, как показывают опыты с хлебопашеством, дают порядочный урожай. Урманы изобилуют действенным лесом: елью, пихтой, кедром, местами лиственницей, а главным образом — сосной. Лес в Конде — это ее главное естественное богатство, как сам по себе, так и потому, что в нем водятся: медведи, лоси, олени, выдры, соболи, лисицы, горностаи и много других ценных пород. Очень жаль, что этот прекрасный лес в местах доступных истребляется без жалости и пощады, а главное неразумно: непроходимый валежник из вековых сосен и даже кедра поражает вас на каждом шагу. Лесные пожары от неосторожного обращения с огнем и пожары, устраиваемые нарочито с целью выжигания боров для хорошего урожая ягоды, истребили уже массу кедрового и прочего строевого леса. Замечательными по своей величине озерами, или, как их здесь называют, сорами, в пределах Меныие-Кондинской волости считаются Кондинский сор длиной около 70 верст, шириною около 5; Мамкин — длиною около 10 верст, шириною не менее в пределах Кондинской вол [ости]: Туман – длиною около 70 верст, шириною около 10 верст с 7 перешейками на своем протяжении; Туман поменьше первого.
Река Конда, озера (соры), реки и протоки изобилуют разными породами низкосортной рыбы: язь, щука (иногда около 1 пуда весом), окунь, чебак, карась; а неподалеку от устья речки — нельма и сырок, который, впрочем, по вкусу и цвету уступает обскому. Неподалеку от устья заходит в речку и стерлядь, осетр же — никогда. Всей рыбы добывается по Конде не меньше 6000 пудов ежегодно.
Площадь Конды заключает в себе две волости: на северо-востоке Меньше-Кондинскую, исключительное население которой — остяки с примесью между ними русских; на юго-западе — Кондинскую, исключительное население которой — вогулы с примесью между ними тоже русских. Заселение края русскими крестьянами соседних волостей, а также мещанам продолжается и теперь. По официальным данным, к 1 января 1901 г. в Меньше-Кондинской волости числится: остяков — 1162, русских — 61, итого 1230; в Кондинской: вогул — 1464, русских — 241, итого 1705; а всего — 2935.
Движение заселения русскими в крае выражается за последнее трехлетие в следующих цифрах. По Меньше-Кондинской волости в 1898 г. было — 65 [человек]; 1899 г. — 69; 1900 г.- 68. По Кондинской волости в 1898 г. было 252; 1899 г. — 249; 1900 г. — 241.
…Жалко, что в церковных записях в графе о рождении делается подразделение на тех и других. Чем же объяснить постепенное вымирание инородцев? Вопрос, во всяком случае, такой, на который, как известно, ученые отвечают до сих пор неудовлетворительно. Владея исконе огромными вотчинами, инородец по привычке мало заботится об извлечении из них выгод собственным трудом, равнодушно предоставляя [это] арендаторам вотчин — русским, частью за деньги, частью за водку; то же немногое, что он добывает сам, идет по низкой цене местным купцам в уплату старого долга, причем обыкновенно делается новый; отсюда вечная задолженность и бедность, в кабале у которых с незапамятных времен живет он и бьется, как в заколдованном кругу. Наряду с кабалой и бедностью — убогое, нездоровое жилище, кусок черного хлеба, не всегда — рыбы, часто вприварок чай, жалкая одежда во всякое время года, отсюда цинга, худосочие, простудные и другие болезни, к довершению наследственный сифилис, маскирующийся чаще картиной золотухи. Вот причина, в числе многих других влияющая на вырождение бедного племени остяков и вогул. Природное тупоумие и невежество не позволяют ему вдуматься в свое печальное положение и желать лучшей жизни, о которой он, правда, не имеет ясного представления, не выезжая из пределов своей родной Конды. Паллиативные меры в виде потребительских лавок и казенных хлебозапасных магазинов, учрежденных в последнее время в крае, не в силах, конечно, поднять при таких условиях материальное благосостояние инородца, не в силах также и вырвать его из рук местных кулаков, к которым он бессознательно, непонятным образом, должно быть, наследственно, тяготеет и добровольно идет в кабалу, точно он для нее только и рожден. Одно только просвещение может осветить бедный ум дикаря, одно только оно может привести его к разумной и сознательной борьбе за свое существование и тем спасти жизнеспособность племени, близкого к совершенному вырождению.
Но возвратимся к статистике. Домов — 559, из числа которых инородческих — 481, русских — 78. Населенных пунктов — 52, из числа которых с чисто инородческим населением 35, смешанным — 17; в том числе при Конде — 19, при озерах, речках и сорах — 33. Больший процент русского населения падает на села: Болчаровское и Нахрачинское, оба при р. Конде. Большинство русских живет здесь оседло уже с незапамятных времен, занимаясь на положении арендаторов инородческих вотчин небольшими крестьянскими хозяйствами, а также наравне с инородцами рыболовством, звероловством, сбором по осени ореха, ягод — брусники, которая славится на соседних рынках своим превосходным качеством. Инородцы и незначительная часть русских занимаются кроме того хлебопашеством в западной части края. Кустарной промышленности здесь нет и в помине. В юртах Красноярских Меньше-Кондинской волости ткут из волокон крапивы холст, который своими качествами отличается от льняного, а прочностью даже превосходит его. Способ обработки крапивы примитивный. Русские больше инородцев проявляют энергии во всяком виде труда, за то пользуются и лучшим благосостоянием, несмотря на то, что труд свой им приходится окупать арендной платой в пользу вотчинников-инородцев. Годовая плата эта за пользование всеми видами промысла колеблется от 12-25 руб. в год с дельной души. Торговлей занимаются только русские, как местнопроживающие, так и приезжие извне. Покупают инородческий товар: рыбу, ягоды, орехи, пушнину и или за деньги, или выменивая товар за товар, — чай, сахар, табак, муку, дешевые ситцы и проч. Нельзя обойти молчанием того обстоятельства, что инородцы под маской терпимости скрывают неприязненность к русским пришельцам. Помимо племенной разницы и религиозных воззрений есть в этом и другие причины, а именно: превосходство русских, как более культурных в эксплуатации естественных богатств края, дающих им завидное для инородца благосостояние; потом, русские торгаши, с их традиционными приемами облагороженного грабежа в виде спаивания инородцев водкой, нагревания рук около пьяных путем обмера и обвеса, обсчета и прочих приемов «объегоривания», широко и беззастенчиво практиковавшихся, особенно в доброе старое время, — эти господа успели все-таки взрастить в незлобивых сердцах инородцев недоверие и неприязненность к остальным русским. Как старожилы, как владетели вотчин, как, стало быть, господа положения, инородцы стараются показать это русским при всяком подходящем случае, угрожая не давать паев, и русские из боязни перед угрозой чувствуют себя загнанными и униженными и идут при случае на всевозможные сделки с инородцами. Надо отдать справедливость: русские внесли в житейский обиход остяков и вогул влияние некоторой культурности, которая сказывается в постройке домов, в относительно опрятном их содержании, в одежде, пище и в других мелочах повседневной жизни, что особенно заметно по мере удаления от устья Конды к ее верховьям, и в этом отношении вогулы и остяки далеко оставили за собой своих обоих сородичей.
Но религиозный православный культ здесь, как и там, слабо прививается к темной массе инородцев, называющихся христианами, не знающими ни молитв, ни догматов христианской религии и поклоняющихся кроме Царя Небесного «Турыма» еще разным своим божествам под общим именем «тонхов». В этом случае, несмотря на племенную разницу между вогулами и остяками, те и другие сходятся во многих видах идолопоклонства, что видно из того, что оба народца поклоняются одним и тем же тонхам, соблюдают одинаковые обычаи при погребении умерших, поминовение их и проч.
С именем тонхов сливается понятие о мрачной карательной силе, которую надо иногда задабривать или благодарить просто дарами или кровавым жертвоприношением, смотря по важности случая. Русские зовут здесь тонхов шайтанами (в переводе с татарского — черти). Их много, и во имя почти каждого имеются отдельные естественные или семейные амбарчики, капища, перед которыми делаются жертвоприношения животных или складывается в дары разная рухлядь. Изображают ли они тонхов в виде истуканов — неизвестно, сами остяки и вогулы [это] отрицают; впрочем, в селе Нахрачинском один вогул хранит изображение тонха в виде металлической птицы.
Легендарные богатыри — суть тонхи, хотя не все; из них наиболее известны: Нумыика (верховый старик, т. е. живущий вверх по реке Конде), Ягота-ика (речной старик) , Инкхоп-ика (водяной царь), которому бросают вводу печеный хлеб или погружают зарезанного петуха, выточив из него предварительно в воду кровь, чтобы рыбы больше он дал; Качерху-ика (в юртах Согомских), Сой, тоже в юртах Согомских, получивший свое название от утки-гоголя, который среди зимы появился в юртах и за это удостоился сделаться местным тонхом. В юртах же Согомских Меньше-Кондинской вол [ости] чтут еще Ортиха, как друга и помощника Турыма. Говорят, что изображение его хранится там в одном доме, в ящике, тщательно покрытом хорошим сукном; Менк — божество зла, лесной черт. Тонхи-богатыри, как наиболее древние и могущественные, пользуются наибольшим уважением. Есть множество тонхов более позднего происхождения: утонул ли, удавился ли, утерялся ли без вести человек, убит ли он — в большинстве случаев такой человек становился предметом поклонения под именем тонха, и в память его строится капище — небольшой амбарчик. Из предметов почитания заслуживает внимания, между прочим, шкура змеи (в юртах Согомских), отождествляющая собою самую змею; по понятиям остяков, [это] не тонх, однако и ей построено капище, куда приносят дары в виде не особенно ценных вещей. Свернувший опояску кольцом наподобие змеи и положивший эту опояску в вечный дар в капище уже на всю жизнь застраховывается от укуса змеи. Гагара также пользуется почитанием, и ей также выстроен в одних юртах небольшой амбарчик. Мяса гагары остяки и вогулы поэтому не употребляют в пищу. Огонь, вода, всякое деревцо, растущее вблизи капища, пользуются особым уважением и почитанием, для чего деревцо украшают разноцветными ленточками. Выше я сказал, что капища бывают семейные и общественные. Последние состоят в заведывании старосты, нечто вроде шамана, по-остяцки: ям-бизень-тобаза (староста общественного амбарчика). Должность эта почетная, получается преемственно от отца или ближайшего родственника и несется безвозмездно. Ям-бизень-тобаз — ближайшее лицо к тонху, он объявляет его волю, совершает обряд жертвоприношения, хранит жертвенные дары в капище и держит у себя от него ключи. Были случаи, что 8-летний мальчик нес эту почетную должность, унаследовав ее от отца. Жертвоприношения тонху делаются в случаях разных предприятий: охоты на зверей и птиц, перед началом рыбных промыслов, перед сбором ягод, чтобы тонх помог побольше собрать да, кстати, сохранить бы от зверя-медведя; перед поездкой куда-нибудь, в случае тяжелых заболеваний, когда все испробованные средства оказались недействительными. В этих и во многих других случаях испрашивается совет ям-бизень-тобаза, который, вникнув в обстоятельства дела и посоветовавшись якобы с тонхом, объявляет его волю о роде и ценности дара, который тогда или только обещается, или уже приносится в капище. В последнем случае даритель или его ближайший родственник, наполнив туяс браги, несет его в сопровождении старосты капища туда, захватив с собою назначенный дар. Он состоит чаще всего из медных денег, головного платка, бус, пучка разноцветных лент, шкурок белок, шкурки лебедя, выдры и др., присоединяется к прочей рухляди и висит там в течение года, после чего берется обратно и поступает в употребление только мужчинам. Ни одна женщина не посмеет надеть головного платка, даренного тонху. Женщинам воспрещен доступ в капища. Брага, постоявшая в капище, за время приношения дара становится как бы освященной; ею брызжут в стенах капища в знак угощения тонха, остальную берут обратно домой и угощают ею и ям-бизень-тобаза, и всех приходящих в дом, для чего туяс с ней ставят на стол. Заклания животных делаются или по обещанию отдельных лиц, в случаях, например, тяжких заболеваний, или по желанию целого общества известных юрт во время больших праздников или перед началом общественных предприятий: сбора ягод, лова рыбы и прочее, для чего жертвенное животное: лошадь или корова приобретаются вскладчину целым обществом. В этом и в другом случае животное подводится к дверям капища, окуривается дымом от пихтовой коры, ею же окуривается капище внутри и снаружи. Окуривание производит ям-бизень-тобаз с произношением случаю соответственных молитв и слов в духе язычества. Присутствующие, вооружившись длинными ножами, начинают по знаку ям-бизень-тобаза подходить один по одному к животному, нанося ему раны до тех пор, пока животное не изойдет кровью и не свалится с ног. Кровь эту собирают, кропят ею стены капища, льют в реку, на огонь, а остальную разносят по домам, также для окропления домов, хлевов и амбаров. Часть мяса варят тут же для общего обеда, а остальную делят и разбирают по домам.
Медведь, как грозный царь кондинских лесов, вселяющий к себе страх, пользуется тоже уважением и почитанием. Шкуру убитого медведя торжественно встречают выстрелами из ружей до 10 раз и на первых же парах, поочередно подходя, целуют ее в морду, затем не менее торжественно вносят в дом, но непременно через выставленную раму, мысленно приговаривая: «Как идешь ты, так и пройдешь сквозь наш дом, не задевая его». Внесенную таким образом шкуру помещают в деревянном или сделанном из бересты корыте (чуман), причем лапы и морду выпрямляют и вытягивают. Корыто ставят в передний угол перед столом, на котором бессменно стоит большой туяс с нарочито сваренной брагой для угощения как, самого медведя, так и приходящих на торжество; помимо браги ставится на стол еще хлеб или блины все с той же целью угощения зверя. На вытянутую морду шкуры и лап кладутся медные и серебряные деньги, на шею надеваются бусы, ленты и кольца — на ногти лап. К потолку подвешивают колокольчик, в который то и дело звонят, все для развлечения и увеселения медведя. В таком порядке шкура остается все время, пока собравшиеся мужчины, женщины и молодежь поют и пляшут в комнате перед чуманом со шкурой. Для большего эффекта пляшут на одной доске под однообразные звуки торнобая (музыкальный инструмент в 4 струны), журавля (в 6 струн) и гармоники. В первый раз входящий не прежде может стать участником торжества, как при входе опрыснут его водой; опрыскивают также время от времени пляшущих, так что под конец пол в комнате становится положительно залит водой.
Предусмотрительные хозяева дома специально нагревают для такого случая несколько кадок воды. Много шума, смеха, веселья и песен поется при этом. Весь смысл песен клонится к извинению перед медведем за его якобы невольное убийство. Вот одна из них в вольном переводе: «Прости нас, не сердись на нас, не мы тебя убили, убил русский: он придумал порох и дробь. Если увидишь нас в лесу, не шевели, уйди от нас, откуда выходит солнце. Если убьем тебя, то не своей волей, — Бог велел». Если это шкура самца, то празднество и веселье продолжаются 5 дней, самки — 4 дня, после чего шкуру выносят из дома, но уже дверью, приговаривая опять: «Как идешь ты, так и пройдешь сквозь наш дом, не задевай его», — при этом стреляют от 4-5 раз, смотря по тому, была ли [то] шкура самца или самки. Богатый остяк, владетель шкуры, несет ее на год в дар тонху, бедный же — на 4-5 дней и потом уже продает ее.
Там, где похороны совершаются в отсутствие священника, умершего мужчину одевают в лучшее платье, какое он имел при жизни: армяк, кафтан, зипун и проч., перепоясывают опояской, на ноги надевают сапоги или бродни? на голову — картуз или шапку, смотря по времени года. В таком виде кладут его с протянутыми руками в гроб, при этом не забывают положить с покойником кисет с табаком, набитую табаком трубку, табакерку, спички или огниво в том предположении, что покойнику все это понадобится. Могилу копают неглубоко: в уровень с сердцем в стоячем положении человека могила готова, и гроб с разными причитаниями в нее опустили, кладут на гроб лук, стрелу, весло, лопату и некоторые другие вещи, без которых покойный не мог обходиться в повседневной жизни и которые ему там могут также понадобиться. Умершую женщину, как и мужчину, одевают также в лучшие платья, украшают голову разными лентами, шею бусами, руки кольцами; в гроб с покойницей кладут также кисет с табаком, табакерку, бумагу или трубку, смотря по тому, что больше любила при жизни покойная, и непременно веретено. На свежую могилу поливают брагу и посыпают табаком, что повторяется и при последующих посещениях. По возвращении домой мужскую или женскую рубаху набивают разным тряпьем, и сделанный таким образом болван, изображая собою умершего, ставится куда-нибудь к стене. Если болван изображает мужчину, то на него кладутся лук и стрелы, если женщину, то веретено. Поминки состоят в угощении собравшихся блинами, чаем и брагой, а у богатых — водкой; кроме того, пекут из теста изображение солнца, стрелы и лука, когда поминают мужчину, месяца, солнца и веретена, когда женщину; это уже исключительно для обмывавших тело покойника.
Не забывается при этом и болван, которому ставятся все эти угощения на плечи или на особо прилаженный перед ним столик. Поминки по умершим справляются до 5 раз в год. В течение поминального года овдовевший супруг или супруга каждую ночь кладет с собой на постель болвана, обнимает и целует его в твердой уверенности, что душа покойника видит все эти ласки и угождения; утром же болван снова приводится в порядок, одевается в лучшие платья, украшается разными безделушками и ставится на прежнее место до вечера. Во время чая, обеда или ужина болвану предлагаются все угощения со стола. Ни один из овдовевших супругов не может по обычаю вступить в новое супружество до истечения года.
Остяки и вогулы Кондинского края при выборе невесты платят отцу ее калым. Пока весь калым не будет выплачен, дочь остается у отца. У бедных часто из-за калыма расстраиваются свадьбы. Незаконные сожительства во избежание хлопот и затрат по свадьбе, а также по бедности, очень здесь часты.
Здешние остяки, или, как они называют сами себя, «хан да», управлялись в прежнее время своими князьями, из которых в памяти народной сохранились имена двух вогульских князьков: Нахрача Ефгеева и Сатоги; первый — в селе Нахрачинском, второй — в Сатогинском нынешнего Туринского уезда. Род обоих князей существует до сих пор.
Одежда мужчин ни в чем не отличается от одежды сибирского простолюдина, равно как одежда женщин; впрочем, у этих последних сочетание ярких цветов, особенно красного и желтого, преобладает над другими. Старые остячки и вогулки носят еще красиво расшитые холщовые рубашки и наравне с молодыми вплетают в косы «пенчи» (довольно красивые подвески из мелкого бисера).
Пища остяков, как и вогул, состоит преимущественно из рыбы в сыром, мерзлом и вареном виде, лосиного, оленьего, иногда медвежьего, конского, нередко протухшего мяса; летом пищей служит перелетная птица. Особенное же из рыбы лакомство составляют «варка» и «поземы». Варка приготовляется из рыбьих брюшков и кишок, густо уваренных в рыбьем жиру, а поземы делаются из хребтов распластанных щук, вывяленных на солнце. Остяки и вогулы очень любят водку и напиваются ею без меры, чем пользуются русские торгаши при покупке их товара или продажи своего.
Прежние остяки и вогулы имели кроме зимних юрт еще и летние, куда они выезжали на целое лето для рыбных промыслов со всем свои домашним скарбом, но нынешние остяки давно забросили такие юрты, ограничиваясь, как и русские, кратковременными для промысла отлучками.
Здешние остяки трудно понимают наречие своих обских соседей-остяков, а эти, в свою очередь, с трудом понимают кондинских.
Остяки, как и вогулы, добросердечны, гостеприимны и честны, но только в отношении неприкосновенности к чужой собственности (за исключением водки); чувство дружбы и благодарности им не понятно. Остяки и вогулы живут между собою мирно, убийств между ними не бывает; своим беднякам помогают, а потому между ними нет нищенства. Остяки и вогулы имеют свои национальные музыкальные инструменты: тарнобай и журавль, которые, однако, вытеснены русской гармошкой. Музыка и пение весьма монотонны.
Хороших голосов, как между мужчинами, так и между женщинами, нет. Национальный танец также вытеснен русским трепаком и сохранил свою первобытность только в самых глухих и отдаленных юртах. Везде и во всем сказывается влияние русских. Остяки, как и вогулы, роста и сложения среднего, голову имеют большую, лицо плоское, скуластое и смуглое, с небольшой растительностью на подбородке. Между ними нет красивых. Особенно непривлекательны остяцкие женщины, как замужние, так и девушки, с их плохо развитым торсом и тазом, а также тонкими ногами с чуть заметным признаком икр, зато волосы цвета воронова крыла часто поражают у женщин своею длиною. Умственные способности ниже среднего. Впрочем, вогулы теряют свой первоначальный тип от кровного родства с русскими, последние чаще и охотнее вступают в это родство с вогулами, чем с остяками, вероятно, вследствие большей культурности первых.
Вот сюда-то в этот край и предстояло мне совершить поездку. В жаркий июньский полдень в небольшом трехвесельном каюке [я] выехал из села Реполовского. Миновав устье Реполовской протоки, мы поехали на юго-запад старой рекой, а через час были уже у устья реки Конды, впадающей в старый Иртыш. Очень заметно, как темного цвета вода Конды врезывается и отделяется здесь от мутно-молочного цвета воды р. Иртыша. Вода в реке Конде имеет мягкий и приятный вкус. Скоро нам на левом берегу Конды повстречалась группа рыбачьих избушек. Это русские крестьяне выезжают сюда с весны для ловли рыбы самоловами — переметами, режевками и др.
Инородцы уверяют, что «ловушки» крестьян вредно отзываются на промысле рыбы в р. Конде, преграждая рыбе путь из р. Иртыша. Это же самое я слышал впоследствии от более компетентных лиц. Мы проехали еще с версту, и перед нами — огромное пространство воды, в которой и затерялась р. Конда. Это Кондинский сор, о котором я много слышал от своих кондинских знакомых, когда в маловодье им приходилось «путаться» в этом сору, отыскивая русло реки. Направление русла, к сожалению, ничем не бывает отмечено. Знаки по распоряжению властей ставятся только для парохода, который в последние годы каждое лето один раз привозит сюда муку в казенные хлебозапасные магазины для инородцев. Знаки эти скоро сами собой уничтожаются.
Нам же незачем было искать русло, потому что вода была в полном разливе, и мы могли ехать по прямому направлению, не рискуя попасть на мель. Говорят, что сор этот около 75 верст длиною, не менее 5 [верст] шириной.
День был совершенно тихий. На сору ни рябинки. Сор, как громадное зеркало, лежал перед нами с опрокинувшимися в него сосновыми рощами, которые группами тянулись по обоим берегам. Там [сор] на полдень сливается с горизонтом, на котором чуть заметными пятнами обрисовывались рощицы. Солнце уже близилось к закату, когда мы приехали в юрты Реденькие на левом берегу сора, на плохо вычищенном мысике которого вглубь и в стороны ушел древний лиственный урман. Здесь всего только две убогих лачуги, в которых живут земские ямщики, специально только для того выезжающие на лето из соседних Каменских юрт. Я отпустил реполовских ямщиков обратно и решил здесь переночевать. За чаем хозяин той хаты, где я остановился, рослый остяк Алексей, исполнявший кроме всего, как я узнал потом, почетную должность ям-бизень-тобаза, рассказал мне, как лет пять тому назад, когда еще муку в Конду возили не пароходом, как нынче, а своесильно на барке, приходилось маяться на этом соpy во время бури, когда барку то и дело бросало на мель. Для сплава барки вызывалось около 70 человек с обеих волостей. В жару, на солнцепеке, в тучах овода приходилось тянуть барку завозом*3. Иногда могли уйти только 2 версты в день. От устья Конды до Нахрачинского требовалось не менее 1,5 месяца! В лачуге Алексея было тесно и семейно, но делать нечего; я хотел было устроиться прямо на полу, но хозяин, показав мне на щели, сказал, что были случаи, когда к ним пробирались змеи. Я кое-как устроился, но ночь провел плохо: и жарко было, и комары не давали уснуть. На заре я услышал говор и крики. Я вышел на берег сора и увидел, что по нему тянулась целая вереница плотов с лесом. Плоты эти плавили из соседнего урмана на Иртыш. Напившись чаю из грязного самовара, рано утром мы вышли к лодке, чтобы ехать дальше. Толпа чумазых ребят и несколько грязных баб были уже тут. Дул довольно холодный северо-восточный ветер; на спокойном вчера сору похаживали «бычки». Все-таки ветер был нам попутный, и мы, натянув паруса, поплыли со скоростью парохода. На правом берегу сора, при впадении в нее речки Чилимки, на отлогом скате, под сенью великолепной сосновой рощи я заметил хижину. В ней зиму и лето живет семейством остяк из Цингалинских юрт, некто Тусматов, выморочный потомок владетелей огромных рыболовных и ягодных вотчин, простирающихся на несколько десятков верст в диаметре. Остяки прозвали его помещиком. Немного требуется вотчины такому ленивому помещику, как Тусматов, а потому остальную он сдает в арендное пользование русским, которые, зная слабую сторону помещика, сначала его угощают водкой, после чего тот уже становится податливее.
На левом берегу сора, почти против Чилимкинских юрт, виднеются около 10 остяцких избушек. Сюда с наступлением половодья приезжают со всем своим скарбом владетели этой вотчины, остяки юрт Красноярских, и живут тут до самой «страды», занимаясь ловлей рыбы неводом, сетями и режевками, охотой на оленя, изредка — на медведей. Мы заехали на Урвант, как называется это временное поселение. Кто занимается починкою неводов, развешанных на вешалах, кто починкою обуви, а кто так без всякого дела толкается от группы к группе, посасывая трубочку.
Рыбные отбросы, валявшиеся на солнцепеке около ступенек и под ступеньками крылец каждой избушки, распространяют от себя невозможный запах гнили, но никто на это не обращает внимания. На вопрос мой, какая рыба ловится в этом сору, остяки отвечали: язь, щука, налим, чебак, окунь, карась, нельма, случайно заходит из Иртыша сырок и стерлядь, осетр же никогда. Через 0,5 часа мы двинулись дальше. Ко времени полдня заметно стало, что сор начал постепенно суживаться и наконец перешел опять в русло реки Конды, которой мы и отправились. До Каменских юрт оставалось всего около 15 верст. Вправо от нас — обширная луговая равнина, влево — береговой кряж Конды, заканчивающийся неподалеку высоким и крутым мысом, поросшим вековыми соснами. <…>
В Каменских юртах мне очень хотелось повидать одного старого остяка, который, как говорят, знает много старинных остяцких песен, былин, сказаний и легенд, но старик во время моего проезда был, к сожалению, болен.
На пути из Каменских мы завернули в юрты Алтайские (5 дворов). И тут, как в Чилимкинских, живет «помещик» некто Тундыков, владеющий на огромном пространстве прекрасными ягодными борами, рыболовными речками и сенокосами. В ягодные урожаи Тундыков получает с русских одних арендных не меньше 200 руб. Этого мало: арендаторы по условию выделяют ему пай ягод, рыбы и обязуются поставить достаточное количество сена. Сам «помещик» целое лето почти ничего не делает и обыкновенно угощается за счет своих арендаторов. Он бездетен, и со смертью его вотчина, как выморочная, поступит в пользование общества Меньше-Кондинской волости. Такая вотчина, под названием Шейминская, имеется у общества. Дом «помещика» покрыт драньем, состоит из двух половин, одну из которых мы и зашли. Среди пола, на котором были разбросаны разные тряпки и обрывки мережи, сидела слепая, с бельмами на глазах, старуха и тянула нитку. За перегородкой возилась грязная баба — жена «помещика», тоже больная глазами. Всюду грязь, нечистоплотность и бедность. Скоро пришел сам «помещик». Небольшого роста, чернявый, подслеповатый, очень невзрачен. Апатия и непобедимая лень очень ясно отражаются на его лице.
Было уже очень поздно, когда мы приехали в юрты Красноярские, расположенные на правом высоком берегу старой Конды. В них насчитывается около 25 домов; неуклюжие, высокие, иные массивные, дома эти производят впечатление руин: все в них вкось и вкривь. Красноярские остяки пользуются репутацией зажиточных, и, в самом деле, в числе их есть даже денежные торгаши, которые не хуже русских «купцов» прижимают своего же брата остяка. В версте ниже юрт — «городок». Здесь, в Красноярских [юртах], я приобрел несколько старинных медных монет сибирского чекана от 1763-1811 [гг.]. Монеты эти, как говорят сами остяки, разошлись по рукам из амбарчиков, где они служили прикладом разным тонхам.
Переночевав в Красноярских [юртах], рано утром мы отправились дальше. Следующие юрты — Байболинские, расположенные на правом же берегу реки Конды, и состоят всего из 6 домов. В Байболинских [юртах] мне удалось записать следующую легенду. Богатырь (вероятно, Байбала) вот тут неподалеку в бору брал со своей девкой (дочерью) ягоды и вдруг увидел, что снизу из-за мыса показались лодки с несметным количеством войска. Богатырь смекнул, что дело тут неспроста, идут, стало быть, отнимать у него девку. Взял тогда богатырь, натянул лук и стрелил по войску. Стрела пролетела сквозь бор и скосила все деревья, какие ей повстречались. И с тех пор сделалась на том месте прогалина, которая видна до сих пор. Затем взял Байбала под мышку лодку и пошел дальше в бор. На пути его повстречался сор, который богатырь наскоро переплыл, и, выходя на берег, [он] громадное весло свое вонзил в землю так глубоко, что едва его было видно, при этом богатырь промолвил: «Тот меня победит, кто вынет из земли это весло». Что же с ним дальше сталось? Он ушел к Иртышу под Цингалинские юрты, выбрал там в болоте большую кедру, влез на нее, сел на сук и окаменел. Старики говорят, что некоторые из них видели окаменевшего Байбалу. Вынул ли кто весло из земли и что сталось с красавицей (непременно красавицей!) дочкой чудного богатыря, легенда умалчивает.
Миновав затем Кельсинские [юрты] (лев[ый] б[ерег] Конды, 8 д [воров]), Сиглинские (лев. б. Конды, 7 д.), Богдановские (лев. б. Конды, 7 д.), утром следующего дня мы ехали в село Болчаровское, расположенное на правом высоком берегу р. Конды. По крутому косогору, заваленному кучами навоза, мы поднялись в село. Село небольшое, в нем всего 33 дома, в числе которых 20 русских. Состоит [село] всего из одной кривой улицы, нескольких грязных проулков и площади к бору, на котором церковь, дома причта, училище и волостное правление. В селе, кроме того, [имеются] временно фельдшерский пункт, лавка обществен, потребит, инородцев и хлебозапасный магазин.В общем, село производит впечатление относительной зажиточности, по крайней мере, в сравнении с селами Нахрачинским и Леушинским, но чистоплотность жителей, грязь и зловоние от разных нечистот в некоторых местах улицы и проулков решительно не отличают [это] село от двух первых. Самые распространенные фамилии здесь: Ендины, Чашовы и Нялины. Родоначальником первых был, как говорят, какой-то Пензарь, названный при крещении Терентием. Неизвестно, к какому времени относится возникновение Болчарова и даже крещение Пензаря. Вскоре после его крещения по распоряжению властей были вытребованы сюда Чашовы, в подмогу для отбывания подвод. Чашовы жили до того оседло при речке Могатке в 6 верстах от Болчарова. Надо полагать, что Нялины приехали сюда далеко позднее, вероятно, из юрт Нялинских (Ахтоминских тоже в пределах нынешней Самаровской волости).
Здесь я познакомился с местным священником X. из диаконов Курганского уезда. В разговоре со мною пастырь жаловался на равнодушие инородцев к церкви.
— Вот видите, — указал мне батюшка на столб против одного дома, когда мы с ним шли по улице.
Я взглянул на столб и увидел, что ветхий, накренившийся столб ничего особенного не представлял, кроме того, что на нем была вверху поперечная резьба да ветхая кровелька.
— Что это значит? — с недоумением спросил я батюшку.
— Да вот это и есть их остяцкая святыня, — отвечал мне батюшка. — Нынче-то оно, конечно, помаленьку все это выводится, а взять эдак лет 15-20 тому назад: ведь каких они только безобразий ни творили у этих столбов! Съедутся, бывало, в Петров день на праздник; первое дело покупают в складчину корову или даже несколько и привязывают ее вот к этому столбу и режут с разными истязаниями, мясо варят тут же в громадных котлах и едят, а кровью брызжут стены в домах, в хлевах и амбарах. Все это проделывается с произношением их молитв и сопровождается истреблением нарочито для того сваренной браги, вина, а в конце концов песнями, ссорой, дракой и чижовкой. Немного уж осталось этих столбов, и те бы надо по-настоящему убрать с виду, да все как-то не хочется восстанавливать против себя прихожан, все равно, думаю, сгниют и сами свалятся, к тому же и безобразия около них не повторяются: боятся все-таки начальства.
— А молодое поколение как? — снова спросил я батюшку.
— Все одно что и старое, кланяются своим шайтанам, а спросите из них любого, скажет: нет, ведь это было в прежние годы, у стариков.
— А посещают ли богослужения?
— Какое там посещают, — с раздражением в голосе сказал X. — Я вот скажу, если бы не русские, так, пожалуй, и сам в церковь не заглядывай.
— Говеют ли, по крайней мере?
— Говеть говеют раз в год, да что толку-то в этом говении, когда из-под палки через волостных собирают.
— Трудно, я думаю, батюшка, исполнять вам требы в таком разбросанном приходе, как ваш?
— Нет, ничего, — отвечал батюшка. — Больных для напутствования обыкновенно привозят сюда, и младенцев для крещения тоже. Есть, впрочем, у меня в приходе две юрты, куда летом не попадешь: ни на лодке, ни пешком, ну так там дело без меня обходится. Здесь ведь в каждых юртах свои кладбища, так что умершего, если случится, сами похоронят, а младенца оставят некрещеным до зимнего пути. Похоронят, разумеется, согласно со своими языческими обычаями, да уж ничего с этим не поделаешь.
Это же самое пришлось слышать мне от священников вогульских приходов, которые также жаловались на равнодушие прихожан к церкви, на косность в язычестве, на непочтительность к духовным лицам и на разбросанность приходов, а в общем — на отрезанность от остального мира, на глушь, на тоску существования, на дороговизну жизненных припасов, на недобросовестность местных торгашей, которые рады «с живого кожу содрать», и т.д.
Что же можно сказать после этого о волостных писарях, учительницах, псаломщиках и фельдшерах, получаемое содержание которых, применительно к местным условиям, без преувеличения можно назвать нищенским. Разговаривая с батюшкой, мы незаметно подошли к небольшому пятистенному зданию на площади против церкви. Это министерское училище, существующее здесь около 5 лет. Около училища ни амбара, ни погреба, ни ограды. Само по себе оно тесное и холодное, даже не вентилируется, если не считать двух небольших отверстий в стенах, замкнутых тряпками. Средняя годовая цифра учащихся — около 15 человек, считая в том числе и русских. Ученье начинается поздно осенью, а кончается для многих учеников рано, так как родители, потворствуя понятной неохоте детей к классу, при наступлении тепла, весной, отбирают их под разными предлогами из училища задолго до экзаменов. Видно, что грамота, как дело огромной важности, не пользуется здесь почетом.
Кроме того, здесь имеется временно фельдшерский пункт, утвержденный правительством пункт в селе Нахрачинском, как более центральном в фельдшерском участке. Фельдшер на две волости: на Меньше-Кондинскую и Кондинскую. Для пункта высылается ежегодно медикаментов на 75 руб. из средств губернского земского сбора. Принимается фельдшером ежегодно около 1500 посещений. Контроля за деятельностью фельдшера почти нет, если не считать приезда врача один раз в год. Фельдшер не нахвалится своими пациентами, которые, по его словам, с полным доверием обращаются за медицинской помощью и исполняют предписания не «мудрствуя». Бывали случаи курьезных недоразумений вроде того, что внутреннее лекарство больной употреблял снаружи и наоборот; без этого пока, кажется, не обойдешься, когда в юртах, напр., приходится фельдшеру прибегать к помощи даже переводчиков, так же не понимающих его, как и больной. Знахарства, как уверяет тот же фельдшер, здесь почти нет, и немногие случаи его не сопровождаются применением столь опасных средств, как сулема, киноварь, кровавые банки и вообще кровопускание, ставшие традиционными средствами в русской деревне. Все почти остяки и вогулы страдают трахомой, излюбленным средством против которой является крымза; сера «горячая» в большом ходу против «грыжи», каковым термином обозначаются все болезни живота. Остяки и вогулы Кондинского края дают, в сравнении с русскими, значительно больший процент слепых. Очень жаль, что здесь, в Конде, нет приемного для больных покоя, потребность в котором ощущается сильно ввиду отдаленности лечебницы, особенно летом, когда прямое сообщение с ближайшими сельскими лечебницами прекращается. Желательно было бы еще и акушерку, а то остячки и вогулки остаются решительно без всякой разумной помощи во время трудных родов и женских болезней. Да, в сущности, фельдшера-то одного маловато, если принять в расчет населенность его участка в 3000 человек и разъезды в летнее время – с одного конца участка до другого 800 верст.
Беседуя вечером с батюшкой о разных разностях, мы незаметно для себя вернулись опять к прерванной теме о религиозном культе остяков и вогулов.
— Слыхали вы, — обратился ко мне батюшка, — что в Нахрачах и поныне есть потомки тамошнего князька, некто П-ны?
— Да, — подтвердил я.
— Ну, вот тоже, я вам скажу, артисты. Съедутся… бывало в Петров день вогулы с разных концов волости, далее остяки с Оби, эти-таки прямо нарочито приезжали, и все к П-ным. Там уже готова брага. Сам старик П-н сядет за стол в передний угол, старуха рядом. Она одета во что-то белое, сидит неподвижно, как мумия египетская. В горнице душно и тесно от народу. Один по одному приезжие начинают подходить к столу и благоговейно класть перед старухой привезенные дары: ситец, шали, платки, башмаки, деньги и проч. Старуха все время сидит неподвижно, но когда количество наложенного дара покажется ей достаточным, она встает с лавки, на которой сидела, и потчует дарителя стаканом браги с подноса, — и опять мумия, опять дары. Так вот, я вам скажу, мой предшественник проучил-таки одного из княжеских потомков.
— Как проучил? — спросил я.
— Да очень просто: законопатил в тюрьму на 3 месяца — и делу конец.
— Вот как, да за что же?
— Да вот за это самое. Есть, видите ли, у них один пьяница, плюгавый такой вогулишка, и повадился он каждую зиму ездить к обским остякам, и проделывал он там то же самое, что и в Нахрачах эта самая старушенция. Мало того, там он шаманил, завораживал дома от змей, привораживал и отвораживал влюбленных, врачевал больных, ну, словом, проделывал разные глупости в лучшем виде, и каждый раз возвращался оттуда с провизией и другими дарами, в виде лошадей и коров. Добром его предупреждал мой предшественник, но тот и слушать не хотел. Наконец, однажды он накрыл его в дороге, когда тот возвращался с Оби, накрыл его с поличным и предал суду. И что вы думаете? Ведь неповадно стало им с тех пор шляться и морочить людей, да и в Нахрачи-то уже больше не стали съезжаться с дарами.
Окончание следует…