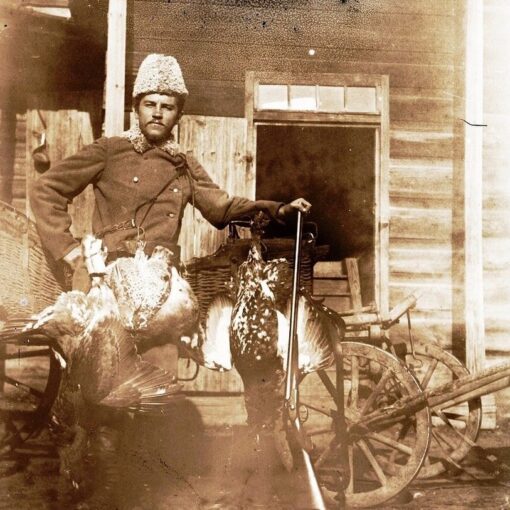Носилов К.Д.
Когда я путешествовал у вогул, жил в Оронтур-пауле в вершине реки Конды, в мою маленькую невзрачную юрточку часто заходил один слепой вогул по имени Савва.
Услышит, что я сижу один в юрте, кликнет маленькую девочку, возьмет свой костыль, и та поведет его ко мне в юрту. Подойдет старик Савва к юрте, приотворит дверцы, просунет седую лысую голову и спросит, можно ли зайти. Я никогда не отказывал ему в своем гостеприимстве. Скажешь: «Зайди, зайди, дедушка», — он затащится, пыхтя, в избу, поздоровается, сядет на голый пол и протянет свои старые босые ноги.
Седой, с парой маленьких кос, как у наших старых пономарей в былое время, с открытым добрым лицом, приподнятым к свету, с крупными морщинами на нем, в белой рубахе, с берестяной табакеркой в руке, в полосатых штанах, с маленькой седенькой бородкой, без усов, с протяжной ровной речью, на полу моей комнаты, он представлял такого типичного, оригинального старика-вогула, что так и просился на желатин фотографической пластинки. Он был бедный: его старая юрта давно уже одиноко стояла на берегу озера, посещаемая только зайцами да ребятами; его вотчина – громадная вотчина с непроходимыми лесами, громадными озерами, речками и угодьями для рыбной ловли и зверя. Давно уже ждала его смерть, чтобы стать выморочной — и давно уже его не кормила, так что он уже несколько десятков лет как состоял на руках общества, вместе с своей старухой, живя порознь там, где укажет им сердобольное общество, в какой-нибудь семье богатого вогула. И мне не раз приходилось поэтому видеть, как бредет через озеро Оронтур по льду с костылем его старуха, идя в наши юрты попроведать своего старика, или как отправлялся он опять к ней в сопровождении своей маленькой, такой же бедной, как и он, всей в рямках, черненькой внучки — маленькой вогулочки.
Я любил этого слепого старика за его радушие и простоту и особенно всегда был рад его посещениям, — такой они всегда оставляли значительный след в моих дневниках.
Он же любил заходить ко мне, вероятно, потому, что я обязательно каждый раз не забывал давать ему маленькую пачку нюхательного табаку, который был в их лесах настоящей редкостью.
Зайдет ко мне в юрту Савва, я двери опять на крючок, как я имел обыкновение делать, когда занимался, во избежание частых посещений лакомых до моих конфет ребятишек, которые таскали мне с берега разные черепки доисторического человека, сяду за стол, возьму карандаш и начну расспрашивать старика Савву, как прежде жили вогулы, как прежде они воевали с русскими и самоедами в этих лесах.
Старик Савва прекрасно знал про старое время, и, кроме того, что видел сам своими глазами в жизни в своих лесах, он обладал еще такой замечательной для его старости памятью, что из слова в слово передавал интересную былину про старое время и знал их такое количество, что мне по горло было с ним работы.
Знал ли он, что я записываю все его слова карандашом на бумаге, я не знаю; я стеснялся говорить сам ему об этом, другие, благодаря запертым дверям, этого не могли видеть и ему передать, но я полагаю, что он не только не знал, что я делаю, сидя у стола и шелестя бумагой, но даже не имел понятия о том, как пишут.
Это было крайне выгодно для меня; он не стеснялся в своих повествованиях и порой, увлекшись, даже передавал мне такие вещи о своих богах, что я полагал, что он забывал, кому он рассказывал это своей ровной речью, вероятно, думая, что перед ним сидит свой брат вогул.
Другой раз, проговорившись, очнувшись, старик было спохватывался, что сказал лишнее постороннему человеку, и начинал просить меня, чтобы я как не сказал этого вогулам, которые и так подозрительно посматривали на наши беседы; но я говорил ему, что буду молчать, скоро совсем покину их юрты, и он живо успокаивался и продолжал свою ровную речь, отдаваясь вполне воспоминаниям того, что он когда-то знал и видел в своей жизни.
И сколько таинственного я узнал от этого старика про жизнь и верования вогулов, сколько я записал с его слов былин и сказок, сколько узнал секретного про их богов, которые спрятаны в их лесах и ждут себе кровавых жертв от человека.
Раз даже, благодаря указаниям, я сам тихонько сходил с моим спутником на соседний мыс озера Орон-тур посмотреть одно место жертвоприношений; в другой раз — по его словам — мне тихонько доставил один его родственник за полтину целого старого идола с реки Конды, который был так уже стар, что ему вот уже пол столетия никто не хочет приносить жертвы.
С этим идолом в виде целого полена, с изображением глаз и громадного носа, который весь уже обуглился от времени, чуть мы даже не привлекли на себя со стариком опалу, но, к счастью, я успел защитить старика, сказать, что я нашел его на берегу реки Конды, гуляя раз вечером, и принес в свою юрту.
Это обстоятельство так повлияло на старика, что он смело доверял мне самые тайные вещи про верования, и раз мы целый день просидели с ним, запертые в юрте, к общему удивлению вогул, которые решительно недоумевали, что мы делаем, сидя весь день запершись в юрте.
Между тем в этот счастливый день моего дневника мы разговаривали со стариком о «серебряной бабе».
Слушая его рассказ про разных богов, как их зовут, где они скрыты, кто их караулит, чем они все замечательны, мне как-то пришло в голову спросить старика, не знает ли он что про знаменитую «золотую бабу», которую еще во времена Стефана Великопермскаго, когда крестились пермяки и зыряне, перенесли язычники за Уральский хребет, чтобы скрыть от христианства.
— Знаю, знаю, слыхал, — ответил мне старик Савва и стал рассказывать мне все, что он знал про «золотую бабу».
— Она не здесь, но мы ее знаем. Она тогда же через наши леса была перенесена верными людьми на Обь; где она теперь, у остяков ли где в Казыме, у самоедов ли где в Тазу, я точно не знаю, но с той поры, как она здесь была, у нас остался с нее слиток — «серебряная баба», которая и до сих пор хранится у одного вогула в самой вершине нашей реки.
Это меня страшно заинтересовало, и я стал расспрашивать старика про «серебряную бабу».
— Где она хранится, дедушка?
— Она в Ямнель-пауле; юрты есть такие, еще выше нас по реке, в самой вершине Конды. Прежде там было еще когда-то несколько домиков; жил один-другой вогул, но все уже давно вымерли. Теперь там всего только одна старая юрточка, и живет в ней давно уже последний вогул-старик. Умрет он, перестанет и гореть огонь в чувале этих юрт, кончится и род ямнелов.
— Далеко она от Оронтур-пауля?
— Далеко — недалеко; прямо лесами в один день можно на лыжах перебежать, да летом попасть в нее только трудно; нужно рекой ехать да озерами, и поезжай так, разве-разве на третий день туда попадешь, если не заблудишься!
— Как же этот вогул ездит к вам?
— Он вовсе и не ездит, никогда и мы, почитай, к нему не ездим, разве-разве когда промышленник какой за лосями весной погонится да забежит в его юрту или за бобром отправится в его речку, а то годами мы совсем и не знаем, как он там и живет, жив ли.
— Как же он живет там, не видаючи человека?
— Как живет? Так и живет, как прежде жили вогулы. Живет себе, ловит зверя и птицу, питается и одевается, муки, хлеба ему не нужно, чай он наш не пьет, подати мы за него заносим, в общество служить не зовем, знаем, что человек он нужный — «серебряную бабу» нашу хранит; так и живет.
— Ты видел ее, дедушка?
— Не раз, не два видел на своем веку… — ответил Савва.
— Какая же она?
— Серебряная…
— На кого же походит? Как сделана?
— На бабу походит, бабой и сделана…
— Одета?
— Нет, голая… Голая баба — и только… Сидит. Нос есть, глаза, губы, все есть, все сделано, как быть бабе…
— Большая?
— Нет, маленькая, всего с четверть, но тяжелая такая, литая; по «золотой бабе» ее и лили в старое время: положили ту в песок с глиной, закопали в землю, растопили серебра ковш и вылили, и обделали, и вот она и живет…
— Где же она у этого ямнельского вогула хранится?
— В юрте хранится, в переднем углу. Как зайдешь к нему в юрту, у него в переднем углу полочка небольшая сделана, занавесочкой закрыта, за ней в ящике старом она и сидит. Сидит у стенки, голая, и смотрит.
— Показывает он всем ее?
— Нет, что ты, как можно казать ее всем; русскому не покажет ни за какие деньги, да русский там сроду и не бывал, он только до наших юрт — и то с трудом доезжает; даже вогулу другому — и то показать нельзя.
— Отчего же?
— Всякие ныне и вогулы стали; другой только и караулит, как бы бога какого обокрасть; сколько богов у нас уже в лесах пропало, и серебро с ними, и вещи старинные, и шкурки.
— Отчего же вогулы обкрадывают богов?
— Отчего? Изверились в них. Другого бога ни во что не ставят, ругают еще, что не помогает; есть, вон, другие: сделает себе бога, поставит в юрту, оденет его, начнет кормить и мясом, и салом, и почками; станет просить его, когда пойдет на охоту, чтобы он зверя ему нагнал, соболя; пойдет в лес, ходит, ходит неделю: ни ему зверя, ни ему птицы какой; рассердится, приедет в юрту, выпорет вицей своего бога и опять посадит в угол. Случается, после этого бог его послушает, случается — нет. Смотрит, смотрит вогул на него, видит — пользы нет: вытащит из переднего угла и бросит в воду – плыви куда хочешь, если добром не живешь в юрте… Вот как с ними иной наш брат расправляется, — как же теперь не найдутся такие люди. Которые совсем не верят в богов и только обворовывают их? Вот почему мы и скрываем таких богов даже от своего же брата вогула.
— Но других же пускает этот ямнельский вогул осмотреть «серебряную бабу»?
— Редких пускает, редким показывает — открывает занавеску тем, которых только хорошо знает, а другие хотя и приходят к нему нарочно с дарами для «серебряной бабы», чтобы попросить ее о чем-нибудь, такте помолятся на занавеску, приложат шкурку, серебро старинное — и уйдут.
— Нельзя всякому показывать эту бабу, — после маленького раздумья снова заговорил старик Савва. — Раз что было…
— Что?
— Украли эту бабу.
— Вогулы?
— Семка наш, из соседних юрт, что пониже…
— Как?
— Просто: зашел туда лесами, будто за бобрами или соболем, подкараулил, как старик вышел в лес из юрты, пробрался в юрту, сломал ящик и унес бабу…
— Неужели, дедушка?
— Верно. Унес и попу нашему сатыгинскому продал.
— Может быть, тот нарочно послал его за ней.
— Кто их там знает, только мы слышим — «серебряная баба» пропала; старик сам прибежал к нам ночью на лыжах. Подняли народ на лыжи, пошли следить и нашли старую лыжницу: прямо к Семковой юрте и привела лесом. «Ты украл, — спрашиваем, — “серебряную бабу”?» — «Я», — говорит, не отпирается. «Где она?» — «У попа, в Сатыге». Ну, не без того было, что поколотили его старики…
— Как же вы ее достали от священника?
— Выкупили.
— Как?
— Выкупили. Стали просить, дали ему десять лучших соболей — он и отдал. Только тарелку серебряную, старинную, что была приложена к «серебряной бабе» в старину, да деньги серебряные, старые рубли, не отдал.
— Что же вы Сеньке сделали?
— Что сделаешь ему? Поколотили — и только.
— И с тех пор «серебряная баба» опять в Ямнелях?
— Опять. Только теперь старик уж не расстается с ней и никого к себе в юрту даже спать не пускает — боится…
— Как же он на охоту ходит?
— С собою и в лес ее носит.
— С ящиком?
— Нет. Он ее завертывает в шелковый старый платок, вместе со старыми серебряными рублями: на одну сторону кладет четыре рубля, а на другую — три, завертывает ее с ними платком, кладет в небольшой мешочек из молодого лосиного уха и носит этот мешок на спине, когда охотится на зверя, вместе с натрусками и рожками для пороха и пуль… и спит с ним в лесу, и ходит.
— Чем же это «серебряная баба» замечательна?
— Она помогает сильно бабам: у нас ребят мало, народ вымирает, вот к ней за ребятами и ходят мужики, и жертвуют… И промыслом тоже помогает.
— Что же ей приносят?
— Больше шелковые платки, потом серебро она любит и шкурки дорогие…
— Куда же все это после идет?
— На нее идет; серебро кладут в ящик, шкурки стелят под нее, платками ее закрывают, окутывают.
— И она помогает?
— Сильно помогает: старик ямнельский каждую весну по 20, по 30 лосей убивает одних, соболей сколько промышляет, лучше всех нас он промышляет. Просит он ее — бабу.
— Куда же он с соболями?
— Жертвует ей; когда нам отдает за сетки и мережи, за порох и ружье, за разную провизию.
— Сам никуда уже не выходит?
— Никуда, он весь век прожил в лесу, не видаючи ничего на свете, так и умрет.
— Прежде, — начал он снова, — все вогулы так жили: живут себе в лесу, одинокие, ни они к кому- ни другой кто к ним; только и видались, когда сбегутся в лесу за зверем, или один зайдет в погоне за лосем к другому в вотчину и забежит в юрту на ночь или от погоды. И хорошо было: друг другу жить не мешали, ссор не бывало, народ был лучше, всякий ест свой кусок мяса, всякий ловит в своей реке и в своем озере, и только съезжались когда кто разве, редко-редко для общественных дел, да и то, бывало, съедутся раз лет в десять. Весь век вогул, бывало, живет в лесу со зверем и птицами; раздолье, везде было всего много, жить было легко, а теперь и зверя, и рыбы в лесу и в реке уменьшилось.
— Отчего же?
— Человек переменился, богов забыл. Вот та же «серебряная баба», разве она так жила бы теперь — без добрых людей и без приклада? А теперь разве-разве кто в десять лет когда нарочно к ней придет из дальних юрт, да что приложит, а прежде что было?
— Что?
— Как на праздник к ней собирался народ, наедет в Ямнель-пауль сколько народа, наведут оленей, навезут ей серебра, парчи, шелку, соболей, чернобурых лисиц, нашьют бабы ей одежды разной, изукрасят ее всякими дорогими вещами, поставят перед ней серебряные тарелочки с кровью и мясом и кланяются, просят… Целую неделю шумят в Ямнеле – настоящий праздник. И она помогала промышленникам, посылала и соболя, и лосей, и бобра, и белку. Бобра сколько, сказывали старики, около нее по урману, по маленьким речкам жило — пропасть: палками били, бабы малицы бобровыми шкурами обшивали, а ныне и белой собачьей шкурки у другой нет на подол, для прикрасы. Плохо стал жить народ, богов своих бросил, и они его покинули.
И старик Савва задумался, поник головой.
— Что же с этой «серебряной бабой» будет впоследствии?
— Что будет? Умрет ямнельский старик, и держать ее некому будет: нет у нас надежного человека, нет и надежного угла для нее в наших урманах.
— Отчего же?
— Вымер вогул, мало его стало, а какой остался, так тот не только ее хоронить, готов продать ее или переделать на вещи ради жадности. Вот, посмотри, кто-нибудь ее опять украдет и продаст русскому попу или купцу; купцы давно уже до нее добираются, знают про нее, слыхали; и когда-нибудь да добьются ее с нашим пьянством. Поди, напои вином того же опять Семку, и он непременно ее тебе скараулит и принесет. Отчаянный народ ныне, горе…
Но мысль подкупить вином Семку, которого я хорошо знал, как мне ни хотелось посмотреть «серебряную бабу» мне не понравилась. Я страшно был заинтересован этим идолом, мне хотелось его видеть, хотя [бы] сфотографировать; я и решился сам лучше попросить, добравшись до ямнельских юрт, этого старика, который вечно носит ее за спиной в лосином ухе, чтобы он показал ее мне добровольно.
И, отпуская в тот вечер старика Савву, я глубоко задумался о том, как это сделать, и решил сам побывать в Ямнеле.
Но обстоятельства так сложились, что побывать мне самому на Ямнеле решительно не удалось: наступила весна, пришлось с вогулами идти на бобровые речки доставать для зоологического конгресса бобра, который был такой же редкостью этого края, как и «серебряная баба», и я вместо себя послал в Ямнель-пауль своего молодого спутника, которому поручил повидать «серебряную бабу».
Мой спутник ездил целую неделю на легком челноке и рекой Кондой, и озерами, и даже прямо лесами, так как разливы в этих местах заливают не только луга, берега, но и леса на десятки верст благодаря низменному месту, и во время весны прибрежные леса Конды стоят на сажень в воде: мне самому не раз приходилось ездить целые станции на лодках по тем дорогам, по которым я проезжал зимой прямо лесом. Мой спутник вдоволь насмотрелся на дикую природу, видел озера и реки, видел потопленные леса, бродил по урманам, видел свежие следы медведей и лосей, охотился. Даже осмотрел бобровые жилища, но совсем не видал старика ямнельских юрт, который на время половодья, оказывается, переселяется куда-то дальше в леса урмана, так как его юрточку топит водой в половодье.
Действительно, мой спутник нашел его жилище, окруженное водой разлива: бедная юрта была вся в воде, и он прямо заехал в челноке в ее сени, чтобы сделать визит божеству. В юрте не оказалось ничего замечательного, кроме пыли и грязи; в сыром чувале он с трудом развел огонь, чтобы напиться чаю и переночевать, и оставил эту юрточку на другой день с такой охотой, так она показалась ему негостеприимной, с какой, пожалуй, ему еще не случалось бежать от гостеприимства в этих лесах.
Спустя немного времени мне совсем привелось покинуть этот край, и где теперь «серебряная баба», жив ли старик ямнельских юрт — я не знаю.
Но будучи после того не раз на понизовьях Оби, видаючи и расспрашивая казымских остяков, выезжающих летом на Обь для рыбной ловли, расспрашивая и самоедов далекого Ямала, я, как мне ни хотелось, ничего почти не мог узнать положительного о существовании «золотой бабы», про которую неопределенно мне сказал слепой старик Савва, что она унесена была в Казым или на понизовье Оби к реке Тазу. Существует ли где еще этот исторический памятник язычества пермяков и зырян Печорского края, таким образом, неизвестно, но было бы крайне любопытно достать в наши этнографические музеи хотя [бы] этот слиток с нее, «серебряную бабу», — которую теперь уже не так легко, как видит читатель, приобрести тем или другим способом для музея, — вместо того, чтобы она была украдена и перелита каким-нибудь заезжим торгашом из русских, которому будет дорого в ней не то, что она слиток, копия с знаменитой «золотой бабы», что она сама по себе ценность, как старое божество вогулов, а то, сколько в ней он найдет серебра, ценного металла.
И я думаю, что наши миссионеры в этом отношении легко бы оказали нам в этом услугу, выманив эту драгоценность кондинских вогулов в свои руки из рук изверившихся и не дорожащих уже ею вогулов.