Воспоминания Коневой Анны Петровны:
«Мне 80 лет. Когда меня спросили, помню ли я годы раскулачивания и ссылки на Север, я ответила, что такое не забывается. Да, это так!
Мой отец, Конев Петр Павлович, родился в 1875 году, мать, Конева Анастасия Емельяновна, в 1888 году. Жили они в деревне Первуново Талицкого района Свердловской области: пахали, сеяли, выращивали овощи, растили нас, троих детей.
Уже в 8 лет я понимала, что происходит что-то неладное в стране. В деревне появились сельсоветчики и милиционеры, выбрасывали на улицу людей, хватали вещи и тут же продавали, изображая аукцион, круша постройки, угоняя скот. Ночами пылали костры. Кулаков арестовывали, членов их семей увозили. Некоторые, чтобы не попасть под арест, бросали свои семьи и уезжали.
Мой отец, совершенно неграмотный, без каких-либо документов тоже уехал. Настала зима 1929 года. Ночью пришли за нами, в ограде уже стояла запряженная лошадь. Мы, трое детей — Тамара, я и маленькая Тоня, лежали в кори, я — без сознания. Соседка стала нас, больных, одевать, чтобы вынести на мороз. Мама рванулась к кровати, закрыла нас своим телом, молила бога и людей убить ее, но не выносить на мороз детей. И дрогнули чьи-то сердца — нас оставили в покое.
Пришла весна, вернулся домой отец. Отдали ему лошадь и полосу земли. С радостью взялся он за работу. А вечером, когда отец вернулся с поля, опять вернулись к нам сельсоветчики, даже без сопровождения. Отправили нашу семью догонять этап, который формировался в Тобольске.
В Тюмени папа и мама без труда нашли нужную комендатуру, где вручили бумажку о принятии семьи в этап. Велели ехать на пароходе в Тобольск. И мы, как вольные граждане, купив билеты, приготовились к поездке (и опять нас никто не сопровождал).
В Тобольске пристань была ветхой, лестница — крутой. Первыми садились уголовники, без семей. Они шли в разорванных рубахах, на телах виднелась кровь. На меня особое впечатление произвели попы. Они почему-то не могли шагать и ползли по лестнице. Это было страшно! Я спросили маму: «Почему попы не идут, а ползут?» Она сказала, что у них болят ножки, и приказала мне молчать.
Арестованных посадили в трюм. Он был открыт, и мы бегом пробегали это место: боялись, что милиционеры нас толкнут, и там нас разорвут уголовники. Однажды послышались крики, выстрелы. Нас, пассажиров, растолкали по сторонам, а из трюма на носилках вынесли мертвого человека. Кто он? Через несколько часов опять послышались выстрелы, забегала охрана, загудел пароход, и я увидела, что плывет человек, а охранники без конца стреляли. И, когда беглец ухватился за кусты, видимо, пуля попала в него, и он опустился в воду. Пароход боком подрулил, и убитого подняли.
В Тобольске нашу семью присоединили к этапу. Теперь мы перестали быть вольными людьми. Посадили нас в трюм парохода, почти не кормили. Кое у кого из переселенцев были сухари и даже вещи, в основном домотканого грубого сукна — «шабуры», «сермяги». У нас же не было ничего. Мы, дети, лежали на железном полу, скулили и стонали от голода. Мама пробралась к лестнице, где стояла усиленная охрана. Я не понимаю до сих пор, как удалось ей добиться пропуска к начальнику этапа. Какая ей сила помогала? Она упала на колени перед начальником, умоляя его утопить детей, чтобы прекратить их страдания. Он, начальник, вскочил, схватил со своего стола ковригу хлеба (свой паек) и отдал маме и приказал милиционерам проводить маму до уголка, где мы лежали, — иначе голодные люди могли отобрать у нее хлеб. Всю жизнь мама молилась за этого человека! Мы были спасены от голодной смерти.
От этой дороги еще осталось яркое впечатление о дикой панике. Было душно в трюме, где находилась не одна тысяча человек, поэтому иллюминаторы были открыты. Когда пароход проходил в районе Перегребного, где из-за весеннего разлива ширина Оби достигала трех км, во время сильного ветра пароход стало так качать, что в иллюминаторы хлынула вода. Кто-то крикнул: «Нас топят!». Закричали мужики, заревели женщины, завизжали дети. У лестницы — давка! Это столпотворение, к счастью, скоро прекратилось без жертв. Могли очумевшие от страха люди передавить и растоптать друг друга. Пароход обогнул мыс, сделал поворот — дикая качка прекратилась.
Наконец, Березово. Жители встретили нас без особого радушия, но и недоброжелательства не проявляли, кормили нас рыбой. Мы решили, что страшное позади. Оказалось, не так. Наш десяток семей выбросили на берег в Игриме, приказали строить жилье на противоположном берегу. К осени были готовы три избушки, а весной перебросили в Люлюкары, где манси в летнюю кочевку не жили. Переселенцы мучились от комаров и оводов в зимних их юртах. Затем снова — Игрим, так повторялось несколько раз.
Иногда давали мизерный паек мукой, а в основном питались рыбой, икрой, жиром. Икру и кишки рыбьи давали столько, сколько сумеешь распластать и засолить рыбы. Ведра икры и жира были запасены к зиме. Нас тошнило от этой еды, а матери указывали нам на бабку Воробьиху, которая была много лет слепой и вдруг прозрела — помог жир.
Но скоро этот «рай» закончился: нас перебросили в Ванзеват, где было уже несколько бараков, начальная школа. Там был ужасный комендантский порядок. Люди корчевали лес, рубили лес зимой и летом. Паек был настолько мал, что пухли дети, на ходу умирали взрослые. Ежедневно кого-то везли на санках хоронить. К куче мха, заготовленного для строительства, зимой пришлось ставить ночную охрану, так как люди воровали мох, чтобы добавлять его к кучке муки. Стоило заболеть кормильцу семьи — это было непоправимо, потому что означало смерть в семье, так как прекращалась выдача пайка.
Наша семья выжила благодаря великому труженику отцу и беспредельно умной маме. Мама делила недельный паек так, чтобы растянуть его на все дни. Отцу отдавала побольше кусок — он кормилец, себе — самый маленький. В результате мама заболела цингой в тяжелой форме. Я помню ее беззубый черный рот и отекшие ноги. Но нас она сохранила. Многие умирали от цинги.
Но шло время, жизнь налаживалась. Люди работали, колхоз стал богатеть. Стал работать кирпичный завод, большая животноводческая ферма. Но полях картофель давал высокий урожай. Плоды животноводства — масло и другое — вывозили из Ванзетура в Березово на продажу.
Но все время тяготел над людьми страх: не сказал ли я что-то лишнее, не донесли ли на меня о чем-нибудь коменданту. А если видели, что появлялись милиционеры в поселке — ждали, кого же на этот раз заберут. Забирали группами и по одиночке и где-то за что-то судили. Родственникам говорили: «Осужден без права переписки».
Подростки с трудом выбирались на учебу. Я училась в Шайтанской семилетке, и каждый раз весной меня отправляли на рыбалку в Игрим. Моя мама даже на одни сутки была посажена в «кутузку» за то, что не хотела меня отпускать на эту рыбалку, — я закончила три класса и собиралась учиться дальше. В 1937 году после окончания седьмого класса я не поехала домой в Ванзетур, а поступили работать няней в детдом. Потом, получив вызов из Тобольского педучилища, уехала туда без разрешения — паспорт не требовался.
Но вот началась Великая Отечественная война. Я помню, была в то время в Березово. Митинг, запись добровольцев на фронт. Среди прочих были и спецпереселенцы. Как же великодушен наш народ: забыты оскорбления, унижения со стороны властей! Восторжествовало великое чувство любви к Родине! Многие сложили головы на войне.
Мною всегда в молодости двигало желание получить образование. Я этого добилась: закончила Тобольский учительский институт, потом — Тюменский педагогический. А мой папа работал в Ванзетурском колхозе до 80-летнего возраста, во время войны получил награду — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Он не умел расписываться, но избирался народным заседателем районного суда. Умер в 85 лет».

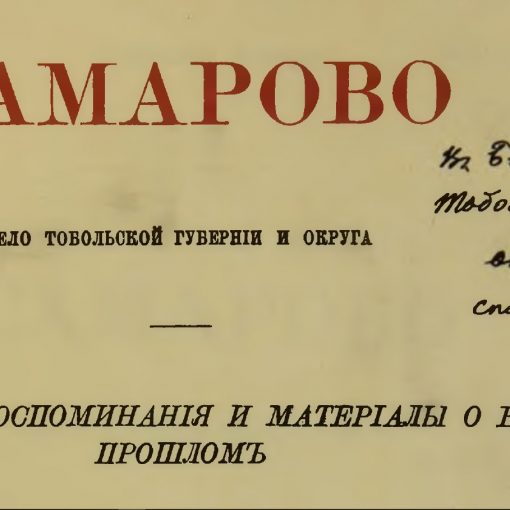



4 комментария “«Умоляла его утопить детей, чтобы прекратить их страдания…»”
Сколько же испытаний выпало на долю русского народа! Вот, так же, и мой дед Ёлгин Михаил Николаевич был ,, раскулачен,, в 1930 г.
Какое страшное было время! И не смотря на это люди любили свою Родину!
Очень трогательно… Кто-то же придумал это издевательство над людьми, выселяя из родных мест..
Ленин,Свердлов ,Дзержинский