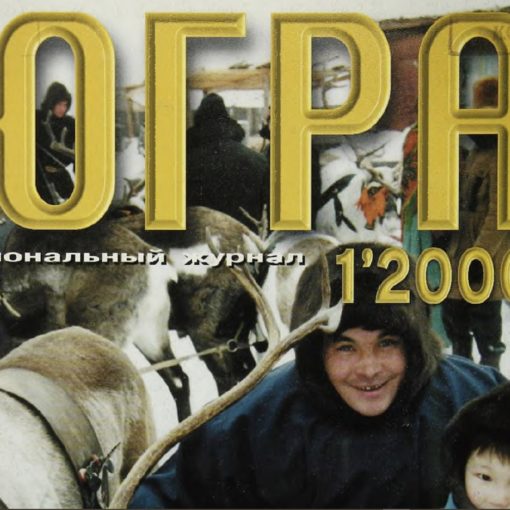Из воспоминаний Поповой (Турчанис) Феоктисты Андреевны:
«…Я возвращаюсь домой… Муж меня встречает. Смотрю, у него вид ужасный. Когда он отошел от меня, подходит ко мне работница наша, которая со мной в цехе работала, со слезами и говорит: «Феоктиста Андреевна, какое горе! Первого, когда вы уехали в Тобольск, принесли список на 13 человек, в этом списке и Вы». Она мне только сказать успела, что Пашин Трофим Константинович, который был старшим мастером смены, Кошкаров и еще наша одна работница-подавальщица в том списке.
В это время подошел муж, я уже была вся в слезах. Он спрашивает: «Что случилось у тебя?» Я говорю: «Почему ты молчишь, не говоришь мне, что я была в списке на арест. Меня должны посадить». Он говорит: «Кто сказал? Это все неправда. Если бы нужно было посадить тебя, то тебя бы в дороге еще взяли».
Я приехала домой в субботу утром, на работу не ходила. Каждую минуту ждала. Насмотревшись в Тобольске, я знала, что это может быть правда, потому что раз уже Мишу взяли, который [был] комсомолец первый в первые годы Советской власти, то и меня могут так же посадить, как его.
Прошло воскресенье, прошла ночь. В понедельник пошли на работу вместе с мужем. Договорились, что в шесть часов вечера он меня будет ждать у комбината, и мы пойдем домой вместе. Но времени было без пяти пять, ко мне подходит одна работница и говорит: «Вас зовет Лось зайти в кабинет». Я захожу. Прошло сколько-то минут, открывается дверь, заходят один — военный, другой — в штатском, спрашивают: «Ваша фамилия?» Я отвечаю. Один мне говорит: «Вы арестованы. Идемте у вас делать обыск».
До дома мы пришли, времени было как раз шесть часов. Они делали обыск, я в это время кормила свою маленькую дочку, которой было около года. Мама мне предложила пообедать, но обедать я не могла. Я старалась взять себя в руки, чтобы мама не видела моего горя. Держалась я через большую силу, слез я не показывала, только ласкала свою маленькую дочку, а старшая бегала, спрашивала: «Мамочка, вы еще на работу пойдете?». Я говорю: «Да, я еще пойду на работу». Я накормила дочку. Ко мне подходят и говорят: «Нам нужен Ваш паспорт». — «В комнате на столе в коробке возьмите, пожалуйста». Взяли паспорт, подходят и говорят: «Ну все, пора пойти». Я пошла. Я не помню, как я шла. Дочь старшая побежала за мной, ей было около четырех лет. Бежала и кричала: «Мамочка, вы надолго? Я вас провожу до уголочка?». Я говорю: «Хорошо, до уголочка — пожалуйста». Дошли до уголочка, сказала: «Довольно меня провожать, пойди домой, папа придет, поцелуй папу и скажи, что мама просила, чтобы он любил вас очень». Поцеловала и сказала: «Беги».
…Шли мы лесом из Самарово до Ханты-Мансийска. Не помню, как шла, но слезы меня душили. Когда мы дошли до милиции Ханты-Мансийска, меня посадили в какую-то комнату, потом заходит за мной охранник и говорит: «Идемте к следователю». Открылись двери, я зашла к следователю. Он говорит: «Ну что, рассказывай, как ты вредила, как агитировала. Говори». Я говорю: «Я этого ничего не делала, это неправда». Он говорит: «Что неправда? Все признались, а ты не признаешься. Вот я тебе дам очную ставку, они подтвердят, что ты тоже была в их компании. Как вы работали?». Я рассказала, как мы работали. «Как Пашин?». Я сказала, что Пашин — это очень хороший человек, мы всегда у него все учились. Он был очень строг, очень дисциплинирован. И всегда… я работала с Пашиным. Я гордилась Пашиным. Мы работали с ним всегда дружно. И всегда, когда мы приходили, он с нами, с мастерами, говорил: «Ну, как сегодня мы будем работать?». Мы смотрим, какая рыба, сколько мы можем выполнить. Директор Соломин всегда приходил и спрашивал: «Где вы будете сегодня работать. Докуда подниметесь?». План мы выполняли очень хорошо.
«Почему, — [следователь] говорит, — у вас машины плохо шли?». Но машины были заграничные. «В машинах я вообще не разбираюсь, я Вам на этот вопрос не могу ответить». Я могла работать на ручной машине, и я приходила на помощь Пашину, он заменял меня, он смотрел за всем цехом, за моим отделением, а я садилась за закатку и закатывала ручным [способом]. Он только предупреждал, что будь осторожна, потому что роликами тебе может оторвать пальцы. [Следователь] допрашивал, кричал, чтобы я призналась: «Признался Кошкаров, заливщица призналась, что ты ее агитировала». Я говорю: «У нас на эту тему никогда разговоров не было, потому что у нас время не позволяло». Он сказал: «Ну, хорошо. Ты сегодня не скажешь, сядь, посиди, подумай, а потом вспомнишь, как тебя агитировали и как ты агитировала».
Так продлилось не помню сколько времени, но я ничего не сказала. Он мне только сказал: «Ну хорошо, подпиши то, что ты сказала». Но лист был совершенно пустой, он ничего не записывал. Я в конце расписалась, он взял: «Завтра я тебе дам очную ставку. А сейчас ты пойдешь в камеру». Вызвал охранника и повели меня. Но повели не в камеру, потому что камеры были все переполнены. Повели в клуб милиции, он так был переполнен, что никакого свободного места не было. Меня милиционер толкнул, говорит: «Проходи, проходи вперед». Я говорю: «Куда вперед?» — «Проходи на сцену». Он меня толкнул, я упала на мужчин…
Как я проходила, не помню, но до сцены я добралась… Тут была с Севера председатель райисполкома, она постелила свою шубу и говорит: «Идите ко мне, садитесь». Я села рядом с ней… Так прошла ночь. Была половина дня. Приходит охранник и говорит дежурному: «Дай женщину, картошку чистить в столовую». Он мне говорит: «Иди картошку чистить». Я говорю: «Я не пойду». Охранник на меня закричал: «Хватит тебе хозяйничать, отхозяйничала. Давай вставай, иди, чисти картошку». Он меня поднял, толкнул, я опять пошла по этим мужчинам, опять проползла до дверей и увидела, что там — наш работник, он у нас табельщиком был, Саша Захаров, очень хороший мальчик… Он мне говорит: «Слушай меня, я принес тебе записку, но я тебе ее не отдам, ты только слушай, я тебе ее зачитаю: «Дома все хорошо, приехал твой брат, завтра они пойдут в МВД, узнают в отношении тебя. Тебе передал он деньги, деньги постарайся сохранить». [И добавил]: «Они были здесь, но им сказали, чтобы они оставили сюда дорогу, если не хотят с тобой сидеть вместе». Он говорит: «Какая у тебя просьба, скажи мне, и я передам. Я сегодня ночью по огороду пройду, постучу, [муж твой] выйдет, мы с ним договорились, чтобы я о тебе ему сообщил». Я ему сказала: «У меня единственная просьба, пусть он назавтра возьмет у кого-нибудь лошадь и проедет мимо клуба, потому что мне в окно видно, я посмотрю еще последний раз на девочек».
…Подошло утро. Нас стали всех выгонять… поставили по четыре человека, ни вправо, ни влево — никуда ни шагу. Кто сделает шаг, будут стрелять… Нас повели на берег, там уже стояли баржи. Народу было очень много, но все охвачено было милицией, охраной. Нас погрузили в баржи. Было уже холодно.
Мы приехали до Тюмени. В Тюмени я уже не помню, как нас вывели. Или мы до тюрьмы ехали, или мы пешком шли, я абсолютно ничего не помню… Только помню, когда нас завели в ограду, мы стояли, холодно было. Нам сказали: «Пока обработку не пройдете, до тех пор в помещение, в камеру вас пускать не будут». Мы простояли очень долго, было реву столько! Каждый кричал, каждый ревел, каждый бился, кто сколько мог. Но на наши слезы не обращали внимания, они делали то, что им положено. И когда они нас обработали, втолкнули в следующую дверь. Они наливали воды нам в шайки деревянные, чтобы мы мылись, но мы уже мыться не могли. Мы уже друг друга не находили. Мы уже потерялись все. Окатились, вышли, там других загоняли. Нас выгнали опять в какой-то коридор, там были очень долго. Пол цементный, холодный, мы стояли кучками, друг к дружке прижимались, мерзли очень. Потом все вещи принесли наши, но мы их уже не узнали. Были обрезаны все пуговицы, обрезаны все крючки. Мы оделись, как могли, пришли в камеру… В камере было очень много народу. Ложиться негде было, только сидели… Сколько мы сидели?
Отправляли на этап не так, чтобы вызывали по фамилии, а вызывали: «Десять человек выходи бытовиков». Бытовики выскакивают, а мы все так сидели и сидели, потом уже начали нашу, 58. Называли нас всегда фашистами, мы только знали, что, фашисты, выходите. Мы каждый друг дружки боялись. Допрашивали, вызывали в ночное время. Председателя райисполкома вызвали ночью. Я ее очень долго ждала. Она приходит, настроение у нее, видимо, хорошее. Она говорит: «Меня, наверно, освободят. Ты тоже пиши». Назавтра ее опять вызвали утром. Она заходит за вещами. Мне тихонько шепнула: «Я иду на свободу, ты напиши заявление, чтобы тебя следователь вызвал. Объяснишь. Объясняй так что… может быть, кто-то что-то вредил, ты знаешь. Ты возьми и покажи на него». Назавтра, когда она ушла совсем с вещами, я очень долго думала и решила тоже написать. Написала следователю о том, что прошу меня вызвать на личные переговоры.
…И вот прошло несколько дней, меня вызывают. Я прихожу к следователю, он говорит: «Ну, что?». Я говорю: «Я пришла с вами поговорить, — сама плачу, — я хочу сказать, что я же не вредила». — «Ишь ты, решила защититься слезами. Ты вот расскажи, как ты вредила. Кто еще вредил, говори». Я говорю: «Я никого не знаю». Он на меня закричал, вытолкал за двери и сказал охраннику: «Уведи ее!». С этим меня увели. Больше я не писала. Когда я зашла в камеру, я уже чувствовала, что мне уже нечего просить и должна я сидеть так же, как все остальные.
У меня были деньги, которые мне муж передал. Я очень боялась, что нас будут обыскивать, когда на этап [отправят], и деньги отберут. Я не знала, куда мне их спрятать. С прогулки приходим мы, я думаю, куда мне деньги спрятать, у меня было 500 рублей. Я вышла когда, дверь открылась, там топилась печка. Я взяла эти деньги затолкала в поддувало, в золу. Думаю, сгорят, так сгорят, но все-таки их никто не заберет. …У меня деньги остались живы. Я взяла подклад у старых сапог, оборвала и туда втолкала свои деньги. У меня было по сто рублей пять штук. Я так была рада. Сапоги я старалась грязными держать в углу. Размер у меня маленький, не каждому залезет. Я их грязными бросала в общую кучу, не хранила их. Украдут, так украдут.
Живем мы в этой тюрьме. Охранник один раз повел нас в баню, из бани мы идем, второй подходит и говорит: «Слушай, дай женщину вымыть коридоры около кухни». Он что-то всегда на меня обращал внимание. Говорит: «Такая молодая, по какой статье ты сидишь?» Я говорю: «КРД 7-10-11». Он говорит: «Такая молодая, и сидишь вот по такой статье. Это, знаешь, какая статья-то. Ты же — фашистка. Ну, иди давай, фашистка, полы помой». Я пошла, полы вымыла, конечно, на совесть, как дома делала. Я еще не знала, что можно по-другому, сделала все хорошо. …Повар говорит: «Ты есть хочешь?», Я говорю: «Очень хочу». Он полную тарелку большую каши наложил. Вы знаете, такая была каша вкусная, такая вкусная, что я больше никогда такой вкусной каши не ела! Я так ее ела с аппетитом. Я даже пальчиком тарелочку вычистила. Он вышел и говорит: «Еще хочешь?». Он, видимо, по глазам моим понял, что я еще хочу. Он мне еще наложил столько же, сколько было… Я и вторую порцию съела… Он выходит, берет тарелку… и говорит: «Еще хочешь?». Я говорю: «Да». Он говорит: «Я больше дать не могу, потому что ты сейчас так переешь, ты можешь заболеть, а потом тебе будет очень трудно выкарабкиваться. Хватит. В другой раз придешь, я тебя еще покормлю». Я только сказала: «Какая у вас рисовая вкусная каша». А он мне ответил: «Это не рисовая, перловая». Я думаю: «Господи, еще году не прошло, а я уже забыла какая крупа».
Этот охранник стал ко мне относиться совершенно по-другому. Он когда дежурил, всегда открывал камеру, меня находит и говорит: «Эй, ты, иди, мой коридор». И я выходила, я всегда рада была, что выхожу, потому что сидеть очень трудно, а лежать негде было, место не позволяло потому что. Сидели мы на полу все, коек у нас никаких не было, постелей у нас ни у кого никаких не было. У кого какие были вещи, тот на своих спал, а у кого не было, тот — так, сидя, скорчившись, так и спал. Я мыла, старалась очень хорошо, вымыла пол, он мне говорит: «Ты есть хочешь?». Я говорю: «Хочу». Он говорит: «Вон там тумба, в тумбе лежит калач и бутылка молока». Вы знаете, у меня такие были глаза! Оказывается, во мне столько было жизни! Я увидела такой калач, который я уже чуть не год не ела. Я с таким аппетитом ела, [но] боялась много взять. «Ты что мало съела, что, не хочешь, что ли?». Я говорю: «Нет, я хочу, но я вам оставила. Вы же дежурите». А он и говорит: «Обо мне не беспокойся. Почему же ты такая еще, тебе нельзя такой быть, ты теперь в тюрьме сидишь. Тебе не дают, так ты хватай, да ешь. А такая будешь, дак ты быстро умрешь». Я говорю: «Дак, как хватать-то? Там у нас нечего хватать, нам пайку только дают». Ну, так я этот калач съела, молоко выпила.
Хоть не досыта, но наелась. И вот так стала ждать этого охранника каждый раз. …Спасибо тем людям, которые поддерживали. Один раз он меня вызвал мыть полы, а сам ходит около меня и говорит: «Ты откуда? Где родина твоя?». Я говорю: «Я из Тобольска». — «А взяли откуда?». «А взяли из Хантов». Он: «В Тобольске кто у тебя есть?». — «В Тобольске у меня вот кто. Рассказала, что у меня там брат, мама должны быть, дети куда-то увезены». Он, видимо, все записывал, но мне он ничего не говорил. И в один прекрасный день, прошло где-то около месяца, я иду из бани и смотрю — сумка наша, домашняя, и в сумке — бутун красивый, и так много его. Полная сумка бутуна. …Я только зашла в камеру, и вдруг открывается волчок, говорят: «Есть такая-то?». — «Есть». — «Выходи!». …Он мне принес сухарей сколько-то и бутун вот в этой сумке. Но камера большая, народу много, одна я есть не могла. Я принесла, посередине поставила и сказала: «Берите все, сколько нас есть. Возьмите все, чтобы всем хватило». Второй раз… передали мне только один бутун и больше ничего и сказали: «Остальную передачу запретили 58-ой давать». Он только передал: «Ваши приехали, но свидание не дали».
…В один прекрасный день нам сказали [собираться] на этап, нас везут строить дорогу Печора-Воркута. Ехали женщины. Открытые вагоны. Очень многие плакали. Они очень просили нам передать передачу. Кто — хлебушка, кто — что. Но охрана нам говорила, что нельзя. Давали нам сухой паек. Когда — по кусочку рыбы. Воды когда — дадут, когда — не дадут.
Вот мы доехали до строительства железной дороги. Там были только лес, тайга. И мы шли, рубили, корчевали, строили. Мужчины лес рубили, взрывали горы, а мы драли мох, корчевали пни. Пни такие бывали, что в пять-шесть лап, да [вглубь] — несколько метров. Так трудно. Мужчины были хорошие. Посмотрят, что мы не можем [справиться с пнем], подойдут, нам помогут. На каждого человека была норма, сколько нужно было выкорчевать этих пней.
Когда еще лето — ничего, но когда осенняя погода — было очень страшно. Холодно было. Приходили мокрые, сырые. И во всем этом мы ложились спать. Кухня была на улице. А у каждой [заключенной] была какая-то банка. И мы уже так обосновались, посудой обзавелись. Ложки у всех были. Если уж заведем ложку, то ее всегда с собой и носим, котелок и ложку. Это наше. Это у нас дефицит был, большой дефицит был. И вот так мы с этими котелками шли годами.
И вот нас догоняет военный верхом на лошади. Остановил, по фамилии зачитал. Кто на правую руку, тем объявил 10 лет, а кто по левую — тем по восемь лет с поражениями. Ну, тут уже был крик, рев. Все время еще была какая-то надежда, все писали. Например, я писала 21 жалобу. Писала, где я могла находить листок бумаги. Напишу, отправлю. Но я ни на одно письмо не получила ответа. Потом я уже перестала писать.
…Идем мы болотами, идем по бездорожью, идем мы голодные. Потом уже времянку строили. Но только построим, нас опять — дальше, мы шли в Кожево, Печору и до Слинова куту, и так мы проделали большой путь. И когда к нам Торчков, это начальник, пришел, он очень относился хорошо, старался, чтобы мы были сытые… Меня он поставил на кухню, а Марусю — в топогруппу, проводить линию по рубке. Когда он меня поставил на кухню, а я еще не знала, как там работать. Я только получила продукты, и несколько рецидивистов пришли и украли у меня муку и полведра масла. Но я очень боялась начальника, потому что, если скажу, меня могут в карцер посадить. И не сказать -мне завтра давать нечего. Я пошла, в первую очередь, к кладовщику и сказала: «Выручи меня, пожалуйста, у меня столько не хватает масла, а я тебе буду помаленьку отдавать». Он мне масло дал, я подлила воды, сама пошла к охраннику в проходную и говорю, что мне нужна Майоровская бригада. Эта Майоровская бригада были крупные жулики, а Майоров был бригадир, но он очень интеллигентный.
…Я говорю: «Я пришла, потому что ваша бригада у меня украла муку». Он говорит: «Что значит украла?.. Я сегодня разберусь и маленько погодя тебя дневальник позовет, я тебе объясню, что мы предпримем»… Я сидела, плакала, начальник пришел, он уже узнал, потому что там все очень быстро передавалось. Ты только подумаешь, а там уже начальник все знает. Он заходит: «Что случилось, что плачешь?». Я говорю: «Да ничего, так». — «Все в порядке? Продукты получила? Где они?». — «Вот стоят».
Но у меня уж тут все исправлено было. Он говорит: «…Ну, ладно, хорошо. Никакой помощи не надо?». — «Нет».
Позже меня позвал дневальный, говорит, что все в порядке. Бригадир к своим пришел и сказал: «Завтра пойдете получать блюда, скажете, что вы уже получили, начальнику — ни слова. С повара не требовать». Все боялись его… А мне он говорит: «У меня вот какая просьба, если ты не согласишься с нами работать, то у тебя каждый день вот так продуктов не будет или же берите [нашего] на работу, или тебя будут каждый день обворовывать. Никто тебя не тронет, дрова тебе будут всегда натасканы».
Назавтра я сварила обед, раздаю баланду эту, а сама реву, не могу. Начальник приходит: «Что случилось?». Я говорю: «Гражданин начальник, у меня большое горе, я больше здесь работать не буду, только вы меня в карцер не садите, я не виновата, у меня украли муку и полведра масла, простите, гражданин начальник, больше этого никогда не будет».
Я проработала здесь сколько-то времени, потом на новый участок пошли, поступили к нам новые девушки за связь с немцами. Были очень разодетые, подушки у них пуховые. Нас уже всех обчистили, у нас уже не было ничего штатского, где отобрали, где украли. А эти девушки пришли очень другого воспитания, чем мы, очень бойкие, на работу они не шли, но их очень быстро всех перевоспитали.
И нас стали готовить на этап. Вот день нас готовят, день мы работаем. Вечером говорят: «Собирайтесь с вещами». Мы с вещами собираемся, на вещах сидим, только станем дремать — «Встать!». Мы встаем с вещами и выходим, нас выгонят, морозят, морозят, наморозят, опять — «Заходить в барак! Не спать! Через полчаса на этап!». Так намучают нас, видят, что мы уже изнурились, засыпаем на узлах, а вещи [уголовники] все украли, проспали все узлы. Жаловаться некогда, все ходят, ревут, тут — собаки, тут — конвой. Поехали дальше, а вещи эти остаются у рецидивов. Мужчины [осужденные по] 58 [статье] были очень хорошие, но все такие были изнуренные, кожуру они всю съедали, ждали очереди мыть котел. Все выскребут в свои черепушечки, все обмоют, все съедят, все выпьют. И вот так мы жили. Голодно, холодно. Так мы шли.
Раз до Воркуты шли далеко, все время — новые места, новые правила, новый голод, новый этап, новая стужа. И вот мы уже построили барак хороший, уже у нас были матрасы, уже насушили сена все, подушки им набили… У нас была своя дневальная, мы план за нее выполняли, блюда получали, бригадир у нас была очень хорошая. У нее уже каждый участочек был записан. Нас научили и работать, мы уже научились обращаться с пилой, с топором, с ломом, с какой стороны к нему подойти. Но зимой было очень трудно, потому что когда производились выемки, нужно было киркой выбивать. А на кусок хлеба, на эти 300-400 граммов, конечно, было очень голодно, потому что днем мы обеда не получали, мы уходили за километры от своего лагеря. Так мы кружку чая там разогреем на костре, кусочек хлеба, если мы его сэкономим, а если не сэкономим, то посматриваем на тех, кто сэкономил, а сами водичку горячую пьем. Бани мы очень часто не видели. И вот мы дожили до бани, барак у нас хороший, дневальная у нас работает, две у нас печки уже, уже у нас времянка построена, продукты уже подвозят. Но когда рецидив к нам поместили, начался новый порядок. Когда мы одни жили, у нас была очередь установлена за краюшкой хлеба, мы строго за этим следили, дневальная выдавала нам по порядку. С краюшки хлеба был заварной чай, мы эту корочку подожгем и заварим, у нас и каша была, и чай… За головой, за рыбной — тоже очередь.
Когда рецидив пришел, то самые хорошие места… они освободили, пока мы были на работе. А нас поместили поближе к параше, поближе к двери, верхние нары — теплые, поближе к печкам, занимал порядочный рецидив. На работу они не ходили. У них работа была картошку почистить, полы помыть у начальника в кабинете, в проходной будке и другая блатная работа.
Потом мы опять поехали на новое место, опять с рецидивом, опять у нас рецидив стал командовать. У нас все обтаскали. Постели у них всегда были хорошие, у них почему-то не отбиралось ничего, а у нас почему-то всегда воровали все. Ну, трудно с ними было. На последнем году мы тоже маленечко стали поумнее: мы хлеб не стали оставлять, каждый стал есть на своих нарах, а мы с подружкой всегда были вместе. Если она первой приходит, то быстрее бежит за этой пайкой, за тарелкой супа, или я бегу. Мы прошли с ней вместе до самого конца.
Начальника нашего стали куда-то переводить на другую работу… И сразу начался другой порядок. Меня стали отправлять в какую-то другую колонию, женскую. Мы ее очень сильно боялись. Мы были очень счастливы, что были в 58, там были люди очень положительные.
Когда встанешь в очередь …останешься на дневальную работу. Я один раз в такую ситуацию попала, я была не рада, что осталась. Вдруг говорят, что комиссия какая-то приехала, сейчас пойдут по баракам, а у нас в бараке грязно, потому что у нас пол бревенчатый, стол бревенчатый, а когда одеваются, стельки-то сенные, натрясут, а подмести-то я не успела.
Я очень боялась карцера, меня этот карцер всегда преследовал, им очень пугали, особенно я боялась крыс. Я схватила одеяло, замела весь сор под одеяло, и одеяло постелила около двери. Я была такая счастливая, когда комиссия зашла и сказала, что в этом бараке хорошо, здесь порядок… У меня так было на душе нечестно, потому что я их обманула… и получила благодарность, но когда моя дневальная пришла, я ей передала свой опыт: «Вот, дорогая моя, я тебя спасла и себя».
На трассе мы работали честно. Плохо, что не было бани. Мы были грязные, обношенные, оборванные. Есть все время хотелось и помыться хотелось.
Позже мы поехали дальше на поселок Абис, тут нас распределили опять, мы, четыре женщины, остались. Маруся Буевич — из Смоленска, мы с ней вместе шли, очень долго друг к дружке присматривались, потому что в лагерях люди очень разные. Когда заходили в зону, мы никогда ни с кем ни о чем не говорили, мы все сидели на своих нарах, кто под одеялом, кто в одеяле, к печке мы не собирались, потому что, когда там рецидив, нам там уже нечего делать. Вещи мы под себя складывали, потому что, если добрая вещь, то ее утащат. Стельки мы под собой сушили, портянки мы под собой сушили. Мы ходили в шапках мужских, шапки на головы одеваем, потому что в бараке дует очень, холодно было.
Когда мы приехали в Абис, видим — уже дома построенные, уже тут барак строить не пришлось. Мы в этот барак зашли сразу. Нам сказали, что те, кому холодно, тащите мох, оборудуйте… Каждый должен принести не меньше 3-4 килограммов мха и свой угол к зиме готовить. Мы это делали, потом уже стали носить траву. Заготавливали, сушили и набивали себе матрасы. Тут мы спали уже на сенных матрасах и нам уже дали по одеялу, хоть по старому, но дали. У нас уже были стекольные окошечки, правда, небольшие, сантиметров 20 в вышину и сантиметров 20-30 в длину. В Абисе нам уже стало полегче немножечко.
…Был лазарет. Я один раз сильно болела, мне сказали, что нужно идти в лазарет, но я просила начальника… не отправлять меня, потому что после лазарета не попадешь на ту работу, на которой ты работаешь, а сразу тебя отправляют на женскую, а женской все боялись. Та же работа, но там нет мужчин, которые помогали, а только женщины работали.
Говорили, что у кого есть маленькие дети, тех будут отпускать домой. Мне сказали, чтобы я писала заявление. Я написала заявление на начальника колонии. Он меня вызвал и сказал, что ты не принадлежишь к этой категории, потому что освобождают только бытовые статьи. Сначала у меня была статья 58 пункт 7-10-11, а когда мне срок объявили, у меня уже была статья «КРД», тройка НКВД меня осудила, так я как «КРД» и шла все время. Сначала я не понимала, что это такое, мне начальник расшифровал: «Контрреволюционная деятельность»: «Ты вредила и действовала, а потому не подлежишь освобождению». Потом стали говорить, что мы будем пожизненно сидеть и никогда нас не освободят. Я больше уже писать совсем никуда не стала, поговорим с подружкой со своей и то — тихонечко, громко нельзя, потому что, что бы ты ни сказал, все передавалось в НКВД, нас местные лагерные всегда вызывали. Вызовут и спросят: «О чем там говорили, вы слышали, видели?». Но мы никогда ничего не слышали, никогда ничего не видели, никто никогда ничего не говорил.
…Из Абиса побеги были только два раза. Один раз было очень страшно. Было очень много мужчин-рецидива, они устроились в проходной будке и сняли дежурного, потом сняли с будок, много рецидивистов разбежалось, но наши никто не убежал.
Мы опять стали хорошо жить. Уходили на трассу, хлеб делили на три кусочка: на утро, обед и вечер. В барак приходили, наш кусочек всегда лежал. Идем, подушку подымешь, у нас кусочек хлеба лежит, мы рады. А то, когда съешь утром все, то очень плохо. До утра не спится, все ждешь, скоро ли пайку принесут.
…Один раз нам стало легче, нас стали посылать на прачечную, эту работу считали хорошей, блатной, все же не трасса. А потом, когда кухне выстираешь фартуки, они баланды дадут лишний котелочек, то каши лишнюю поварешку дадут. А мы каше очень рады были. Если позовут котлы мыть, наскребешь там, дак так наедимся под одеялом, пока у нас не отобрали. Мы не жуем, только глотаем, пока не отобрали. Рецидивистов не стало, мы стали эти посты занимать, полы мыть. Один раз я попала на пекарню, она была у нас напротив. Когда я пошла на пекарню и увидела столько хлеба, я не могла попросить есть, пекари не спросили у меня, хочу ли я есть. Пекли хлеба очень много, нужно было от Печоры до Воркуты. Пекли белый канадский хлеб, 20-10 килограмм для больных, садиков, ясель, для вольнонаемных. Я хотела так есть, но я мыла, все делала. Думаю, Господи, хоть бы мне здесь задержаться, да хоть бы раз хлеба досыта наесться. Потом, когда мы пошли домой со смены, старший мастер мне отрезал кусок хлеба, булку хлеба разделил на четыре части и дал мне одну.
Я бежала, Маруся с трассы пришла, я за баландой сбегала, хлеб разделила, под подушку ей положила. Она пришла и была так рада, мы с ней так хорошо поели. Она говорит: «Хоть бы тебя завтра тоже вывели, я бы пришла, ты бы мне тоже кусочек хлеба дала». Я говорю: «Конечно, мы бы с тобой опять разделили». Утром я получила пайку хлеба, которую мне давали, и говорю: «Это возьми с собой на трассу, а я попрошу, может, меня там покормят или крошки какие-нибудь пособираю». Когда форму вытрясаешь, там крошечки бывают. А я когда форму мою, соберу и съем. А пекарь мне говорит: «Ты, наверно, ведь есть хочешь? Ты, наверно, голодная? Почему ты не просишь? А я тебе не даю, потому что думаю, что ты не хочешь». Я заплакала и говорю: «Я сильно хочу, вы мне что дали, у меня подружка есть, она на трассу ходит, дак я ей дала свою пайку». Он мне говорит: «Ешь, ешь, давай ешь».
Они умно работали, у них и мясо было, ну, меняли они в общем. Даже похлебку сварит, мне даст. А потом один раз кто-то на них донес, на пекарей, что они воруют хлеб и продают.
Они подумали, что я новенькая раз, значит, я. Они не стали со мной разговаривать, не стали хлеба мне давать, есть не стали предлагать. А бухгалтер был, он поляк, этот был очень интеллигентный. Он всегда мне говорил: «Вы, наверно, кушать хочете». Даст кусочек хлебца или кусочек сахарку, скажет: «Возьмите хлебца с собой». — «Петр Яковлевич, как же я возьму? А вдруг меня обыщут?». — «А вы оденьте галоши, а то вдруг будет дождь, у вас ножки промокнут. Дали вам, берите и ешьте. Вы так с голоду умрете. Вы столько лет сидите и все как-то не можете перевоспитаться».
Я ему сказала, что пекари на меня сердятся. Думаю, надо все-таки понаблюдать, я мастеру говорю: «Я на вас ничего не говорила». — «Ну, больше, кроме тебя, никого нет, ты у нас новенькая влилась». Не хотят, чтобы я работала с ними, как я фашистка, кляузница какая-то. А он [Петр Яковлевич] говорит: «Нет, не она» и показал этого парня. Они его сильно избили и отказались от него, и с тех пор меня пекари приняли, стали кормить и поддерживать.
Потом стало получше, война уже заканчивалась, приехала комиссия какая-то, вывели всех заключенных на работу, комиссия возвратила, приказала: «Этих одеть, этих одеть». Потом только — на трассу… Но все равно было трудно, потому что всех не накормишь.
И вот в один прекрасный день еще надо было одну уборщицу. Я говорю: «У меня есть моя подружка, она ходит на трассу». А меня берут в кладовую помощником, там был вольнонаемный заведующий кладовой. Он отпускал хлеб, а я должна была хлеб на весы сложить, с весов в окно повыбросать, уборку делать, хлеб принимать, на полки складывать. Уставала сильно, это было с утра до вечера, но все равно была рада. Мне дали пропуск, только с девяти часов или с восьми и до четырех вечера. В четыре часа мне в зону обратно. Но это [заведующего] не устраивало. …Они пошли к уполномоченному. «Ну, хорошо, у нее будет пропуск до четырех [часов], а с четырех до десяти — литер». Я и так рада была, я домой прибегу, еще Марусе кусочек хлеба принесу, сама там наемся, стала поправляться.
Сначала там женщина была, красноармейская семья. Я вижу, что у нее и масло появляется, и конфеты, и мясо, она курит вовсю, потом она мне стала предлагать: «Сахару я тебе дам, мяса». Я говорю: «Нет, у меня варить негде, сахару — нет, не надо». Я вижу, что она продает хлеб. Потом ее поймали, я вызвала уполномоченного, и давай он меня: «Признавайся, ты вместе с ней куришь, ты вместе с ней продаешь хлеб, масло покупаете». Я говорю: «Нет, она мне никогда не давала, я никогда не брала, не курю». Он потом начальство лагерное спросил, обо мне осталось хорошее мнение, ее сняли с работы, но не посадили. Взяли мужчину вольнонаемного, но этот безобразничал до ужаса. Я так боялась, вот придут, попросят кусочек хлеба, дать боюсь. Возьму граммов 200-300, в форточку выброшу. Продавать — ни разу не продавала. Там они принесут красивое платье, предлагают тебе в окошко, то тебе какие-нибудь ботинки или сапоги, или шапку, или платок какой-нибудь [предлагают]. «Нет, ничего не надо». Мы с Марусей все из казенных [тканей] мережили. Вымережим рубашки, платье даже вымережим, платье и то украли даже у меня. Платье хорошее, раз одела, положила под одеяло. Нас вывели всех на улицу ночевать, а потом утром нас поднимают, пришли, а у нас все украли. Моего платья нет. Осталась я в одном черном халате.
…Последние два-полтора года я на пекарне проработала, и она тоже. Потом ее взяли, как вольнонаемную, в клинику как зубного техника. Она там работала. Нам говорят, что приехала комиссия. Заходит комиссия, заходит начальство лагерное, такое военное, видно, немолодые, все пожилые больше. В бараке нас было мало, потому что люди все были на работе. Подходит ко мне дежурный и говорит: «Ты что сидишь, тебе сказано встать». — «Извините, я не слышала».
Спрашивают фамилию, имя. Я сказала. Сколько лет? Какая статья?
Я говорю: «Была 58 пункт 7-10-11, сейчас — КРД». — «Сколько лет?». — «Десять». — «Семья есть?». — «Семья была. Теперь какая у меня может быть семья, когда я уже сижу восемь лет. Писем я очень много писала, но ответов не получала». — «Жалобу писала?». — «Писала. 21 писала жалобу». — «Получала ответ?». — «Нет». — «А сейчас?». — «А сейчас не пишу». «Все равно два года уже остается, — между собой они говорят. — Ведь она имела право на свободу». Один мне говорит: «Завтрашний день в десять часов утра придете в управление лагерей». Я сказала: «Хорошо».
Но когда они сказали, что мне можно на свободу, у меня сердце сразу заговорило, слезы потекли. Думаю: «Неужели я освобожусь, поеду домой…»
1989 г.