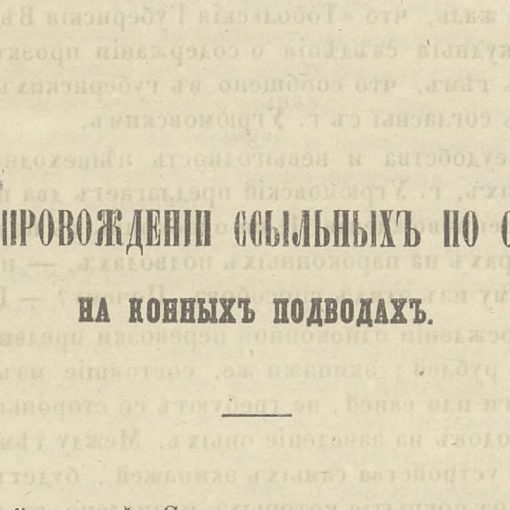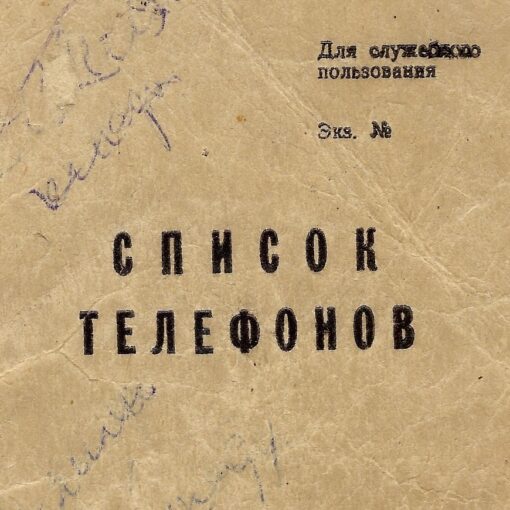Новомир Патрикеев
На Средней Оби
В 1972 году, открыв весенний сезон на Иртыше, мы с Геннадием Пластининым успели съездить и на разливы по Средней Оби, где охота открывалась па десять дней позднее. Поехали около 20 мая, уже на закрытие. Для экономии времени и бензина, сразу от лодочной станции, которая располагалась тогда в северной части города, вошли в протоку Малая Неулевая. Через пять километров попали в протоку Ходовая, по пей километров 15 ехали до Большой Неулевой, по которой предстояло добраться до разливов около полузаброшенной деревни Конево. Это был третий населенный пункт от города по старому зимнему почтовому тракту вверх по Оби.
Первый, деревня Шапша, километрах в 25 от Ханты-Мансийска, которая сначала не пострадала от укрупнения колхозов, затем была подсобным хозяйством геологов, учебным хозяйством института природопользования, а теперь является административным центром ряда окрестных населений. Некоторые люди связывают это с божьим промыслом, потому что в Шапше до половины прошлого века действовала последняя церковь на территории двух национальных округов.
Второй — заброшенную год назад как из-за укрупнения колхозов, так и по причине ликвидации конно-почтового сообщения, деревню Сумкино — проехали километров через двадцать. Мы заходили в нее прошлой осенью, когда жители уже покинули свои дома. И какие — в основном добротные пятистенки и несколько крестовых, многие под железными крышами, рядом большие огороды с еще не убранной картошкой. Мне, как бывшему сельхознику, место показалось и очень удобным для животноводства. С одной стороны луга не были отделены от горы каким-либо водоемом — не нужны мост или лодочный перевоз к сенокосам, пастбищам и местам доения коров. Учитывая то большинство домов и хозяйственных помещений старой постройки, несколько странно и удивительно было узнать потом в архиве название созданного здесь в 1931 году колхоза — «Беднота».
От Сумкино Большая Неулевая повернула в пойму обской стороны, примерно двадцатикилометровой дугой, замкнув ее у третьего пункта по бывшему почтовому тракту -заброшенной деревни Конево. Ее название уходит в конец XVII — начало XVIII века, когда согласно сохранившимся в музее документам самаровские крестьяне или, как их тогда называли, ямские охотники, стали покупать там у хантов земли. Сначала с правом ловить рыбу и косить сено, а позже с правом владеть и селиться, что они и стали делать в конце XVIII века, заложив деревню Коневу. В 1848 году в ней построена церковь во имя святого пророка Илии, в 1886 году открыта церковно-приходская школа. В начале XX века село Коневское стало ключевым во всей округе. К его Пророко-Ильинскому храму были приписаны церкви деревень Зенково, Змановской, юрт Новоселовых и часовня в выселках Городище с тремя церковно-приходскими школами.
В 20-х годах село снова стало деревней Коневой. В 1931 году в ней был создан колхоз «Первое мая», входивший в первую десятку из 45 артелей округа. На акварели, сделанной в 1947 году уроженцем Конево профессором-микробиологом Ю.Е. Коневым, можно насчитать более 40 разных построек. И вот финал. На низком пойменном не то острове, не то полуострове, окруженном со всех сторон водой, виднелось три-четыре посеревших от времени, неухоженных строения, у берега — пара лодок.
Среди последних жителей селения был знакомый Геннадия, по заезжать к нему не стали, так как нужно успеть к вечерней зорьке, тем более, что уток по дороге мы видели и пролетных, и местных. Свернули налево, в идущую к Оби протоку, а из нее в большой круглый сор с широкой горловиной. Рядом с ней я выбрал мыс, окруженный полукруглыми заливами. Напарнику понравилось место недалеко от стана, который оборудовали на северной стороне водоема у высоких тальников. Геннадий отвез меня на мой мыс, помог расставить с лодки часть манщиков и уехал к себе. Мне осталось поставить остальных вброд, нарезать веток, сделать скрадок и ждать уток.
Теплый и тихий вечер вселял надежду, что они будут. Но полетели почему-то позднее обычного, когда уже стало темнеть. Первым заметил еще далеко над сором соксуна. Он шел прямо на меня, на высоте метров 25, удобной для красивого королевского выстрела. Беру своевременно па мушку, но странно — силуэт птицы даже на фоне светло-голубого неба показался каким-то размытым, как будто в легком тумане. И вроде бы прицеливание давно доведено до автоматизма -делаю нужный рывок, накрывая утку стволами, — мимо. И так несколько промахов подряд. Всех уток, как говорят фотографы, видел не в фокусе, без резкости изображения. Но ведь часто приходилось стрелять навскидку в густых сумерках. Да и в этот раз почти в полной темноте снял чирка, стремительно пролетевшего над манщиками.
Геннадий тоже постреливал и раза три выезжал подбирать трофеи. Когда он подъехал за мной, то первым делом удивился, что после стольких моих выстрелов не видел и не слышал, как падали утки. Мне оставалось только сослаться на приступ «куриной слепоты», которая, как известно, с рассветом проходит. Сор нам понравился, теперь вся надежда на утро. Но в полночь, во время ужина у костра вдруг стали ощущать из-за кустов со стороны Оби холодное дыхание севера. Слегка согревшись водкой, сковородой яичницы с салом и фирменным «лечо», выпив по паре кружек чая, забрались в спальные мешки, застегнули двери в палатку, чтобы вздремнуть до зари.
Утром вода у берегов покрылась тонкой зеркальной корочкой льда. Охота невозможна. Однако до закрытия целых два дня, возможно, потеплеет. Мы хотели подождать, обработали и сварили уток, совместив поздний завтрак с ранним обедом. На светлом, прозрачном, без единого облачка небе ярко сияло, но совершенно не грело солнце. Ветра не было, а холод усиливался и пронизывал насквозь. Такое случалось, когда вторгшиеся массы арктического воздуха задерживались в Приобье на несколько дней.
Подумав, решили все-таки эвакуироваться и сначала съездить за манщиками, чтобы не везти их домой навалом, мокрыми и во льду. Я сел за весла, Геннадий дернул шнур-стартер, поскользнулся на обледеневших сланях и спиной упал в воду через низкий борт «Казанки». Хорошо, что у самого берега, на который он мгновенно выбрался. Промок основательно, сбросил сапоги и одежду, выпил полкружки водки и залез в спальный мешок.
Я до предела раскочегарил костер, все мокрое повесил поближе к огню, но так, чтобы не сгорело. Процесс сушки предстоял длительный. Достаточно вспомнить, как сушил шерстяные носки. Поднесу на палке к костру, носок уже подпаливается, а пятка еще не совсем оттаяла. Часа через три появился Геннадий в запасной сменной одежде, веселый и бодрый, как будто не купался в ледяной воде. Времени, чтобы собраться и засветло уехать домой, уже не хватало. За манщиками все же съездили. Благодаря безветрию они оставались на месте, но тех, что стояли ближе к берегу, пришлось выбивать изо льда дюралевыми веслами. На станс положили их ближе к костру, чтобы обтаяли и подсохли. Еще долго сушили одежду, поворачивая той или другой стороной. Согревались чаем, а Геннадий — для профилактики и водкой.
То, что ночь была холодной, мы чувствовали даже в палатке и спальных мешках. Утром, не торопясь, загрузили лодку и поехали в Конево, где Геннадий зашел к своему знакомому и вернулся с трех-четырехлитровой кастрюлей, полной обработанных уток.
— Что это, посылка родственникам в город?
— Нет, подарок нам, неудачникам.
Я от своей доли гордо и принципиально отказался. А как же, ведь в моей многолетней охотничьей практике никогда не случалось привозить уток, «добытых» таким образом, еду не пустой, а с чирком. Геннадий уговаривать не стал, ответив пословицей: «губа — толще, брюхо — тоньше», в смысле, ну и ладно, мне больше достанется.
Обратно, по течению, ехали быстро, ледяных заберегов не было. По Ходовой из-за кустов и мысов начали подниматься утки, иногда они пролетали над протокой. Я расчехлил ружье и во время короткой остановки снял на предельном расстоянии красноголового нырка, обеспечив вполне нормальный для дома суп из пары уток. Вблизи Иртыша, па Малой Неулевой, где сезон закрыли больше недели назад, утки, ставшие благодаря интенсивной охоте «грамотными» и каким-то образом информированными, спокойно сидели по всем берегам и часто взлетали на расстоянии выстрела. И русскую пословицу па этот случай долго искать не надо: видит око, да зуб неймет.
Обскую охоту 1973 года мы собрались открыть на Рыбном сору, расположенном близко к речной магистрали. Попасть в него можно было через одноименную протоку, отходящую от Большой Неулевой налево, не доезжая устья Ходовой километра три. Поэтому из Малой Неулевой поехали сразу в Большую. Заход в сор рядом с устьем Рыбной направо. Было тихо, тепло, но как-то необыкновенно пасмурно — темно-серое небо казалось совсем рядом из-за плотной и низкой облачности. По дороге уток видели мало, но уже на подъезде к сору от шума мотора они стали взлетать. А в самом Рыбном подняли не только стаи уток, но и сотни полторы гусей.
Подумали, раз столько вспугнули, значит, еще прилетят. Быстро расчехлили ружья и остановились у берега. Несколько стай действительно прилетели, но лодку, конечно, замечали и не приближались. Только какой-то одинокий чирок-терескунок стал моей добычей. Объехали сор и не нашли ни одного удобного для засидки места — высокие кусты всюду подходили близко к воде, а кое-где были подтоплены. Пока пытались примоститься, пошел снег, сначала мелкий, влажный, потом все крупнее, гуще, и наконец, такой сплошной завесой из крупных снежинок, что силуэты кустов растворились, словно в молоке. Подул север, что явно не на один день. Оставалось возвращаться домой. С трудом прошли, как в тумане, десять километров до впадения в Большую Неулевую протоки Шапшинский Полой, где стояла избушка нашего общего знакомого Владимира Федоровича Вторушина.
Местный житель, охотник и рыбак во многих поколениях, он семнадцатилетним ушел на фронт, был матросом Черноморского флота, а с 1942 года в морской пехоте защищал Ленинград на знаменитом «Невском пятачке». После войны работал капитаном речных катеров, потом полупрофессионально занимался охотой и рыбалкой на своем семейно-наследственном угодье. Здесь, как его деды и прадеды, стрелял уток на окрестных озерах и разливах. Проехав несколько километров по протоке, гусевал на песчаной отмели Оби, где у пего был углубленный станок с брезентовой крышей. Чучела выставлял только самодельные, набивные, не признавая профилей.
Охотиться Владимир Федорович предпочитал один, но иногда приглашал остановиться в избушке друзей, в основном фронтовиков. Чаще они сами заезжали к нему, летом па машинах или мотоциклах, весной и осенью — на лодках по дороге на охоту или с охоты. По характеру он чем-то напоминал Кириллыча — такой же спокойный, добрый, рассудительный и не без юмора, всегда имел в запасе новую охотничью историю (почему-то не люблю слово «байка»), мог дать дельный совет. Общаться с Владимиром Федоровичем довелось, к сожалению, не на охоте, а в редакции, куда он заходил ко мне с кем-нибудь из охотников-фронтовиков или во время случайных встреч в городе.
В избушке я был тогда в первый и единственный раз. Небольшая, но удобная и теплая, она стала нашим приютом от непогоды па две ночи. Маленький дощатый тамбур, обращенный крыльцом на юг, служил местом хранения рыболовно-охотничьих атрибутов и сухих дров. Оконце напротив входных дверей в домик смотрело на запад. Перед ним столик, справа — широкие нары и железная печка у входа, слева во всю стену вдвое удлиненные нары. И все, как положено в охотничьей избушке: семилинейная керосиновая лампа заправлена, рядом спички в жестяной баночке от чая, под потолком мешочек с сухарями, у печки охапка сухих дров.
Пока Геннадий ее растапливал, я взял ружье и вышел осмотреться. С юго-западной стороны за кустами большое и, видимо, глубокое озеро, потому что у берега привязана маленькая дощатая лодка, а из воды горчат сетные колья. Ближе к избушке озеро поменьше, мелкое и без тальников вокруг. Уже рядом с избушкой заметил пару летевших от Полоя гоголей и снял селезня. Он упал на снег белым брюхом вверх, и найти трофей удалось только с помощью Геннадия.
Гоголя ободрали, чирка ощипали и в суп. При наличии всяких специй и домашних закусок ужин получился очень приличным для вынужденного «вечера отдыха». Разве плохо в трико и без бродней сидеть у печки, когда па дворе зимняя снежная круговерть, ни зги не видно? Потом расстелили на нарах спальные мешки и, не прикрываясь ничем, — на боковую. Выйдя на рассвете на крыльцо, увидели, что снег прекратился, но холодный ветер не стих. Снова залегли спать и проснулись от шума приставшей мотолодки.
Приехали близкие друзья Вторушина и наши знакомые, Александр Павлович Лысов и Михаил Михайлович Конев, известнейшие в городе охотники-фанаты старой закалки. Конев — фронтовик, Лысов в годы войны был оружейным мастером, потом служил в войсках МВД. Объединенные одной страстью, внешне они сильно отличались друг от друга. Александр Павлович — небольшого роста, стройный, энергичный, темноволосый с аккуратно постриженной бородкой. Михаил Михайлович — высокий, степенный, с седой шевелюрой. Ночь они промерзли в палатке, а в дороге промокли от залетающих в открытую, без ветрового стекла «Казанку» холодных водяных брызг. Запасы еды, не говоря о питье, у них закончились. И нашей задачей было согреть, накормить и обсушить гостей.
Во время позднего обеда налили им по чарке водки, что согласно старорусским «мерам вместимости» означало ровно сто двадцать граммов, а потом понемногу в чай. Расспросили о результатах охоты. Утки на их разливах летали плохо. Лысов взял пару серых. Конев с улыбкой сказал, что добыл политрука. Для меня такое определение утиной породы было новостью. Оказалось, это местное и весьма аполитичное по тем временам название селезня-широконоски, имеющего лапы ярко-красного цвета, в чем, видимо, заметили сходство со знаками различия воинского звания Красной армии — политрук (политический руководитель).
Нашим руководителем как-то естественно стал Лысов. Во-первых, решил проблему с горячим ужином, сказав, что Вторушин, с которым он договаривался о встрече, должен был приехать еще позавчера, но вероятно, задержался из-за снегопада. Поэтому нужно обязательно проверить сети на озере, поручив это Геннадию как самому молодому, и тот уже через час с небольшим принес ведро серебристых карасей среднего размера.
Во-вторых, заявил, что вечером в любую погоду пойдет на это озеро охотиться. И действительно, после отдыха и сушки одежды он надел полушубок, взял мешок с манщиками и ушел, назначив Конева и Пластинина ответственными за уху. Я из принципа не мог отставать от ветерана и построил скрадок из маскировочной сети на ближнем озере, вброд расставил манщики. Просидел недолго, не видел ни одной утки, замерз на открытом всем ветрам водоеме и ушел в избушку. Лысов до темноты тоже не досидел и принес хохлатую чернеть.
Не буду описывать наш долгий и поистине шикарный ужин, где всем наливалось уже по две чарки. Главное — разговоры. Центром внимания стал Александр Павлович. Он был сыном профессионального ишимского охотника, жившего продажей дичи, и буквально сыпал байками из далеких 20-х годов. Особенно запомнилась одна, полностью опровергающая традиционное любовно-уважительное отношение к ружью. Их сосед, распродав осенью уток, ежегодно продавал и пропивал свое ружье. На недоуменные вопросы собратьев по пуху и перу традиционно отвечал: «Ничего, Марьюшка купит». Каждой весной жена приносила ему с рынка дешевое ружье, и цикл повторялся.
На рассвете Александр Павлович как на работу отправился в скрадок. Потянулся за ним и я. Уток по-прежнему не было, погода стала улучшаться. Можно собираться домой. Пока мы с Геннадием загружали лодку, подошел Лысой и опять с хохлатой чернетью.
Продолжение следует…