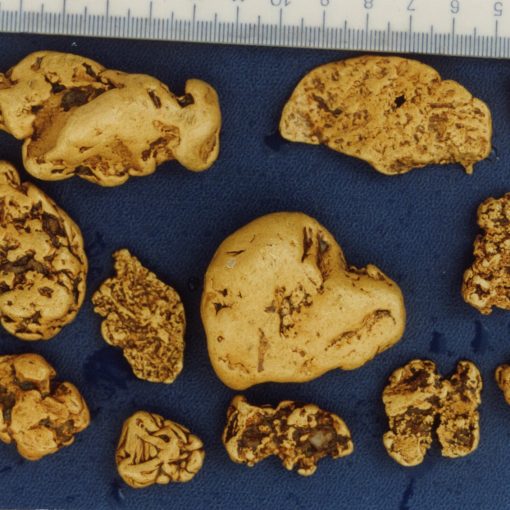Николай Коняев
В субботу последним автобусом старик воротился домой.
— Баню подтоплю! — засуетилась Агриппина.
— Не надо, мать, не хлопочи. Устал я, не до бани… — Старик достал папиросы, присел на порожек. С тоскою поглядел на запертую дверь комнатушки. Войти туда он не решался — страшила пустота…
Покурив, проплелся в горницу.
«Гроб стоял, по-видимому, здесь… Вот тут толпились люди… Пошто не сон все это, Господи? Все отдал бы до ниточки, все еще не прожитые дни — к чему они теперь? — чтоб наступило пробужденье. Чтоб явился Колька, ляпнул, как бывало, прямо от порога: Здравствуй, бабсик! Физкульт-приветик, дед!»
Утром встал ранехонько, до гимна из репродуктора. Босиком прошлепал к умывальнику, сполоснул лицо, пальцами разгладил припухлые подглазья. Снял с полки бритву, помазок.
Поднялась и Агриппина, вздохнула озабоченно:
— Жданку в стадо выпущу!
Шамарин на мгновенье сдвинул брови к переносице.
— А кто пасет-то нынче, мать?
— Кузька Кролик, кто ж еще возьмется! — с гримасой недовольства на лице сказала Агриппина. — В сельпе попал под сокращение, вот и упросили. А он, срамник, на Первый Спас набрался до бесчувствия да под березкой и заснул, а стадо в зеленя ушло.
— Кузьма напастушит-ит! — с усмешкой произнес старик. — Это им не дед Шамарин!
Побрился перед зеркалом, оделся.
Со двора вернулась Агриппина.
— Далеко ли, отец?
— Пройдусь немножко, подышу.
— Долго не гуляй. Напеку блинов, сходим на могилки, внука нашего проведаем.
Старик кивнул уныло, пошел на огород. В рыжих сапогах с высокими голяшками, в темной телогрейке, в шапке набекрень, шел сутулясь, со спины похожий на весеннего грача. Скривился как от боли. Запущенность царапнула по сердцу: картошка не окучена, ботва полеглая, пожухлая, вполроста лебеда и красный корень…
Зашел в теплый хлев. В темном углу хрюкнул откормленный боров, к отпотевшим стенкам в испуге шарахнулись овцы, горячо дыхнула в лицо Жданка. Красногрудый петух с изуродованным собаками гребнем, внуком за воинственность прозванный Душманом, слетел с унавоженной жердочки, растопырил крылья.
Шамарин постоял в раздумье у дверей и вышел за ограду. Вспомнил о строительстве. За три месяца ни разу не спросил у Агриппины, как идут дела на стройке. Не спросил и не подумал. До того ли было!
Вспомнив, он направился на стройку, но стал на полдороге. Про мох совсем забыл!
— Надо бы, пожалуй, привезти, — подумал вслух старик. — Зайти ли, что ли, в конюховку, спросить на завтра бричку?
Но и до конного двора Шамарин не дошел. Ноги сами привели его на кладбище. Могилу внука он увидел сразу от кладбищенских ворот. Выделил по ярко-красной жестяной звезде на серебристом обелиске. На высоком, на фамильном месте, под тремя старухами березами, схоронили внука.
Старик окинул теплым взором увядшие букеты полевых цветов, поблеклые бумажные венки.
— Здравствуй, внучек мой родной! Одиноко тебе одному?
— Он опустился на колени перед холмиком, обложенным кирпичиками дерна. Шапка выпала из рук, покатилась в ноги…
С фотоснимка над квадратной металлической табличкой с гравировкой дат рождения и смерти белозубо и приветливо улыбался внук. По серым, запавшим щекам старика, застревая в ямочках у крыльцев заострившегося носа, покатились слезы.
— Недолго тебе одному тут лежать. Я не задержусь на этом свете. Пусто, внучек, в жизни без тебя, зацепиться не за что… Исписалась моя биография, последнюю точку поставил ты в ней…
С издевательски пронзительным граем кружило в небе воронье.
* * *
Два дня старик безвылазно сидел за письменным столом в комнатушке внука. Агриппину до себя не допускал. Писал и перечитывал, обдумывал прожитое, глядел в окно, курил. Курил нещадно, беспрестанно…
Всю жизнь свою занес в тетрадь. Как поженились с Агриппиной, как через год родили Клавдию, миром выстроили дом. Как, отсидев, вернулся Семочкин и он ушел по личной просьбе сперва на конный двор, а затем и в пастухи.
Строители закончили отделку двух домов и в ожидании расчета слонялись по селу. Шамарин краем уха слышал, что дирекция совхоза прицепилась к недоделкам, урезала оплату по наряду и будто покушалась на аккорд. И потому старик не удивился, когда Казбек пришел слегка на взводе и бросил ядовито от порога:
— Что, хозяин, уговор дороже денег или будем, как в конторе, торговаться?
Шамарин глянул на вошедшего мельком, не проронив ни слова, ни полслова, прошаркал к шифоньеру. Достал оттуда пачку денег, обернутых заранее газетой, бесстрастно, точно папиросы, вручил их бригадиру.
— Держи, Казбек. Считай.
В глазах у бригадира потеплело.
— Ты, батяня, не тужи. Не получилось этим летом, построим через год. Фундамент есть, и стены будут.
— Ступай, Казбек — глаза в разбег! — махнул рукой Шамарин. — Ступай, не мельтеши.
Казбек, поклявшись расшибиться, но дом Шамарину поставить, откланялся, ушел.
Агриппина отложила в сторону вязание.
— Облапошили халтурщики тебя. За фундамент денежки содрали, а за стены не возьмутся, не мечтай.
— Не суй свой нос куда не просят, не твоего умишка дело!
— Молчу, молчу, молчу! — Обувшись в сапоги, в которых начала копать картошку, Агриппина вышла в сенцы.
Старик оперся о столешницу локтями, пальцами сдавил взопревшие виски.
Кто бы знал, что на душе творилось!
Стояли последние дни скоротечного бабьего лета — бабьего праздника, бабьей работы. Люди срубали капусту, копали картошку, стар и млад с темна и до темна толклись на огороде, лишь у старика впервые в жизни картошка к Воздвиженью оставалась под землей. Вяло думалось о сене, о дровах…
Время шло, а он никак не мог скатиться в колею привычной жизни, собраться с мыслями, решить, с чего начать, не видел ни просвета, ни зацепки. И сейчас, оставшись в одиночестве, вдруг испугался от мысли, что, сколько ни тяни — не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра — придется все же начинать с чего-то новую, бессмысленную жизнь…
Вечером Шамарин получил письмо. Глянул на конверт, и сердце оборвалось: адрес был надписан Глашиной — не Ленькиной — рукой…
Беда одна не ходит: сына осудили. Получил три года общего режима с конфискацией имущества.
Агриппина залилась слезами.
— Пропади все пропадом, отец! Полыхай все ярким пламенем! Бросаю все и еду к Глаше. Каково одной ей без работы с двойней на руках?
— Уезжай! Ты давно туда рвешься! — в припадке исступления закричал старик. — Мотай на все четыре стороны! Леньке ты теперь нужна. Это я вот, простофиля, никому не нужен. Воспитал щенка!
— О чем ты, дуралей? Что ты все-то о себе? Подумай-ка о внучках!
— Так мне, старому хрычу! Что заробил, то и получил! Уезжай! Уматывай! Хоть к сестрице, хоть к невестке! Хоть еще куда-нибудь! Так мне, по заслугам! За то, что взял тебя обманом! При живом-то муже!
Агриппина побелела, улыбнулась.
— Ты что сказал, отец? Что ты сказанул-то?
— Не гляди так на меня! — захрипел старик. — Живой твой Сумский был, когда я в твоих ногах валялся! Обманом взял тебя! Всю-то жизнь на сердце ношу камень… Хватит. Настрадался. Больше не могу!
Агриппина вперила глаза, сцепила пальцы рук, поджав их к подбородку.
— Ты врешь ведь?.. Вре-ешь? Ведь он погиб… Вот и похоронка сохранилась…
— Живой он был. Живой!
— Если б Ленька живой был, разве он не дал бы знать?
— Оттуда не от каждого весточки доходят! — выкрикнул старик. — Он умер той же осенью… В лагере скончался. Где-то в Заполярье… В пятьдесят шестом году, после послабления, делал я запрос! — Он всхлипнул неожиданно.
— Так мне, подлецу! За все мои заслуги. За все мои недобрые дела. И за Антона тоже. Я его упек. Семь бед — один ответ!
— Скажи, что вре-ешь! Скажи, мучи-и-итель!
— Я! Я! Я! — Шамарин выскочил из дому, пересек вслепую двор. Шатаясь, точно пьяный, подался к Кузьке Кролику.
— Дай, Кузька, самогонки. Налей — не пожалей!
* * *
Эту ночь он провел в конюховке. Бродил по конному двору, в проходах между стойл. Неожиданно для себя наткнулся на Серуху. Старая кобыла скосила мертвым глазом, ткнулась дряблыми губами в дерево кормушки.
— Серу-уха! Милая подружка! А я-то, старый дуралей, давно тебя похоронил. Считал, что извели на колбасу, — старик заплакал пьяными слезами, повис на шее у кобылы. — Отстрадовали мы с тобой, отпастушили! Исписалась трудовая от корки и до корки! Кто тебя, пенсионерку, станет содержать? Никому ты не нужна. Потому что экономия кругом… Экономия — наука. Ей на жалость надристать, скромно выражаясь. Каждому свое. Такая наша участь!
Лишь под утро находился, успокоился. Лег на верстак в мастерской, подложив под голову седло. Ушел в воспоминания…
13
С Агриппиной расписались осенью. Теща — старая Иваниха — заколола поросенка, зарубила гусака. Нажарила, напарила, как на добрый пир. Достала и домашнюю наливку. Рябиновку старуха обожала…
Пригласила Казыдая с Казыдаихой, Калижникова, Шаговых…
Все бы в этот вечер было хорошо, да теща малость подкачала — прослезилась старая некстати. Она сидела за столом строгая, прямая, к закускам не касалась, лишь подливала в рюмку понемногу. Лицо ее скраснело, покрылось капельками пота — домашняя рябиновка все же разбирала. Ни с того ни с сего вдруг пропела-простонала, прервав разноголосицу:
Дороженька, дороженька,
Дороженька дугой.
По тебе, моя дороженька,
Уехал дорогой… —
пропела и сказала:
— Спать пойду, пристала бабка!
Антон в тот вечер так и не пришел…
Он и в последующие дни правдами-неправдами избегал случайных встреч и разговоров. И это не осталось незамеченным.
— Слышно, вы с Антоном поругались? — спрашивала дома Агриппина.
Недоумевал Калижников Михей:
— Чего не поделили? Не вам бы дуться друг на друга!
— Черная кошка промеж пробежала, — хмыкнул Шамарин.
И тогда закрался в сердце страх…
Простит ли Семочкин Антон когда-нибудь предательство?
Предательства на фронте не прощали, но чем иным, как не предательством, назвать его, Шамарина, поступок по отношению к давнишнему сопернику, такому же, как сам, фронтовику, теперешнему узнику, лишенному — пусть даже и судом — всего и навсегда?
Теперь вот и семьи. Ребенка и жены…
Простит ли?
Никогда.
И жить ему, Шамарину, отныне в вечном страхе…
* * *
В тот памятный декабрьский день 1948 года Шамарин с раннего утра сидел в правлении колхоза. Он любил по воскресеньям поработать в одиночку. В безлюдном кабинете тикали настенные часы, было тихо и покойно. И тут в обледенелое окно увидел Агриппину. С коромыслом на плече шла заснеженной тропой к ближайшему колодцу. Навстречу — Семочкин Антон. Остановились, поздоровались…
От страшного предчувствия сердце у Шамарина зашлось. «А ну проговорится? Сделает во зло? Расскажет о Сумском? Разве он простит?»
Шамарин подскочил к окну, рывком раздернул штору, налег на подоконник.
Стояли. Говорили!
«Господи, о чем?»
Он нервно рассмеялся. «Вот так всю жизнь… Живи, как вор, и бойся. Бойся возвращения Макарова… Бойся возвращения Сумского… Антона тоже бойся. Бойся день и ночь! Иль я не заслужил пожить по-человечески? Спокойно, как все люди!» — Шамарин матюгнулся, сел, но тут же соскочил со стула, загреб рукой бумаги со стола, бросил кипу в шкаф. Сорвал с гвоздя «москвичку», шапку…
— О чем тебя Антон пытал? — вопросом огорошил Агриппину.
— Да так. Спросил, как жизнь… То, се.
— А ты?
— Что — я?
— Что ты ему сказала?
— Сказала: жизнь как жизнь…
— И — все?
— И все. А что еще? С чего сбледнел-то вдруг?
— Да нет, тебе почудилось. — Шамарин сел на табуретку. — Не бойся, Агриппина. Все будет хорошо…
Ночью так и не заснул. Ходил по горнице и думал.
Подошел на цыпочках к кроватке, вгляделся в Ленькино лицо: вылитый отец!
Внезапно всхлипывала Клава, и он подскакивал к дочурке, опережая Агриппину.
— Все будет хорошо!
И снова размышлял…
«Теперь живи и бойся… Если завтра где-нибудь загремит Макаров с подложными документами, то и Антона загребут. Тогда не миновать беды. С Антоном и тебя возьмут… Какой дурак поверит, что лучший друг Антона ничего не знал? Зотов не простак. Зотов не поверит… Но если знал и не донес? Известно, что тогда — тюрьма. Как быть?.. Живи теперь и бойся. Зотова… Антона. Вдруг да выложит всю правду Агриппине? И Агриппина не простит! И неизвестно, кто страшней, кто для тебя опасней — Зотов или Семочкин? Надо выбирать… Что-то нужно делать. Выкручиваться надо!»
На рассвете Шамарин выдрал листок из тетради, обмакнул в чернильницу перо…
«Прости меня, грешного, Господи!»
Нацарапал на бумаге первые слова:
«Уполномоченному Каменского НКВД
от Шамарина Василия Егоровича.
Заявление
17 июля 1948 года по дороге из райцентра в Осихино председатель сельсовета Семочкин Антон мне сообщил…»
Утром мрачно подозвал Кузьму, вручил конверт с тремя сургучными печатями.
— Гони в райцентр. Отдашь депешу лично в руки!
* * *
Старик терзал себя за опрометчивость. Боялся, что внезапное, страшное признание доконает Агриппину. Что случится с нею то же, что с ним тогда, при виде цинкового гроба. Боялся слез, стенаний и проклятий.
Но ничего такого не случилось. Когда утром он, невыспавшийся, хмурый, пришел домой, не раздеваясь, сел за стол, уставился в окно, Агриппина молча подала вчерашних щей, кружку молока и села, как обычно, за вязание.
Но рукоделием занималась до обеда, затем вдруг спешно собралась, пошла на остановку. Шамарин догадался — поехала к сестре.
Из Каменки вернулась поздно вечером.
— Жданку Пелагея заберет, — сказала перед сном.
Шамарин встрепенулся, соскочил с дивана.
— Как это — заберет?
— Увезет к себе в Каменку.
— Ты что, корову продала? — обомлел старик.
— Не продала, а отдала. Пускай пока побудет у сестре… Вернусь, дак заберу. А не вернусь, дак… ладно. Тебе корова не нужна. Овечек тоже надо бы продать…
Шамарин взглядом полоснул по Агриппине.
— Хозяйство по ветру решила пустить? А меня спросила? Или я уж не хозяин в своем до…
— Постой, отец, не заводись. Выслушай меня. Покамись Ленька срок не отсидит, я от Глаши не уеду. Да и не скажу сейчас, вернусь ли… Тебе корова в тягость будет.
— Чего ж тогда курей не раздаешь? Курей раздай! И уток! И боровка в придачу!
— Птицу тоже поруби. Больно с нею хлопотно, тебе не совладать. Оставь с десяток кур да поросенка. Хватит за глаза.
Старик оторопело пожевал губами.
— Значит, все-таки решилась? Окончательно?
— Надумала. Поеду. — Агриппина выключила свет.
Шамарин покурил и разобрал постель.
— Ладно. Отговаривать не стану… Там, в шифоньере, деньги, что откладывал на дом… Возьми. Глафире пригодятся. Фундамент я продам. Семочкину Ваньке. Он давно косится на него…
Агриппина собралась через неделю. По обычаю, присели на порог.
— Вот ведь как пришлось! — сказала с дрожью в голосе. — Жили-были и — расстались. Будто так и надо. — Не сдержалась — всхлипнула. Достала из кармана носовой платок. — Для чего, отец, покаялся? Кому от того стало легче? Носил ты камень на сердце, ну и носил бы до конца. Такую тяжесть на меня переложил…
Шамарин неприкаянно топтался у порога.
* * *
С отъездом Агриппины дни и ночи потянулись в одинаковой унылости. В середине ноября ударили морозы. На улицу старик почти не выходил. Подолгу сидел за столом, глядел в обледенелое окно. Жизнь, как ни странно, продолжалась: в одно и то же время подвозили хлеб, с завидным постоянством у сельповского крыльца в кружок сходились бабы, нет-нет да и катился по своим делам безногий пимокат. Старик все чаще доставал из подпола наливку, помаленьку подливал себе в стакан. Как прежде, донимал вопрос о смысле бренной жизни…
В среду он проснулся с редким ощущением особенности дня. Полежал недвижно на диване, уставясь в потолок, скосил глаза на численник. Вспомнил — день рождения. Шестьдесят пять лет. Круглое число!
Он резво сполз с дивана, провел рукой по подбородку, погляделся в зеркало.
— Опусти-ился, именинник. Оброс да пострашнел!
Через несколько минут затопил баню. Впервые после отъезда жены вымыл в доме пол. Побрился и побрызгался духами. Прокрутил на мясорубке мясо, приготовил тесто для пельменей. Достал из погреба наливку, в прекрасном настроении сходил в сельпо за водкой. По дороге повстречал соседа.
— Чем, Ванька, занят вечером?
Иван был не в духе, куда-то торопился.
— До вечера, Шамара, вряд ли доживешь. С такой-то нервотрепкой!
— Опять, поди, с Семеном Казыдаем покусался?
— Покусался! Доведет, собака, что уволюсь!
— Ты это, Ванька, доживи до вечера, — попросил Шамарин. — Доживи, да приходи ко мне на пельмени.
— По какому случаю?
— Дата у меня, скромно выражаясь. Круглое число.
— Тогда коне-ечно! Жди.
До вечера старик успел помыться в бане, всласть нахлестаться веником. Дома отдышался, хватил стакан рябиновки, вздремнул. Достал из шифоньера праздничный костюм, любимую рубаху. Торжественно и чинно вышел за калитку, открыл почтовый ящик. Пусто было в нем…
Шел час за часом. Смеркалось. Стыли на столе пельмени. Сосед так и не пришел… Старик оделся, взял бутылку со стола, подпер полешком сеничную дверь, направился к Кузьме.
— Дома твой? — спросил у Мотри.
— Только что сбежал.
— Куда?
— К Семочкину в гости. Ванька сообщил, что Антон приехал.
— Анто-он? Когда? — старик опешил.
— А токо что. Автобусом. Ступай туда, Шамара. Кузька там и Казыдай… Всех кучкой и застанешь.
— Ага, — кивнул старик. — Пойду…
Но он пришел домой, разделся, сел за стол. Бросило в озноб. Дрожащими руками сорвал жестянку с горлышка бутылки. Влил в стакан и выпил. Но водка не согрела.
Старик прошелся взад-вперед по горнице и затопил плиту. Достал из ящика стола заветную тетрадь, разом выдрал несколько исписанных листков, скомкал, бросил к печке.
— Вот и все, — сказал он твердо. — Ничего-то не было. Не было и нет…
Сел, обхватил руками голову, скрежетнул зубами.
— Пусто! Пустота! Умереть бы, Господи! Взять бы да и умереть!
Старик готов был к смерти. Поверил, что умрет. Надо лишь закрыть глаза. Вот только печь… Она топилась, и тепло через трубу улетало в воздух.
Старик плеснул в стакан еще, выпил без закуски. Встал, его качнуло. На негнущихся ногах прошел к печи, задвинул вьюшку. Лег на кровать. Вздохнул глубоко, полной грудью. Но душно сделалось ему, подкралась к сердцу боль…
Сбросив на пол подушку, сполз на половик.
«А ведь нехорошо! Умру-то не по-людски. Надо бы подняться… Но почему так занемело сердце? В глазах туман… Нет, надо встать! Вот только б отдохнуть… Только б отдышаться!»
Последнее, что видел уже не наяву: влажная поскотина, медлительное стадо, покорная Серуха…
Последнее, что слышал, — зовущий голос внука.
Во сне старик блаженно улыбнулся.
1984, 1988 гг.