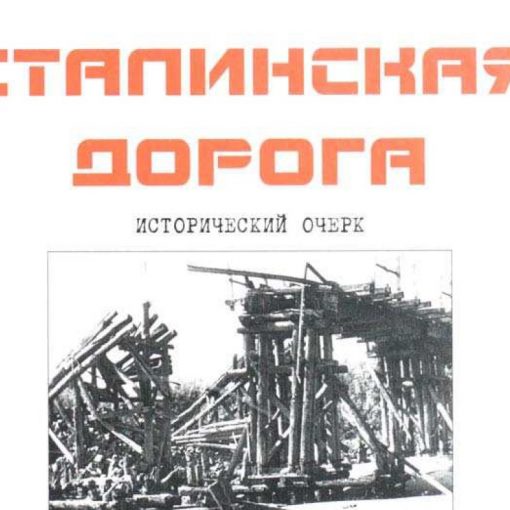Г. Тимофеев, историк-краевед
В 1940 году наша семья волей судьбы оказалась в маленькой мансийской деревушке Верхне-Нильдино. Это край дремучих лесов, с редкими национальными поселками на берегах Северной Сосьвы. Там безраздельно господствовала тишина с нетронутыми молчаливыми лесами и чистыми прозрачными водами, стекающими сюда с хрустальных отрогов Урала. Эта земля щедро отдавала свои богатства людям в ответ на их заботу и обожествление.
Первое впечатление от Сосьвинской культбазы, куда я приехал учиться, было ослепительным. В темноте августовской ночи над большим поселком трепетало зарево электрических огней. Размеренно пыхтел локомотив электростанции. Черные крупные репродукторы висели на столбах и наполняли эфир то нежнолирической, то торжественно-спокойной мелодией. На широких улицах поселка стояли добротные деревянные дома.
После маленькой мансийской деревушки, откуда я приехал, Сосьвинская культбаза производила радостное ощущение, она была поистине оазисом культуры в дебрях таежного края. Недавно построенная культбаза, кроме школы-интерната, Дома народов Севера, больницы, имела гидрометцентр, сельскохозяйственную опытную станцию, почту, телеграф, мастерские. Она вобрала в себя все, что дало ей полное право называться культурной.
При скудности бюджета военных лет в Ханты-Мансийском округе на две культбазы — Сосьвинскую и Казымскую — выделялось более одной трети всех средств, отпускаемых округу на культурные нужды. Однако уже в начале 1942 года начались для воспитанников интерната некоторые трудности, они ощущались и в школе.
Летом учащиеся разъезжались по своим поселкам, и каждый из них включался в производство. Большинство воспитанников рыбачило в рыболовецких бригадах или со своей семьей, работало на заготовке кормов. В лето 1942 года все учащиеся Верхне-Нильдинской школы и все воспитанники, приехавшие на каникулы, были включены в колхозную бригаду, которая работала рядом с поселком на раскорчевке будущих полей. Все делалось вручную. Под пни подсовывали жерди и как рычагом раскачивали корни то с одной, то с другой стороны. Вывороченные пни с помощью веревок стаскивали в кучи и сжигали на костре. Учащиеся подбирали ветки, щепу и стаскивали их в костер.
Другая бригада выехала на рыболовные пески на Обь и в низовья Сосьвы, где ловила знаменитую сосьвинскую селедку. Рыбаки ‘говорили, что эту селедку они ловили для английского премьер-министра У. Черчилля за валюту. Мне казалось это досужей выдумкой или обыкновенной байкой рыбаков. Но каково было мое удивление, когда я через много лет убедился в правоте сосьвинских рыбаков. Причем великий гурман Черчилль отводил сосьвинской селедке третье место в числе самых вкусных рыб мира.
Учебный 1942-1943 год на Сосьвинской культбазе начался с заготовки дров для интерната. После уроков воспитанники и воспитатели выходили побригадно в лес, который был рядом с поселком по дороге к Святому озеру. Распиливали поперечной пилой стволы деревьев, которые сваливали взрослые, раскалывали чурки и складывали их в поленницы.
Учебный год начался в школе невесело. Все чаще и чаще сельские ребята приходили с заплаканными глазами, получая похоронки на своих отцов, дедов и братьев. Редели и наши классы, в которых в те годы учились великовозрастные наши одноклассники. После совершеннолетия они уходили на фронт.
Но жизнь в школе шла своим чередом. Каждую перемену мы собирались в актовом зале и в сопровождении баяна пели песни, самыми популярными из которых были «Катюша» и «Синий платочек».
Интернат был полностью переведен на самообслуживание: топка печей, мытье полов, уборка помещений, дежурство в столовой — все выполняли воспитанники. Большую роль играл в таком воспитании педагогический коллектив школы и интерната. На работу в культбазу из центральной России посылались специально подобранные кадры как по деловым профессиональным качествам, так и по своему морально-нравственному уровню. В их числе были А.В. Голошубин, А.Н. Лоскутов, А.А. Коробова и др. А.Н. Лоскутов был первым организатором национальной школы на Обском Севере в п. Сартынья (затем он работал председателем Ханты-Мансийского окрисполкома, а в последние годы директором окружного краеведческого музея). На всю жизнь в моей памяти, да и всех, кто учился в те годы на Сосьвинской культбазе, остались светлые образы наших воспитателей А.А. Карпеко, А.Н. Козыревой, Н.И. Бешкильцевой и др.
Уроки русского языка и литературы вел известный поэт, бывший сотрудник газеты «Комсомольская правда», участник войны в Испании М.Б. Боровиков, биологию — кандидат наук А.С. Мостовских (ее муж, тоже кандидат наук, работал директором сельскохозяйственной станции), географию преподавал кандидат паук Д.И. Гилев, который до сих пор работает в Ишимском пединституте.
Нельзя не сказать о замечательном педагоге П.И. Власове. Он вел уроки математики, а также руководил школьным оркестром народных инструментов и кружком изобразительного искусства. Человек высокой одаренности и образованности, он пользовался не только уважением у детей, но и большим авторитетом у взрослых.
А.В. Голошубин превосходно знал мансийский язык, написал несколько учебников, в том числе букварь на мансийском языке. Он был автором и переводчиком пьесы «Ась-я», которая успешно шла на сценах самодеятельных драматических коллективов. Эта пьеса ставилась Ханты-Мансийским драматическим театром, а позднее была представлена на смотре в областном центре.
Лето 1943 года было голодным и трудным. Все учащиеся работали в трудовых бригадах и звеньях. Те, кто были постарше, включались в бригаду по заготовке дров для школы-интерната, в бригаду по ремонту школы и подготовке ее к новому учебному году. Были созданы бригада по заготовке рыбы для школьной, столовой, звено, которое выращивало свиней на пищевых отходах больницы. В середине лета была создана бригада из девочек, которая занималась заготовкой грибов и ягод. Учителя работали вместе с учащимися. Хотя все эти меры и не обеспечивали в полной мере нужды школьной столовой, но когда зимой в школьной столовой ломтики черного хлеба становились все тоньше и тоньше — наше меню нельзя было назвать голодным.
Начался новый учебный год. Материальное положение школы и интерната становилось скуднее и скуднее. Однако школа в полном составе и своевременно приступила к занятиям.
Военные годы и ряд послевоенных лет поражали неистовой тягой детей к знаниям. «Человек, вооруженный знаниями, непобедим» — было законом. Быть может, детей в те годы подсознательно толкало к знаниям родительское кредо: «Если не будешь учиться, то будешь всю жизнь горбатить, как мы» или узость развлечений и строгость моральных категорий были причиной тяги к знаниям, как сегодня стали властвующими над умами молодых культивируемые в нашем обществе отвращение к труду, отвращение к знаниям и русской культуре, заменившие все нравственные категории лозунгом: «Миром правят деньги».
Постоянной тяге к знаниям молодежи в годы войны способствовала исключительность всей атмосферы культурной базы. Школы культбаз в отличие от других школ получали все нужное и возможное для того, чтобы дать этом специфическим учебным заведениям в полной мере проводить культурные преобразования в национальных районах Севера.
Школы культбаз резко отличались от других школ высоким профессионализмом своих преподавателей, большая часть из них были мужчинами, которые постоянно и весьма продуманно воспитывали любовь к знаниям и ее главному источнику — книге.
Эго не только мнение автора этих строк. Также оценивали своих учителей В.И. Плесовских — философ, журналист и председатель комитета по радио и телевидению Ханты-Мансийского округа, Л.Н. Дедюхин — ветеран лесной промышленности округа, который был организатором Няганского леспромхоза, ветеран гидрометеослужбы округа Мария Михайловна Маркова, художник Иван Репин, Е.И. Ромбандеева — кандидат филологических наук, член-корреспондент Петровский Академии наук и искусств, которая поступила в эту школу в начале войны и очень слабо знала в то время русский язык. Такую оценку школе Сосьвинской культбазы, наверное, дадут все те, кому довелось учиться в этой школе в годы войны.
Школа располагала огромнейшей библиотекой, в которой была собрана самая значительная часть русской и зарубежной классики. Еще более богатой была библиотека при Доме народов Севера, имевшая огромное количество книг зарубежной и русской классики. Учащиеся школы и воспитанники интерната в вечерние часы запоем читали. Электростанция рано выключала свет, и чтение продолжалось у раскрытых топок печей.
Учащиеся школы и воспитанники интерната жили в хорошо отлаженном режиме, и я не могу припомнить ни одного случая его нарушения. Может быть, это было время, которое само воспитывало человека в рамках печали и страха, оплакивания и скорби живых о мертвых, или чувство постоянного недоедания не располагало к детским проказам и шалостям, или то и другое делало детей рано повзрослевшими, а взрослых — более замкнутыми, внутренне собранными и сосредоточенными.
Отгремели залпы Сталинградской, затем Курской битвы. Советская Армия с тяжелыми боями освобождала ранее захваченные врагом русские земли. Но эти радости часто омрачались известиями о гибели тех, кто ушел на фронт. В актовом зале школы появился стенд «Они сражались за Родину». Все чаще и чаще приходили похоронки в семьи погибших героев, все чаще и чаще приклеивались новые фотографии погибших учеников школы, все чаще и чаще на общешкольных построениях сообщалось о героической гибели отцов, дедов и старших братьев наших односельчан.
Но жизнь есть жизнь. Ее законы мало доступны человеческому разуму. Она была такой, какой была дана людям. Школьные перемены по-прежнему заполнялись песнями, работой кружков и оркестра народных инструментов.
Еще в довоенные годы при Доме народов Севера работали кружки художественной самодеятельности. При нем имелись клуб, большая библиотека с читальным залом, гостиница для приезжающих сюда рыбаков и охотников, столовая, комната .для кружковой работы, буфет и парикмахерская. Клуб имел большой набор музыкальных инструментов и духовой оркестр. При Доме народов Севера работали кружки: драматический, хоровой, музыкальный. Странно?! Какой силой они держались, но работали регулярно. Это позволяло коллективам художественной самодеятельности продолжать довоенную традицию ежегодно проводить Олимпиады художественного творчества. Они превращались в большие народные праздники.
Работа Дома народов Севера велась зимой, не прерывалась и летом. Начиная еще с 1939 года, при Сосьвинской культбазе была организована плавучая культлодка, которая обслуживала рыбаков и национальные поселки. В 1941 году этот коллектив поставил для населения 34 постановки и провел восемь вечеров художественной самодеятельности. Допустим, что в числовом измерении были приписки, но факты живой истории не оскудняют с годами память, когда полуголодные, полуразутые, жившие в постоянной тревоге о близких, ушедших на фронт, русские люди находили в себе силы проявлять величие духа и заставлять звучать музы, когда над Россией гремело эхо войны.
Сосьвинская культбаза в годы войны оказалась одним из центров создания и формирования художественной культуры народов Обского Севера. Художественные ценности создавались в самой гуще трудового люда на базе фольклорных традиций.
Самодеятельные артисты, отражая эти традиции в устном, сценическом, песенном и драматическом творчестве, связанном с военной тематикой, сохраняли самобытный национальный колорит.
Рыбаки-охотники в кружках художественной самодеятельности, под руководством профессионалов-методистов Дома народов Севера знакомились и с новыми формами искусства, учились самостоятельно разбираться в художественных произведениях. Они получали на занятиях в кружках запас теоретических сведений и знаний. Самодеятельные артисты «продвигали» художественные ценности в те слои населения, которые не были охвачены профессиональным искусством. Все населенные пункты, входившие в зону обслуживания культбазы, с помощью художественного самодеятельного творчества знакомились с искусством.
Наиболее массовой и популярной формой работы Сосьвинского Дома народов Севера, как, впрочем, и Казымской культбазы, были творческие олимпиады. Они способствовали развитию коллективного творчества местных жителей, расселенных на больших расстояниях от культбаз.
Так, в олимпиаде 1942 года, которая проходила на Сосьвинской культбазе, участвовало 66 самодеятельных артистов и присутствовало более 400 зрителей из числа народностей Севера. Участники олимпиады исполнили 24 национальных танца, большинство из них было создано в самодеятельных коллективах. Здесь прозвучало десять новых песен на национальном языке, пять рассказов, шесть музыкальных номеров. 26 участников олимпиады были отмечены премиями за оригинальное исполнение танцев и номеров национального творчества. Лучшими исполнителями были признаны А.И. Таратов и Н.Н. Оманова, колхозники-макси из Шоминского колхоза. Они же оказались победителями смотра окружной художественной самодеятельности.
В годы Великой Отечественной войны в художественной самодеятельности народов ханты и манси было создано множество произведений, которые составили золотой фонд художественной культуры народов Обского Севера. В этом молодом искусстве была заложена новая философия, новая народная мудрость.
Этот фонд еще ждет своих исследователей — искусствоведов, социологов, историков, чтобы рассказать нашим потомкам о величии духа северян, о суровых годах войны, когда над Россией гремели пушки, но не молчали музы на Оби.
п. Октябрьское
«Новости Югры», 5 мая 1995 года