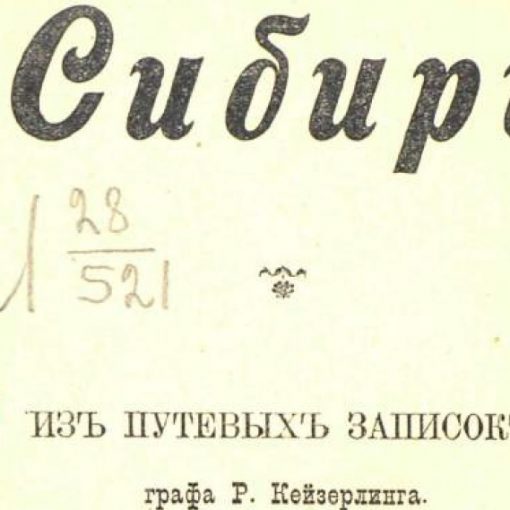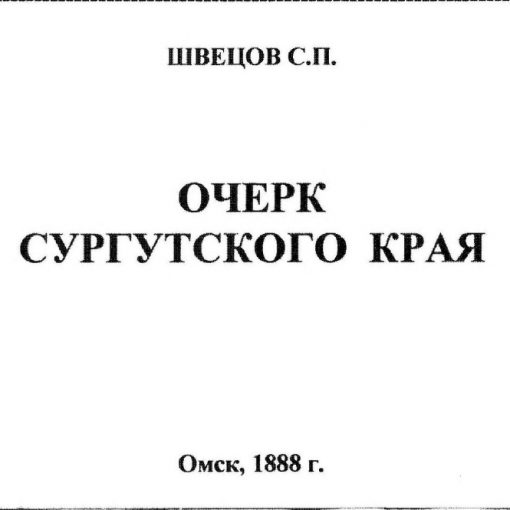М. Пестрякова
Помню, мои родители-переселенцы с чувством глубокой любви вспоминали свою родину: и земля — чернозем, все на ней обильно плодоносит, и тепло, а как степь весной зазеленеет — сколько растений среди разнотравья, цветов, аромат необъяснимый, а тут цветы — и те не пахнут.
Мои воспоминания об исторической родине, которую я покинула вместе с родителями в четырехлетнем возрасте, связаны с огромной русской печью, на которой мы с двоюродной сестрой Таленкой ползаем по мягкому теплому животу дедушки Якова, взбираемся на полусогнутые в коленях дедушкины ноги и плюхаемся на живот; дед иногда ловит нас на лету и щекочет своей коротко подстриженной бородой, а мы визжим от восторга.
И высокое крыльцо, на котором мне приходилось спасаться от индюка — он не любил мой красный сарафан.
Своей малой родиной я считаю переселенческий поселок Лапоры на Оби, в полутора километрах от впадения в нее Лапорской протоки.
За пять лет нас перевозили с одного места на другое пять раз: Березово — Шайтанка — Нерга — Ванзетур и, наконец — Лапоры. В Лапорах наша семья обосновалась в 1935 году. Отец в это время рыбачил в Пуйко. Везли нас на плашкоуте; женщины с грудными детьми поместились в каюте, а остальные на палубе. Мы поселились в половине барака, где уже проживало 10 человек. Мама отвоевала у тайги участок земли под огород и посадила 4 ведра картошки.
В то время вблизи от переселенческих бараков стояли дома, в которых обитали “вольные» — так мы называли добровольных переселенцев из Коми и Архангельской области. Мы вместе с их детьми учились в школе, играли, но, когда ссорились, они дразнили нас: “Кулаки, буржуи, колонисты, експлотаторы!». У реки стоял просторный дом манси Наума Матвеевича Лыпщикова. Он был женат на русской — Анне Ермиловне Пашиной. Она удивила переселенцев тем, что охотилась и рыбачила наравне с мужем.
На базе этого поселка была создана сельхозартель “На новом пути”. Переселенцы разработали более 30 гектаров земли, на которой выращивали в основном картофель; небольшие площади были заняты овсом, а однажды хорошо уродилась рожь. Кроме того, разводили лошадей, крупный рогатый скот и овец. В начале для артели были куплены две коровы и две лошади. После поголовье колхозного скота приумножалось за счет обобществленных бычков и телочек. Лошадей у переселенцев забрали. Разумеется, трудились и на рыбной ловле, на берегу стоял ледник, мастером-рыбоприемщиком был переселенец из Астрахани Поляков (имени и отчества не помню). Под руководством Георгия Васильевича Кошарова работал малый кирпичный завод, где женщины изготовляли качественный кирпич, которым снабжали близлежащие поселки Нарыкары, Проточные, Новинские и Камратку. В летнее время кирпич перевозили подростки 14-16 лет на неводнике.
К слову, Георгий Васильевич Кошаров был искусным гончаром; его крынки, горшки и плошки долго пользовались спросом у домохозяек.
Артель мастерила на продажу сани, бочки, добывала смолу, деготь. Ефим Александрович Лаптев и Ефим Васильевич Братцев делали школьные парты и неказистую по современным меркам, но очень прочную мебель.
Полеводом был Владимир Сергеевич Голубев. Это наш девичий командир. Он успевал везде: руководил работами на огуречнике, проверял качество прополки, точил нам по нескольку раз в день тяпки. Картофель и овощи сеяли и на острове напротив поселка, и на Наукином острове, и в устье Лапорской протоки, где очень хорошо росли репа и турнепс, корнеплоды весили до трех килограммов и больше. А огурцы возили на продажу в Березово.
Дети трудились с 10-летнего возраста на прополке и окучивании картофеля, заготовке корма и силоса, на рыбалке и на раскорчевке. Сколько усилий требовалось, чтобы перерубить у толстого пня корни! Вот уже подрублены, под пень подсунута вага (толстая жердь). Ты издаешь победный клич: “Куча мала!» Со всех концов деляны к тебе сбегается трудовой народ. Все дружно наваливаются на вагу и начинают ее раскачивать, пока, крякнув, пень не становится “на попа”, ощетинившись, как осьминог, своими многочисленными щупальцами. “Праздник” кончился, все уныло разбредаются к местам, а ты возишься вокруг своего, вытаскивая из земли корни.
Лапоры… Изумительно красивое место! Кедры на берегу. Рядом удобные рыболовецкие угодья, сенокосы и лес, кормивший нас своими дарами: ягодами, грибами, кедровыми орехами, которые были хорошим подспорьем обездоленным работягам.
Вольные жители вскоре перебрались на постоянное жительство в Чуанель; дольше всех задержался в поселке Наум Матвеевич Лыпщиков — высокий коренастый, косая сажень в плечах, манси. Когда он сердился, голос его звучал, подобно раскатам грома. А какой был мастер замечательный! Из-под его рук выходили легкие изящные калданки, сработанные без единого гвоздя, удобные, устойчивые на воде и достаточно грузоподъемные — отец, бывало, привозил на такой лодочке до двух центнеров рыбы. Под его руководством строились большие неводники и лодки-городовушки, он же учил переселенцев, как правильно садить сети и невода.
А до войны, несмотря на скудность, жизнь в поселке била ключом: в зимнее время работали хоровой и драматический кружки, при клубе была небольшая, хорошо подобранная библиотека. Систематически выпускалась настенная газета.
Часто на колхозной сцене ставились спектакли, из них мне особенно хорошо запомнились “Крепостная актриса”, “Тупейный художник», “Свои люди — сочтемся”, “Чужой ребенок». Главные роли исполняли Елена Семеновна Андреева и ее братья Александр и Николай. Елена Семеновна была продавцом, ее все уважали и звали “Леночка-приказчица». Но в спектаклях принимали участие и люди более солидного возраста. Например, роль купчихи Аграфены Кондратьевны исполняла Мария Михайловна Титова, которой тогда было 50 лет.
Лапорцы очень любили петь. Печальные и веселые песни сопровождали нас всюду: и в пути на работу, и во время короткого отдыха. Песня, наверное, отвлекала от безысходности, лечила душу.
В тридцатые годы Омское и Усть-Иртышское пароходство обслуживали колесные пароходы, топливом служили дрова. Обь у поселка Лапоры разделена островом, и оба рукава ее в ту пору были судоходными.
В километре от поселка и чуть подальше на берегу Оби стояли длинные поленницы дров. Пароходы останавливались, чтобы пополнить запасы топлива. Тогда к пристани спешили дети и старики, несли на продажу молоко в бутылках, грибы, ягоды, вареный и жареный картофель.
1941 год разразился войной и небывалым наводнением. Старожилы говорили, что подобное было в 1914 году. Уровень воды был выше обычного более, чем на два метра. Сенокосные угодья были затоплены. Вода начала убывать лишь в конце августа. Сена заготовили мало, и оно было низкого качества. Многие жители лишились своих коров. Лето было холодное, даже картофель и тот уродился плохо. Колхозный скот тоже не весь удалось сохранить. Зимой заготавливали тал. Коров кормили таловой корой и хвощом. Хвощ срубали лопатой, предварительно очистив место от снега, и сгребали граблями в кучи.
Подростки трудились и на лесозаготовках, обрубали с вершин сучья и жгли их.
В конце пятидесятых поселок прекратил свое существование, но в памяти моих сверстников он сохранится навсегда. В Лапорах жили трудолюбивые, законопослушные люди, растили детей, учили их, надеясь обеспечить себе спокойную старость.
Увы, многие из молодежи не вернулись с войны. Вот их имена: Алексей Емельянов, Василий Лаптев, Леонид Некрасов, Гинятулла Сибагатуллин, Федор Арзамасцев, Петр Распопов, Дмитрий Ратеев. А сколько семей потеряли своих кормильцев, сколько осталось сирот! Артельное хозяйство в годы войны держалось на женщинах и стариках.
Из Лапоров я уехала в 1954 году. Но мы с мужем, пока он был жив, навещали Лапоры почти ежегодно. Там похоронен мой отец Семен Яковлевич Бадьвин.
Всякий раз приезжая в Лапоры, мы шли сначала на кладбище, затем поднимались в гору, где стояли бараки. Я останавливалась почти у каждого прямоугольника, заросшего крапивой, и теплая волна воспоминаний вливалась в мое сердце — здесь прошло мое полуголодное босоногое детство, самая отрадная пора в моей жизни.
Пытались мы набрать ягод, но вырубки, где хорошо родилась брусника, заросли почему-то не сосняком, а непролазным березняком, черничные деляны пусты — ягоды вместе с листьями успел собрать косолапый, на дорогах можно встретить кучки со следами непереваренных ягод, всюду разворошенные муравейники. А на колхозных полях растут стройными рядами сосенки. Таблички с названием вида сосны и датой посадки свидетельствуют о том, что тут постарался Березовский лесхоз. Вот так и живем: один копает, другой зарывает.
Свою нескладную писанину я хотела направить в нашу районную газету “Жизнь Югры” с тем, чтобы кто-то из бывших жителей Лапор поделился своими воспоминаниями. Но о Лапорах я писала и раньше, но никто не отозвался. Может, кто-то из жителей нашего поселка, живущих в округе, поделится своими воспоминаниями о Лапорах. Мы жили в трудное, но интересное время, и будет печально, если о нем забудут.
«Новости Югры», 19 июня 1999 года