Петр Александрович Вишняков
…В доме поселилось беспокойство. Это я знаю по рассказам матери. Отец часто уезжал в Петровское — вызывали в Совет. Приезжал угрюмый, неразговорчивый. Мамаша и мать спрашивали — чо там говорят?
— Что говорят… Налог набавили — хлеба надо. Лишнего нет уже. Осталось на еду, на посев… Грозят приехать с обыском…
Видимо в конце января — начале февраля отца и дядю Анатолия снова вызвали в Круглое или Петровское. Надеялись вернуться к обеду, но не приехали. Забеспокоились: дядя Анатолий уже сидел в Петровском в каталажке — из-за несдачи дополнительного налога. Поди, посадили обоих.
А после обеда с круглянской дороги показалось две подводы. Чужие, узнали наши… Остановились у ворот. Зашли в дом. Мать и бабушка Ольга почувствовали недоброе. Не садясь на лавки, объявили, что с хутора нас будут выселять, раскулачивать. А пока приедут мужья, начнут опись имущества. Приезжие (а среди них были и круглянские) разделились — часть пошла в дом дяди Анатолия — дома была тётя Поля с детьми — Августа, Нюра, Ваня…
Началась опись с горницы. Заставили раскрыть сундуки — вынимали сложенную одежду: платья, кофты, пиджаки, брюки выходные, скатерти, полотенца. Мать и бабушка были в растерянности вначале, но потом опомнились и начали кое-что выхватывать — для семьи одежонку, пальтишки, нижнее бельё, носки, чулки. На дне сундука у бабушки Ольги лежали бумажные деньги: николаевские (царские), керенки — очень много, советские — первых лет… Не успели члены комиссии опомниться — бабушка метнулась к сундуку, открыла какое-то покрывало, сгребла бумажки-денежки в охапку и кинулась к камину. Благо он топился. Раскрыла дверку и затолкала охапку в огонь… Деньги такие были уже хламом…
— Не дам, не дам, всё своим трудом было нажито…
Описали тулупы, кошмы, кровати, стулья; оставили часть верхней одежды. Мать плакала, а бабушка Ольга держалась. Кричала на них: «Ироды, на чужое обзарились…». Описанную одежду завернули в скатерти и вынесли на розвальни… Мы с Шурой были тут же, не понимая смысла происходившего.
Во дворе — мать открыла амбары — началась пересыпка пудовкой (цинковая ёмкость — входит пуд зерна приблизительно) зерна: пшеницы, овса… Описали сбрую, висевшую под навесом, а также телеги, ходок. Во дворе — коров, овец, лошадей…
К вечеру приехали отец и дядя Анатолий… Подъезжая к заимке, поняли, что дома «гости» — началось раскулачивание. Без хозяев… Всё это время, пока шла опись имущества и снаряжения, бабушка Ольга складывала в сундук, свёртывала в одеяла одежду, обувь — сапожки и валенки, посуду, еду — мука, крупа, готовый хлеб.
Сказали, что сегодня же вывезут в Круглое, когда приедут мужья.
Как было у дяди Анатолия, я не слышал, но, видимо, то же самое… Не знаю, ночевали ли мы семьёй ещё вместе на заимке, но помню, как привезли нас на двух подводах с барахлом и едой в Круглое и разместили на краю села в землянке, освободившейся от какого-то хозяина-бедняка… Как я помню, размещались на постоянно, раскладывали всё по местам… Ничего не было сказано, что предстоит выселка в дальние края… Мать уже собиралась наводить порядок — подмазать стенки, печь; побелить потолок и стены; отскрести стол, лавки и полы… Помню, в окна яркий солнечный свет шёл откуда-то непривычно сверху… Мы с Шурой чаще сидели на печке — на полу было сыро и непривычно прохладно, на дворе стоял февраль.
Через несколько дней сообщили — поданы подводы, собирайтесь: повезут на ст. Полетаево и дальше в ссылку на север… Женщины — в рёв… Из того, что было взято с заимки, и то не всё удалось взять, — дали одну лошадь, на санях-дровнях короб. Вот туда-то и уместились, одевшись по-зимнему, бабушка, мама и мы с Шурой. И вся одежда, обувь, бельё — тут же… Отец, когда собрался обоз, шёл рядом с лошадью… В этом обозе на двух подводах был и дядя Анатолий с женой и детьми. Все эти дни они жили у отца тёти Поли…
До Полетаево обоз пополнялся из других деревень. Кулаки-переселенцы узнавали друг друга, здоровались, грустно шутили… На вокзале было тепло, из высоких окон лился солнечный свет. Посредине зала были сложены пожитки всех, кто готовился к посадке на поезд. Семья дяди Анатолия была тут же. А тёти Поли не было. В дороге мы увидели, что люди едут с хорошей поклажей, значит, можно было по-человечески обойтись с раскулаченными… Она была помоложе, побойчее. Переложили всё на один воз, частью — на наш, и она погнала в Круглое. Начальство было в отъезде. Еле-еле нашли ключи от склада, куда было сложено конфискованное имущество. Добрые люди помогли уговорить отдать часть — ведь едут в дальнюю дорогу. Похватали, похватали — искала своё, но уже, видимо, разобрано было. Тётки говорят — бери, что потеплее. Наложили в сани (часть своё и наше нашли, часть чужое положили), и тётя Пелагея скорее в Полетаево. Так и приехала. Распределили на семьи… Помню, отец ходил в станционный буфет и купил бутерброды с красной, крупной икрой. Как красная смородинка блестели они.
Ночью подали состав товарных вагонов — «телятники». В них — нары на две стороны, а посредине — печка-буржуйка. Началась погрузка — шум, гам, крики, слезы… Многих приехали родственники провожать… Куда везут — точно не знали. На север… Когда погрузка закончилась, в вагоне растопили печки — стало тепло. Фонарь тускло освещал лица измученных людей — старых и молодых, мужиков и женщин… Дети спали вповалку на нарах… Уже стало известно — повезут на Тюмень… Вагоны охранялись — чтобы никто не скрылся… Для детей мочиться и освободиться было ведро. Женщины как-то тоже устраивались. А мужики ждали до остановок, или на ходу рассеивали, отодвинув двери…
В Тюмени разместили в вокзале и по квартирам — временно… Выдавали хлеб и ещё какие-то продукты для питания. Наконец мобилизованные для извоза до Тобольска подводы были собраны, и нас повезли в Тобольск. Было холодно. Под полозьями скрипело, от лошадей шёл пар — поклажи были тяжёлые. Мужики шли пешком, удерживая возки на раскатах, спусках. Несколько ночей переспали в крупных сёлах на тракте. Там уже знали, что везут раскулаченных. Крепко топили печи, варили еду для постояльцев… В большинстве случаев жители относились участливо, насмотревшись, как целые семьи (чаше 5—6—7 человек) зимой везут под охраной неизвестно куда.
А мне было интересно смотреть с возка. Я просил мать:
— Мама, открой воротник, смотреть хочу… А бабушка Ольга говорила матери:
— Смотри, Липа, не простуди парнишку. В дороге некому лечить…
…Когда стали подъезжать к Тобольску, открылся вид на гору, на собор, на красного кирпича строение у самого обрыва (эта была тобольская знаменитая тюрьма). Обоз медленно втягивался в улицы города. Стало теплее. Мимо церквей, деревянных строений, всё ближе к обрыву горы. Вот уже мимо неё едем. Лошади идут по крутому спуску — дороге на верхнюю часть города, что была видна издали…
Наши семьи разместили в трёхэтажном здании училища. Располагались прямо на полу вдоль стен помещений, спали семьями вповалку на полу. Помню — спускаюсь с матерью на нижний этаж по лестнице с металлической оградой. Мать крепко держит меня за руку. И вдруг — один пролётик пустой… Мать рассказывает, что здесь разбилась насмерть девочка — выпала со второго этажа на пол каменный…
А многих разместили в церковные здания. Там были построены нары в два и три этажа. Был случай нары обвалились: кого-то придавило насмерть, кого-то искалечило… Спрашивать было не с кого…
Дни становились теплее, на солнцепёке пригревало. Нас стали развозить по деревням. А дядя Анатолий с семьёй остались в Тобольске — у них заболели дети, было подозрение на тиф… Мы оказались в Аремзянах (или Балуеве?) на берегу Иртыша. Встретились с дядей Анатолием и семьей только весной — были рады все… В этой же деревне были на постое и Пчелины — три брата и сестра с отцом и матерью. Старший — Михаил — был женат на Ефросинье Ивановне, с ними — сын, моя ровня, звали Юрием. Пчелины жили недалеко от нашей заимки, у них был хороший кирпичный дом и хуторское же хозяйство. Дед Пчелин был грамотным кузнецом. Он участвовал в мировой войне на турецком фронте, был ранен — не сгибалась в колене нога… Дружил он с моим отцом.
И в этих местах наступила весна. Взбухла река Иртыш, с горы хорошо было видно серый лёд, а потом ледоход… Всё это я видел впервые. На обрыве за деревней стояла банька, и в неё собирались деревенские подростки, молодые мужчины и играли в карты. А мы бегали по обсохшим полянам…
Однажды бабушка Ольга, мать и хозяйка дома, ещё молодая женщина, пошли в лес, на старую вырубку. И мы с Шурой — с ними. Редкий кедрач, зелёный пахучий; веточки с длинными иглами, совсем не колются… Кое-где ещё и снежок сохранился, но талая вода ещё не сошла, и, настоянная на хвое и листьях, была чиста… Бабушка нарвала веток кедрача и пихты… Изредка попадали кедровые шишки с орешками… За этим собрались в лес, хозяйка посоветовала. Мы были рады этой прогулке — повидали лес ранней весной, пташек…
Хозяин дома, кряжистый сибиряк, несколько лет назад отслужил в армии, а теперь занимался хозяйством. Мать как-то под сараем заметила в мешке калину-ягоду. Она уже начала оттаивать, и красный сок капал на солому под ногами. Что думают делать с ягодами? Узнала, что были приготовлены для охоты зимой, для подкормки… А что осталось — не нужно, решил хозяин. Мать решила настряпать пирогов из калины. А когда стряпала, хозяйка все удивлялась: пироги из калины сроду здесь никто не готовит. Узнают — засмеют… Но вот пироги, пирожки готовы, и все за столом… Пьем чай. Пироги хозяину и хозяйке понравились. Выйдя из-за стола и обращаясь к жене, сказал с усмешкой:
— Эх, вы, тоболяки — картовное брюхо! Добро рядом, а сделать не умеете… Учись, Мария, у добрых людей, пока живут у нас…
Однажды после ледохода, когда рыба на ночь пристаивается к берегу, хозяин пригласил отца порыбачить накидкой. Порыбачили и к полночи пришли с рыбой: щучки, чебаки, пескари… Отец несложный способ порыбачить освоил и однажды пошёл с матерью на рыбалку накидкой. Походили с полчаса по берегу рыба та же, как и раньше… Берег стал более крутой. Отец набросил накидку, тянет к берегу… Фу, какая-то коряга-чурка попала. Только стал приподнимать, чтобы выкинуть, как коряга оказалась рыбиной, огромной щукой! В полутемноте затащили накидку повыше, подальше от берега. Давай вытаскивать и засовывать в мешок. А щука бьётся, упирается, скользкая ведь, не даётся в руки… Еле управились. Обрадовались, и айда домой. Принесли, показывают хозяевам. Те тоже ахают. Живут у реки, но и здесь такая редкость. Утром из неё набрали полную чашку икры. Эх, хороша она просоленная. Икру и рыбину разделили пополам, как полагается… Долго мать и отец вспоминали об этом случае. В Заречном у нас была своя накидка, и мы во второй половине лета были с рыбой — мелочь (щучки, пескари, окуньки, налимчики, чебаки)…
Подошёл конец мая. Всех переселенцев свезли на пристань Бронниково. Семьи со своим имуществом ночевали на берегу, было сравнительно тепло уже. Грузились ночью при свете огней через оба бортовых пролёта парохода «Карл Либкнехт». Часть семей разместились в грузовых трюмных отсеках, широких — от борта до борта. Спускались по широкой, железной лестнице. Часть семей в общем, помещении III класса — в носовой части первой палубы, многие — в пролётах, на кормовой палубе для дров… Пароход мы с Шурой, да и мать с бабушкой видели впервые… Впечатление снаружи — чистое, белое, светящееся живое существо… Доброе и могучее… Когда поехали, в дороге уже, отец показал мне через окно машинное отделение. Огромные светящиеся, блестящие рычаги двигали вал гребных колес. Внизу что-то шипело, посвистывало, стучало… Внизу, по железной палубе ходили люди — ловко подливали масло из маслёнок с неестественно длинным носиком… А в целом вся машина как бы тяжело вздыхала: ух-ах…ух-ах.., как что-то таинственное и грозное. В кормовом пролёте — люк с ограждением в кочегарку. Люк всегда открыт. Из него дышит жаром… Кочегары, голые до пояса, «шуруют» топки — подбрасывают в топки двух печей огромные дровяные чурки… длинной кочергой проталкивают их вглубь печи, прочищают колосники от золы… А потом идут в сторону и из больших медных чайников пьют воду…
На пароходе внизу — в грузовом отсеке — под вечер я впервые услышал песню, печальную и простую по содержанию до наивности. Кто-то запевал, и постепенно её подхватывали многие женщины, девчонки… Песня, как тяжёлое раздумье…
Свеча в каюте догорает,
Матросы спят — спокойным сном.
Корабль несётся полным ходом
И раздается тихий стон.
Одна из спутниц, всех моложе,
Склонила голову на грудь,
С тоской по родине далёкой
Не может бедная заснуть.
«Зачем ты, мать, меня родила,
Зачем на свет произвела?..
Судьбой несчастной наградила,
Буржуйки имя мне дала.
Теперь буржуев презирают,
Нигде проходу не дают…
И нами тюрьмы наполняют,
В Сибирь на выселку везут…».
Уже к концу пути песню петь запретили, но она среди переселенцев имела широкое распространение. Мне не раз приходилось её слышать и от матери, и в других семьях…
По дороге приставали к местам, где брали для парохода дрова… На ходу молодёжь, да и постарше кто, ходили по верхней палубе — присматривались к незнакомым местам. За Самарово правый берег — высокий, обрывистый. Редкие селения русского типа с крепкими постройками. Население дружно встречало пароход — один из первых в сезоне, идущий «вниз», т. е. по течению реки… Кое-где начали высаживать по 15—20 семей… Так что эту печальную картину я видел несколько раз и с палубы и с берега… И вот пароход делает поворот, протяжный гудок разносится над Обью, широкой и тихой. Это пристань Сотниково, недалеко от Большого Атлыма — хантэйского села, центра Совета. Уже было объявлено, кому здесь оставаться… Пришла и наша и дяди Анатолия очередь…
Как только вышли семьи, детей и женщин, старушек и стариков направили пешком по береговой тропе, по откосу в селение — в двух-трёх километрах от устья реки Атлымки. Пошли и мы с бабушкой Ольгой и Шурой и тётя Поля с детьми. А отцы остались выгружать вещи, а мать — досматривать выгруженное на берегу. К вечеру на лодках должны были всё привезти в Атлым… Перед самым селением тропка отклонилась от реки, и мы вышли в лог, поросший кедрачом и пихтой. Прозван лог был Шайтанским. Перебрались через ручеёк и стали подниматься к селу. Тут, на окраине леса, мы увидели удивительное: на деревьях, на сучьях, на кольях висели вещи — полуистлевшие платки, шнурки, бубенчики, цветные стекляшки, остатки оленьих шкур… Как-то сразу повеяло страхом — вспомнилась баба-яга и её избушка с разбросанными вокруг по траве останками ее жертв… Позднее мы узнали — это для туземцев «святое место», место приношения жертв духам…
В Батлыме мы жили в небольшой амбарушке у большого дома с хорошим двором. Вскоре отца и дядю Анатолия «угнали», как говорили в то время, с другими мужчинами и парнями в Лорбу — на полуденной стороне (левый берег Оби) — строить бараки для житья семьям. Там, в районе Лорбы — национального селения — должны были начаться лесозаготовки. Мать была беременна, должна была родить в конце сентября… Она, как старый рыбак, ходила на «пугор» — ставила перемёты и ловила хороших окуней в реке. Там и многие ребята рыбачили на удочку. Многие меняли одежду местному населению на хлеб, рыбу, сахар. Продукты выдавали, кажется, по сходной норме в магазине за свои деньги. Мы с другими ребятишками начали осваиваться. Среди жителей Атлыма было много и русских… Они хорошо понимали язык коренных жителей. Интересен, необычен был и внешний облик туземцев — волосы на голове увязаны в две косички, туго переплетены шнуром… Одежда имела украшения, отличные от привычных с детства… Мальчишки и девчонки водили нас в лог к спуску на берег. Там на низу откоса в песке, хламе, земле находили бисеринки разного цвета. Занятие это было давним. Говорили, что очень богатая женщина просыпала здесь кулёк с бисером, или у ней с шеи порвалась нитка с украшением, там были бисеринки и более крупные…
Мы, ребятишки, часто бегали на бугор над рекой. Оттуда открывался вид в южную сторону: вдали видна была Обь, идущие пароходы; левее на мысу начали строить посёлок — его называли позднее Подгорное. Низина от Большого Атлыма до мыса была вначале лета заливной, к осени вода спала… В конце августа узнали новое лакомство: чернику, бруснику, а потом и кедровые орешки…
В конце сентября на Лиственном мысу бараки были сделаны: крыши были закрыты корьем и берестой, с небольшим скатом, внутри — битые печи (кирпич было некогда делать). Нас повезли туда — несколько семей — на лодках. Реки-протоки уже обмелели так, что образовались «перекаты», где лодки надо было частично облегчать; люди выходили на берег и шли пешком с детьми, а два-три человека протаскивали лодку через мелкое место. По речке продвигались медленно: перекаты были часто, берега топкие — «няша», река извилиста… Ночевали на участке Ай-пост. Там мать и родила Милю: люди битком ночевали в избушке рыбаков, а ее увели в баньку по-черному, предварительно протопив слегка и вымыв там… Это было 30 сентября 1930 года. На другой день часть семей добралась до места, а нас доставили пешком через день-два… По ночам подмерзало — бывал иней, ледок, но днём было солнечно, тепло…
Нас разместили в бараке, считай, семей шесть-семь. Нар в два этажа не было. Окна — на южную сторону, и днём было светло и тепло. Дома-бараки разместили в один ряд на неширокой песчаной полоске мыса, за ним — на север — шло кочковатое болото; тайга вплотную подходила и к болоту… На улице было две-три глинобитных печи — там пекли хлеб (до заморозков), когда строили посёлок в июне-августе. Мужчин снова «угнали» в тайгу за Лорбу — ставили среди тайги у р. Лорбы бараки для лесозаготовителей и семей в зиму 1930—1931 годов. Место называлось Потомец. Там было к зиме поставлено 7—8 бараков, без крыш, по верху жердяного потолочного перекрытия, по моху, была навалена земля-глина. Посредине барака — глинобитная печь на срубчике (отапливать, варить еду, печь хлеб…). По обе стороны от печи — нары в два этажа, где размещались 6—8 семей…
В середине зимы в эти бараки и привезли семьи Лиственного, Соснового мыса (тоже посёлок); включили в работы и девчат постарше, женщин детных. Ходила на работу и мать — что-то помогала в бараке «общего котла»… Миля была на попечении бабушки Ольги.
Отец возил сено, заготовленное летом в пойме р. Лорбы. Для вывозки леса «на плотбище» — место где лес складывали а весной скатывали в реку, самосплавом бревна плыли «к запани», где делали плоты из них… Лошадей держали «на конюшне». На каркас накиданы жерди, а на них ветки — лапы елей, кедра, бока уставлены сплошь молодыми елками. Все это зимой занесло снегом, спасало не от холода, а от ветров… К сену добавляли и овес немного, но он не всегда был… К марту лошади ослабели. Однажды отец с напарником не привезли сена — лошади встали на дороге, не идут… Может конюх плохо досматривал, недодал корма… Привели их в поводьях на конный двор, возы остались на полдороги… Доложили коменданту по фамилии Волков, по отношению к людям — родня своей фамилии. Из конторы сбегали за отцом — он только сел поесть. Пошел быстро… В конторе Волков стал на отца кричать, грозить посадить «в каталажку»… Когда отец сказал, что за ночь лошади не были покормлены достаточно, комендант так разошелся, что подбежал к отцу и ударил его ладонью в лицо… Отец молчал… Обида душила. При людях опозорил… Когда отец пришел в барак и рассказал потихоньку матери — не мог сдержать слез и рыданий… Мать успокаивала его:
— Терпи, Саня… Семья у нас… Что сделаешь — плетью обуха не перешибешь. Вон людей в каталажку садят, с нормы снимают. (Не выдают продукты полностью на несколько дней, своеобразный штраф).
Не помню, как доставили в эту ночь возы с сеном, но назавтра отец снова уехал за сеном с напарником…
Ни в одном из поселков школ еще не было, и мы днями бегали на речку (тут она совсем узкая, 10—15 метров) в крутых берегах среди тайги… В поселке всегда было тихо, среди бараков еще остались кедры, да и тайга подступала вплотную. Только снежок сыпался с их вершин, когда был ветреный день… Бывал я у Пчелиных, они жили при конторе, мать Юрки — Ефросиния Ивановна — работала счетоводом. В их доме много было привезено детских книг, и рассматривать их было мое любимое занятие. В конторе висело много плакатов по технике безопасности лесозаготовок, и мы тоже рассматривали их. Помню листки с надписями, типичными для тех лет, и выразительными рисунками «Смычка города и деревни», «Союз серпа и молота»…
Привычки работать на повале леса у женщин не было, и были несчастные случаи. Лес заготавливали почти рядом, и мы иногда убегали туда. Нас дальше не пускали. Было видно, как протаптывают в лесу дорожку к дереву, как подрубают и пилят; как дерево толкают вагой-шестом, упершись в ствол, чтобы наклон усилить при окончании запиливания… Вот дерево клонится медленно, хрустит у основания, ломается недопиленная часть ствола, который, убыстряясь, падает на вершины других деревьев, ломая сучья, ухает в снег… Снежная пыль сыплется еще долго и оседает… Начинается очистка ствола от сучьев, вершины, ветвей. Все это стаскивается в кучу.
Сжечь сучья — особое искусство: ветви не ложатся плотно, сыры, вспыхнет хвоя, прополыхает ярко и потухла… Чуть обожженные ветви торчат в немыслимом переплетении…
Лес вывозят на дровнях с подсанками. С места заготовки на дорогу вывозят по бревну, а на дороге два-три бревна накатывают на дровни и подсанки и везут на плотбище. Была норма выработки — сколько спилить леса и очистить, сколько вывезти из леса к дороге, сколько ездок доставить с лесом на плотбище…
Вечером, когда в барак возвращались отцы и матери, братья и сестры, которые постарше, усталые, вспотевшие, часто в промокшей от снега одежде, отсыревших валенках, в промокших варежках и кожанках, все это надо было снять, просушить к утру. И все это в одном бараке, своем уголке, закутке. Наконец на ночь на веревках и шнурах на гвоздях висела одежда, а в печи и на печи просушивались валенки. И все это в полутьме, при тусклом и робком фитильке-огоньке в двух-трех местах.
В конце марта дороги развезло, лес из делян вывозить стало невозможно, и семьи снова увезли в поселок на Лиственный и Сосновый мыс.
Еще в начале декабря, до отъезда на Потомец, мы чуть не лишились мамы. Пошла она к отцу на Потомец, навестила его, а потом пошла на Лорбу, надо было получить паек. Все получила, увязала в мешок, положила на саночки и двинулась домой. А погода начала портиться, пошел снег с ветром, было видно, что погода испортится. Отговаривали ее вЛорбе знакомые бабы:
— Куда ты, Липа, к вечеру идешь в такую непогодь? Собьешься с дороги, не дай бог.
Но мать пошла. Одна. Дома осталась Милюшка с бабушкой Ольгой, как она с ней — кормить ее надо. Ветер задул крепче, началась вьюга, дорогу перемело. А идти надо было через сор — голое место. И заблудилась. Нет дороги. Днем, а не найдёшь. Таскала саночки с поклажей туда-сюда. Кричать стала, совсем из сил выбилась. «Погибать придется, — рассказывала потом в бараке. — Думаю, сама-то погибну, итак семью без продуктов оставлю — заметет, не найдут ни меня, ни санок. А ветер так и сечет снегом. И тут заметила — коряга, корень, дерево торчит, метра полтора. Подошла к нему, подтянула к корню санки. Уж снегу у коряги нанесло. Привязала верёвку повыше, чтобы видно было. А сама села на санки и плачу… Детей жалко. А Людмилка так мать и не увидит, если вырастет. Как отец управляться с ними станет? Уж помирать, замерзать приготовилась. И вдруг слышу собачий лай. Приближается. По ветру лучше слышно стало. И вот как в тумане — сквозь снежную завесу — вижу: охотник на лыжах идет и на собак покрикивает. Я — кричать, да разве услышит… Подумала: а ведь он домой идет, может по дороге. Решила его догнать, или по следу пойду. С санками не успеть. Если жива буду, может и отыщу корягу с веревкой. И быстрехонько на место, где охотник шел. И вышла на дорогу. Думаю про себя: Только бы сор перейти успеть по следу, а в лесу на дороге не потеряюсь. Без санок, да доползу до людей. И пошла. Силы сразу прибавились. Только бы до темна с сору выйти». И вышла еще засветло к Лиственному мысу… Как зашла в барак — все ахнули, баба Ольга в слезы: «Бог с тобой, Липа, ведь я тебя живой-то не считала… Знала, что ты пойдешь в такую погоду…». Мы все были рады возвращению матери, еще не сознавая, что с ней было… Отогрелась, накормила Милюшку, а уж потом-то рассказывать начала, как все произошло… Мы с Шурой прижались к ней — так были рады, что у нас есть мать…
За ночь вьюга улеглась. И мать собралась за поклажей с санками. Рассчитывала найти по коряге, не так далеко от дороги… Бабы отговаривали — не найдешь, такая метель была. Проживете, как-нибудь. Мать и говорит:
— А отец как? Он чем питаться будет — там мука и крупа на всю семью на полмесяца… Пойду, бабы… Должна найти…
Потом рассказывала: «Иду смотрю — где же коряга? Место где-то тут, а высокой коряги не видно. Увидела — торчит какая-то, но меньше, но в той же стороне… Подошла и вижу: торчит конец веревки — вот сколько за ночь набило снегу к корневищу… Еле выдергала санки из-под сугроба. Разгребаю снег, а сама думаю: видно бог сжалился над моими детишками, не дал погибнуть с голоду».
На обратной дороге передохнула у рыбаков-ханты, они смотрели ловушки-морды. Они набросали ей щурят-мелочи, так с подарками и вернулась домой. Эти жареные с мукой-болтушкой рыбки на сковороде были в то время самая лакомая еда, какую я помню…
Летом 1931 года заболела бабушка Ольга — опухла сама, ноги… и не поправилась, умерла. На похороны приезжал дядя Анатолий — её младший сын. Отца не было, он был на работе в Батлымской речке. Похоронили её в простеньком гробу на кладбище — на краю леса у кочковатого болота… Переселенцы заняли здесь уже и эту часть неприветливой таёжной земли… Воспоминания о ней всегда жили с нами: строгая и заботливая, умная и умелая, она пронесла свой крест после смерти мужа стойко ради детей и внуков… К сожалению, фотографий с неё (до выселки), кажется, не осталось, разве у Вишняковых — детей дяди Анатолия. А я их помню, они были у нас в ссылке…
Во второй половине лета приехал на лодке (за моторкой на канате-буксире) отец; мы погрузились со своим немудрёным имуществом в лодку; отец, мать и я с Шурой сходили на могилу к бабушке Ольге — попрощались. И уехали в Батлымку, там организовался лесоучасток ещё прошлой зимой, его перевели туда… Помню: около Поснокорта у запоров местные рыбаки только что притонили невод и выбирали рыбу промысловую, а щучки и мелочь выбрасывали в реку. Мать попросила рыбы у них и набрала щук…
Пока ехали на причале за моторкой, мать рыбу выпорола и подсолила — получился приличный запас еды…
В лесоучастке выгрузились, а до Антарепа шли пешком по зимней дороге; попадались старые гари, там уже вырос сосняк стройный, в лесу было сухо, чисто и светло. Попадались какие-то грибы, но мы их не брали — съедобны ли? А вот в низинных местах, в еловом-берёзовом лесу попадались грибы съедобные, и мы их собирали. Милюшку несли на руках по очереди мать и отец.
На левом, обрывистом берегу Атлымки расположился Антареп — старое поселение казымцев-оленеводов, охотников и рыбаков. Небольшие избушки из нетолстого леса, двускатные, под заросшим земляным покрытием стояли редко — 50—100 м друг от друга по окраине огромной чистой поляны. Эта поляна была окружена молодым соснячком, и это всей местности придавало нарядный вид… Здесь на поляне стояло несколько амбарчиков на подставках — там когда-то хранили припасы (рыба сушёная-вяленая, мясо)… Ближе к реке — два барака: один — общежитие лесозаготовителей прошлого сезона, а во втором была контора и жило начальство… Это здание и теперь было занято: в большей половине ремонтировали к сезону сбрую — хомуты, сёделки, шлеи, узды; выделывали сыромять из конских кож и делали гужи и другую упряжь. Здесь жили Крюковы, Подковыркины и еще какая-то семья… Да, вспомнил — Кузнецовы, Зоя с дочерью Ираидой… Когда мы приехали на Антареп — они уже жили там. Из местного населения никто не жил — все они обитали выше по реке, в Мойме и Пахре…
Мы разместились в одинокой избушке. Нары за чувалом-камином, столик у окна, пол из тёсаных деревьев; низкий двухскатный закопченный потолок. Удивительное дело — даже зимой было сравнительно тепло: стены заметены снегом выше окошечка; на крыше — слой снега; чувальную трубу на крыше прикрывали после топки, когда оставались одни угли и горячая зола; воздух и стены, потолок прогревались ещё при топке чувала.
Мы, ребятишки и девчонки, вместе играли, ходили по берегу реки, на поворот, где было два островочка («релка»). Заглядывали в амбарушки, там висела рыба вяленая — чебаки… В лесу было полно брусники, грибов — собирали, а родители сушили на зиму. Изредка по вечерам на окраину выходили один-два оленя. Это были домашние олени, они паслись летом…
Наступила зима. Шуре всё чаще пришлось быть с Милюшкой, ей уже пошёл второй годик. Она была худенькой — за всё время это почти не пила коровьего молока… Не ходила ещё… У детворы появились новые занятия — охота на куропаток. Ставили в кусты волосяные петельки (из хвостов лошадей волос вырезали), натягивали шнур с петельками между кустами на берегу реки на другой стороне… Куропатки беленькие стаей опускались на снег. Передвигались в поисках почек на ветках тальника… и попадали в петельку. И мы с Шурой решили попытаться поймать куропаток. И однажды поймали одну… Что-то видно не так было у нас сделано.
Мать иногда ездила к отцу на лесоучасток. Однажды с ней случилась такая история. Знакомая женщина просила передать мужу кожанки с варежками: кожанки она починила, а варежки связала новые. И письмо передала — тут всё написано. Мать всё это передала мужу, когда вечером с работы приехали. Он письмо прочитал и говорит: «Олимпиада Фёдоровна, жена пишет, что 25 рублей послала, а я не получил их от Вас». Мать опешила: «Как же так? Денег она мне не передавала, да и ничего про деньги не говорила…». «Ну, что же, напишу ей, что денег не получил, может, забыла отдать».
Мать расстроилась, рассказала отцу, тот тоже не в себе — как так могло получиться?
Прошло какое-то время. На матери пятно. Женщина говорит ей: деньги я посылала с тобой… Тошно матери. И вдруг от мужа передали — деньги нашлись. А как? Он первое время голицы не носил — старое донашивал недели две… А тут одел на работу новые — посланные женой. Вечером после работы стал раздёргивать варежки из голиц, чтобы сушить положить. А мужчина рядом был и крикнул ему: «Иван, красная бумажка выпала из кожанки, вон на полу лежит». Иван поднял, развернул — а это двадцатипятирублёвка, посланная женой… сырая… Ох и поругал он свою жену: растяпа, женщину опозорила, а сама виновата… Пошёл к отцу — извиняться: «Прости, Александр Поликарпович, худо насчёт Липы подумал. Столько времени прошло… Нашёл я деньги-то…». И рассказал всё. Отец и говорит: «Напиши жене или передай, что нашлись деньги в кожанке. А то моя там изводится перед людьми…». На том и порешили. Мать нам не раз рассказывала эту историю, поучительную для забывчивых и спорых на выводы…
Весной отец приехал за нами и увёз на лесоучасток. Вскоре река вскрылась, лес из штабелей на берегу скатили в реку, и он поплыл к Атлыму. Там была запань — делали плоты. Рабочих перебросили на лесосплавные работы. Барак пустел, из конторы тоже почти все уехали… Отца оставили сторожить — оставался ещё магазин, постройки, конюшня с упряжью… Остался ещё и продавец — дядя Митя, атлымский ханты, молодой невысокий мужчина. Покупателей не было, и он ходил на уток с ружьём. Я крутился днём около него в магазине. Всё расспрашивал, что-то уносил-подносил, он готовился, видимо, к отчёту… Однажды он заряжал патрон на лавке у порога, а меня попросил принести конфет-подушечек из ларчика. Я пошёл за прилавок, достал в кулёк конфет и пошёл обратно… И тут мой взгляд упёрся в знакомый по цвету кусочек бумаги на полу — это была свёрнутая пополам рублёвка… Я нагнулся, поднял её и с волнением крикнул:
— Дядя Митя! Денежку на полу нашёл!
— Неси сюда, посмотрим, что за денежка…
Я отдал ему денежку-рублевку и кулёк с конфетами.
— Молодец, Петрушка, что денежку нашёл. Вот давай теперь конфетами побалуемся…
Дома я родителям рассказал, как нашёл рублевку за прилавком и как отдал дяде Мите. Отец с матерью переглянулись и похвалили меня… Позднее мать говорила, что Дмитрий, видимо, проверял меня, не воришка ли я. Ведь в магазине с ним крутился целыми днями…
Вскоре магазин и склад опечатали, дядя Митя уехал в Атлым. Мы остались одни на лесоучастке и жили в конторе. В лесу на вырубках уже не было снегу, а в логах — дотаивал…
По вечерам иногда собирались в пустом холодном бараке — играли в прятки. А иногда забирались в угол и рассказывали сказки. Было страшно, но интересно… Там я услышал и частушки от ребят постарше — 10—11 лет… Среди них и эти:
Сидит Сталин на берёзе,
Плетёт лапти коробком,
Чтобы наши активисты
Не ходили босиком.
Дали нам таку программу:
Надо срать по килограмму.
Хлеб дают по триста грамм
Как насерешь килограмм?
Вечером я похвастал матери, что знаю частушки, и пропел. Мать строго посмотрела на меня, присела на нары и сказала мне: «Петя! Никогда и нигде не пой её. Если узнают, что ты её пел — отца посадят. Кто нас кормить будет? Понял? Это нехорошие частушки…». Я кивнул головой и в тревоге прижался к матери…
После рекостава по дороге в Атлым заехали на оленьих упряжках казымцы. Передохнуть оленям, да и что-то обменять можно. Олени были сытые, красивые, с большими рогами, в добротных упряжках. Навязаны красные, синие, зелёные лоскуты, бляхи блестящие… На нартах — постелены оленьи шкуры, у спинки — поклажа привязана ремнями… Сами казымцы одеты в меховые одежды, «гуси» оленьи. Одевают их на себя через голову, как огромную до пят рубаху… А на теле лёгкая меховая одежда на материале. Всё это расшито, украшено меховыми лоскутами, бисером… Особенно красочен наряд женщин. Они носили яркие, цветастые шали… На ногах — оленьи меховые мягкие кисы, расшитые до колен узорами из разных оттенков кожи с цветными суконными вставками. Красиво, удобно, легко, прочно… Шили это в основном женщины…
Как приедут — у нас праздник, крутимся тут же. Рассматриваем упряжь, украшения; косы заплетенные у мужчин; смотрим на серьги в ушах, на длинный шест с набалдашником — хорей, которым ездок управляет оленями, притормаживает нарты при спуске с горы; тормозит при остановке… А переселенцы уже начали обмен: кто пуговицы, ленты, зеркала тащит, кто одежду, посуду — чугунки, сковородки, кружки; а мастера-ремонтники предлагают сыромятные ремни для упряжи… А в обмен — рыба, мясо, крупа… Так что с местными жителями установились добрые отношения. Мужики уговорили однажды старшего из казымцев — присадистого, крепкого и уже седоватого мужчину — сходить в баню, помыться, попариться… И раз, и два уговаривали, и баньку по-чёрному показали — не идёт. Однажды приехал и сам попросил истопить. Женщины истопили. С мужчинами вымылся, выпарился, вылежался у них дома… И остался доволен… И зачастил в баню. А рассчитывался за это щедро.
Однажды и мать упросила тех женщин уступить ей топку бани. Тоже вымылся, выпарился, отдохнул в мастерской — и к себе, тоже хорошо рассчитался мясом, крупой… А мастера договорились с казымцами готовить им сыромятную кожу из оленьих шкур, а потом резали на ремни, продавливали на ремнях продольные бороздки — красиво получалось. И шнуров разных нарежут… А те им — муки (за работу и на закваску для выделки кожи) крупы, мяса… Обе стороны были довольны…
А вскоре и отец и мать заболели — кровоточили десна, расшатывались зубы, начали отекать ноги… С трудом ходили по конторе, больше лежали или сидели на топчанах. Еда у нас была, но это была цинга, не знакомая для переселенцев болезнь до высылки… Уже умерло от неё немало в зиму и весной на Потомце, на Лиственном мысу…
Как лечиться — не знали… А ведь рядом хвойный лес; брусничник, брусника, не опавшая после зимы. Наконец, веточки лозняка, почки вербы — всё так или иначе могло помочь… Мы с Шурой почти каждый день ходили на вырубку и там собирали бруснику, не опавшую ещё и не лопнувшую ещё. Сами наедались на месте, приносили стакан и кружку брусники помятой, с соком для родителей и Мили… Может, это задерживало болезнь, но было тяжело им. Мы ещё не понимали всей угрозы.
Однажды на участок заезжали рабочие за какими-то снастями, и родители упросили передать — оба больны цингой, дети одни с ними, ходить некому… Вскоре за нами приехали на неводнике. Всё погрузили, перенесли отца, мать и Милю в лодку, усадили и хорошо укрыли ноги сверху — путь предстоял не ближний. По дороге останавливались, обедали — грели чай, варили рыбу… Погода стала портиться — накрапывал дождичек. Миновали Атлым, и к вечеру подъехали к Подгорному. Вода стояла большая. В ближайшем в сторону Атлыма доме-бараке мы переночевали. Женщины-переселенцы поили родителей настоем травы, шиповника сушёного. Здесь уже знали, что помогает при цинге… А утром повезли дальше — в Заречное. Помню, проехали мимо посёлка Половинка (на полпути от Подгорного до Заречного). Нас высадили на том посёлке — подъехали к берегу с сора — в последний дом во втором ряду от реки… там жил дядя Анатолий с семьёй, туда же поместили и нас. А мать с отцом, кажется, увезли в больницу в Заречное же. Так мы снова встретились с тётей Полей, дядей Анатолием и их детьми — Августой, Нюрой и Иваном… Так мы стали жить в Заречном. И прожили там до середины сентября 1949 года.
Там мы с Шурой в 1932 году пошли в школу в первый класс; там закончили семилетку в 1939 году. Из Заречного уехали в том же году учиться: Шура — в Тобольский медтехникум, а я в Остяко-Вогульское педучилище (на русском отделении). В Заречном выросла и сестра Людмила, окончила семилетку, но учиться не пришлось — опоздала на вступительные экзамены, пришлось работать в промартели.
После войны — в начале июня 1946 года — я вернулся с войны, демобилизовался по специальности «учитель» и проработал в Зареченском детском доме №77 воспитателем (до XII/1946 г.), завучем (до IX/1949 г.). В Заречном мы похоронили отца в начале января 1948 года… А за месяц-полтора он успел насмотреться на внучку — Надюшку. В Заречном — в ноябре 1946 года — я познакомился с соседкой Ефимовой Анной Александровной (Нюсей), и мы составили семью… Отец-мать были рады — единственный сын вернулся живой с войны, женился, есть внучка; зарабатывает на семью — работает по специальности…
О жизни в Заречном в период 1932—1939 годов думаю писать отдельно: о школе, учителях, жителях и моих товарищах и друзьях; об хозяйственных делах сельхозартели, а потом — промартели «Стахановец», об общественной жизни, особенностях проживания спецпереселенцев.
16 апреля 1989 года

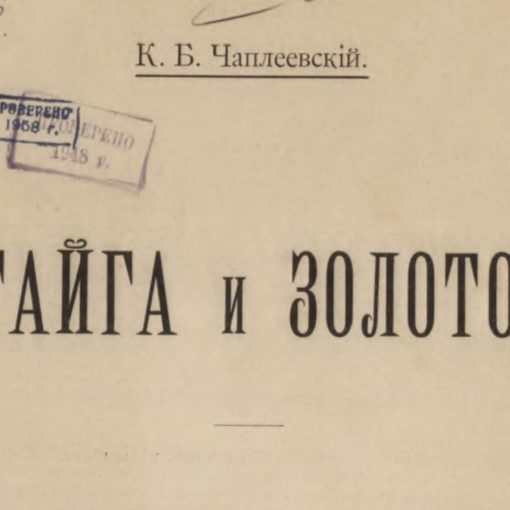
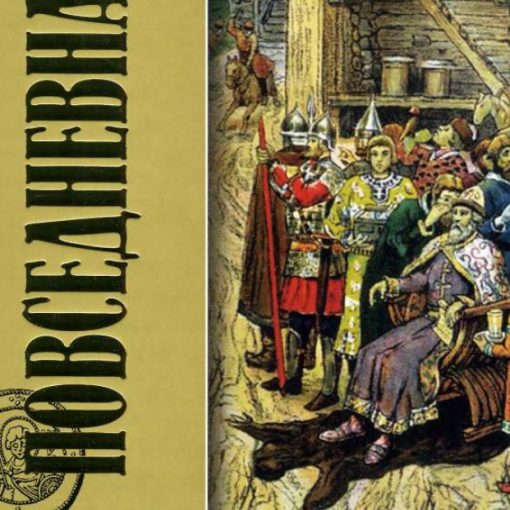


Мысль на тему “В ссылку”
Мои бабушка с дедушкой были раскулачены. Я тоже написала об этом со слов бабушки и её детей. Но у вас так подробно всё описано, что снова переживаешь тот период их жизни. Спасибо, за рассказ.