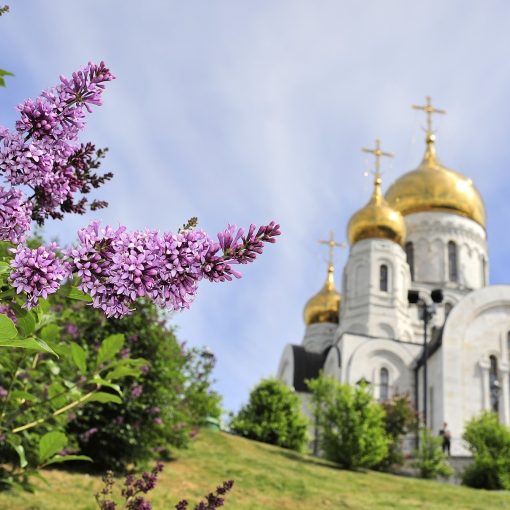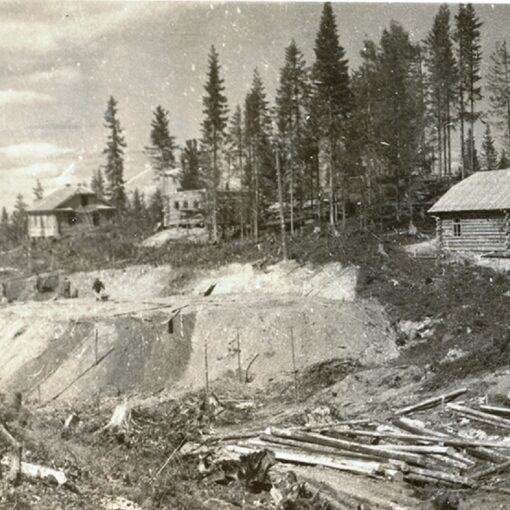5 июня 1745 года мирные обыватели Сургута, маленького глухого городка на Оби, были растревожены лихой вестью: прошел слух, что около города появилась шайка беглых каторжников. Они успели кое-кого пограбить и думают сжечь город. На воротах воеводской канцелярии появилось объявление, где редкий грамотный мог прочесть нижеследующее:
«Сего 1745 года, июня 5 дня, в Сургуцкую воевоцкую канцелярию, следующий из Тобольска на дощаннике порутчик Белянин объявил: из посланных де с ним арестантов бежало 14 человек. И потому его, порутчика Белянина, ведению, о сыску тех арестантов в городе Сургуте, во всенародное известие публиковать и в пристойном месте выставить публичный указ, в котором объявить: ежели где оные беглецы явятся, таковых ловить и объявлять в Сургуцкую воевоцкую канцелярию без замедления; также и в войсковую контору и сотнику Торопчанинову со товарищи послать указ же, по которому предписанных беглецов сыскивать всякими сысками и для того сыску командировать им на каждую ночь, вкруг города ходить, с ружьем, из Сургуцких служилых людей человек по 10 и более, а буде по сыску явятся, то, их имая, объявлять в Сургуцкую воевоцкую канцелярию немедленно».
Нельзя сказать, чтобы это «грозное» сообщение успокоило обывателей, все хорошо понимали, что требование начальства о сыске беглых каторжников было пустым звуком. Сургутский воевода Еропкин понимал, что каторжники не рискнут действовать открыто против города, где все-таки имелось кое-какое войско. Мучило Еропкина другое. Он узнал, что из Тобольска было отправлено в Енисейск два дощаника с колодниками, один под командой Белянина, другой — капитана Хрушкова. Под самым Сургутом с дощаника Белянина бежало 14 человек. Он не решился послать погоню, так как это ослабило бы еще более и так немногочисленный конвой. А мятеж, захват судна и появление под Сургутом сотни вооруженных разбойников представляло для города крайнюю опасность. Вот почему воевода самолично следил и принял все меры, чтобы доставить на дощаник, что требовалось по спискам. Наконец, он вздохнул свободнее, суда с каторжниками отправились далее вверх по Оби.
После этого Еропкин собрал всех служилых людей и казаков и вместе с оказавшимся в ту пору в Сургуте капитаном Булатовым отправились на розыски беглецов. Но каторжники скрылись и зажгли лес верстах в пяти от Сургута, что окончательно остановило преследователей. Вскоре по возвращении розыскной экспедиции в город прибыл ясачный остяк Никита Елчин, который сообщил, что видел дорогой плот, плывший протокой в 10 верстах ниже Сургута, на плоту было более 10 человек «незнаемых людей».
Известие это весьма обрадовало воеводу. Вероятно, для очистки совести Еропкин послал за ними погоню. Пятидесятник Кайдалов так и не нагнал беглецов, проплыв 30 верст. И обыватели Сургута мало-помалу стали забывать страхи пережитых дней. Не предчувствовал и Еропкин, что ему еще предстояло пережить…
Медленно двигались отплывшие от Сургута вверх по Оби дощаники с каторжниками, все время борясь с противными ветрами; приходилось тянуть суда бечевой, что возбуждало ропот и неудовольствие арестантов.
В ночь на 15 июня, когда они ушли от Сургута более чем на 100 верст (находясь в пределах теперешнего п. Локосово — А. Л.), внезапно разразилась буря. Поднявшимся резким порывистым ветром дощаники разбросало в разные стороны. Положение становилось критическим. Дощаник Хрушкова удалось все же направить к берегу, но тут нельзя было становиться на якоря. Пришлось спустить на берег арестантов вместе е конвоем и идти дальше бечевой.
Этого момента только и ждали каторжники. Пользуясь темнотой и сумятицей, они напали на конвой. Отняв у них оружие и связав последних, колодники притянули дощаник к берегу и внезапно атаковали его. Опешившие м не ожидавшие нападения служилые люди сдались почти без сопротивления, только один десятник Телегин, «славившийся» своим жестоким отношением к арестантам, был убит. Забрав большую лодку, перерубив все снасти дощаника, 50 каторжников поспешили удалиться, захватив все бывшее там оружие, порох, съестные припасы, одежду, оставив Хрушкова и команду на произвол.
Ранним утром ветер начал стихать, и с дощаника поручика Белянина заметили, что с судном Хрушкова что-то не ладно. Вскоре обнаружилась печальная истина, и в Сургут был отправлен нарочным десятник Порохня с просьбой о помощи и с предупреждением о возможности набега каторжников на город.
А между тем последние быстро подвигались по течению, вниз по Оби. Вскоре показался Богоявленский Погост, отстоящий в верстах 15 от места происшествия. Из-за тесноты в лодке было принято решение высадиться в Богоявленском и захватить имеющиеся там лодки В результате Погост был «разбит и разграблен без остатку», причем расходившиеся каторжники грозились тоже сделать и с Сургутом, похваляясь: «Мы-де и не эдаки города разбивали».
Гулящая ватага уже целой флотилией отправилась далее. Не прошли они и 10 верст, как показалось на реке какое-то судно, шедшее вверх им навстречу. Подойдя ближе и убедившись, что они имеют дело с купеческим дощаником, они, не долго думая, решились испытать счастье. Окружив дощаник и дав залп из ружей и луков, с криками: «Сарынь на кичку», они бросились на абордаж, ранив при этом тюменского купца Ивана Зубарева и убив наповал одного из его работников. Расправа была коротка. Отобрав наличные деньги, товару, 6 ружей, порох, свинец и бросив на произвол судьбы связанных и ограбленных, каторжники двинулись далее к Сургуту.
Можно себе представить, что представляла из себя эта флотилия обских пиратов. Захватив у купца много суконного товара, они понаделали себе красных плащей, перевязи из шелковой парчи. На передних двух лодках гордо развевались «флаги выбойчаты» самых ярких и пестрых цветов. Можно только представить, какой эффект на местных жителей производила эта толпа.
«Шайтаны, шайтаны на Оби», — испуганно повторяли встречавшиеся с ними остяки, пугливо прячась по протокам и заливам. Но их бедные чумы не привлекали пиратов, другие мысли занимали их головы. Предстояло пройти мимо Сургута, где их могла ожидать неприятная встреча с служилыми людьми. Не зная численности сургутского гарнизона, разбойники опасались этой встречи, исход которой был неизвестен.
Однако случай выручил их…
Воевода Еропкин, не зная ничего о случившемся у Богоявленского Погоста, со страстью предавался своей любимой забаве — охоте и рыбной ловле. 17 июня он вместе со слугами отправился вверх по Оби на остров. Рыбалка удалась на славу, Еропкин уже засобирался обратно, как вдруг заметил, что к острову приближается несколько лодок, наполненных людьми богато и пестро одетыми. Вмиг Еропкин со слугами был связан и очутился во власти людей, о звании, которых можно было без труда догадаться по клеймам и отсутствии ноздрей на «зверских» лицах.
Началась расправа.
«Ты-то де нам и надобен, нам-де про вас сказывали в верху рыбаки, что-де ты здесь на острову», — говорили разбойники, связывая дрожащего от страха Еропкина. После краткого совещания было решено расстрелять воеводу. Его подняли с земли, поставили на ноги и несколько человек с ружьями выступили вперед. Но тут произошло событие, спасшее жизнь несчастного Еропкина.
В числе 50-ти бежавших колодников была единственная представительница прекрасного пола. Архивные документы сохранили нам ее имя. Это была молодая, по-видимому, шустрая бабенка Дарья Хардина, сосланная на каторгу за отравление нелюбимого мужа. Разбитная, веселая, никогда не унывающая, она горячо заступилась за воеводу. Ее страстная и неординарная речь произвела должное впечатление на каторжников. Часа три они спорили. Уже несколько раз считал себя Еропкин покойником, но судьба сжалилась над ним.
Радость избавления от смерти недолго утешала воеводу, с ужасом он думал, что происходит в городе в его отсутствие. Ведь никто лучше его не знал, что во всем Сургуте не сыщется и полпуда пороха, нет и десяти исправных ружей. Наскоро собравшись, воевода решил вернуться в город на лодках которые злодеи не догадались или забыли захватить. Вернувшись в город, он узнал, что пираты не посмели напасть на город и проплыли мимо. Так пронеслась гроза, разразившаяся было под Сургутом.
Спешно писал Еропкин в Тобольск свое донесение о случившемся. Его гонец, отправленный с донесением, получил указание нигде не задерживаться и по дороге собирать сведения о дальнейшем пути следования каторжников.
Как оказалось, 25 июня обские пираты были уже в Белогорье, верстах в четырехстах от Сургута, пробираясь на шести лодках к Березову. По словам ясачных остяков, их было уже 66 человек, видимо, с теми 14 ранее бежавшими с дощаника поручика Белянина.
По получению донесения Еропкина сибирский губернатор Сухарев послал к Сургуту секунд-майора сибирского гарнизона Томилова с командой. В наказе, данном Томилову, предписывалось спуститься в лодках по Иртышу до Самаровского Яма, «а прибыв в тот ям, взять от управителя Суздальцева, его рукою письменное известие, и чрез обывателей наведываться, где вышеявленные воры и разбойники, и по которым рекам имеются, около ли города Сургута, или подлинно проехали к Березову и, наведався о том подлинно и достоверно, следовать за теми ворами и разбойниками и чинить за ними поиски и как возможно, всех переловить, и в случае противления их стрелять по ним из ружья»
Но Томилову не пришлось ни стрелять, ни ловить разбойников. Пока собиралась экспедиция, пока не спеша плыла по Иртышу, разбойники не дремали и все далее и далее забирались на север, по-прежнему грабя все мало-мальски ценное, попадавшееся под руку. Не щадились церкви, пострадал и Кондинский монастырь. Направляя свой путь к реке Сосьве, по которой они думали подняться до Ляпина и оттуда перебраться в Архангельскую волость, пираты нуждались в знающем местность проводнике. Таким оказался захваченный силой остяк Михаил.
Страшные насилия и грабежи этой шайки панически действовали на местное население: все, кто мог, разбегались при виде появлявшейся на горизонте пиратской флотилии. В селе Чемаши успевший скрыться священник отец Вологодской встретил разбойников на паперти церкви с колокольным звоном в полном облачении и с крестом в руках. Пригласив затем их к себе, он угостил их чем мог, а матушка-попадья истопила им баню. Разбойники, тронутые приемом чемашевского священника, отъезжая, благодарили его и матушку за радушие и доказали благодарность, не разорив села, жители которого в страхе разбежались.
Чем закончился этот поход, из архивных источников установить не удалось. Возможно, они сложили свои буйные головушки в непроходимых урманах северной пустыни, а, возможно, добрались, куда хотели.
«Новости Югры», 26 января 1991 года