Валентина Патранова
11 августа 1942 года из блокадного Ленинграда эвакуировались на Большую землю 47 воспитанников детского дома № 0. При отправке обнаружилось, что кастелянша, завхоз и воспитатель на посадку не явились. Детдом №30 формировался в августе из школьников, дошкольников и детей, поступивших в детприемник НКВД Василеостровского района города Ленинграда. До войны у всех этих ребят были семьи, квартиры, но первая блокадная зима многих сделала сиротами.
Дети были крайне истощены, некоторых приходилось вносить в вагоны на руках, поэтому отсутствие трех сотрудников, не явившихся на посадку, сразу внесло немало сложностей. Директору детдома Дмитрию Ивановичу Васильеву пришлось подыскивать воспитателей среди пассажиров поезда. По дороге число воспитанников пополнилось за счет переданных из приемников НКВД ребят.
В Омске, куда прибыл детдом, его доукомплектовали и отправили пароходом дальше, на север области, в поселок Урманный Самаровского района. Двух воспитателей взяли в Омске, еще одну приняли на работу прямо на пароходе. Всего в Урманный в начале сентября 1942 года прибыло 97 человек, из них 75 школьников, остальные дошколята.
Затерянный в таежной глуши Урманный как мог приготовился к приему блокадных детей. А мог он немного. Под детский дом отдали колхозный клуб, склад, несколько классов местной школы, но все равно было очень тесно. В клубе, прямо на сцене и в зеле, устроили спальные комнаты для девочек и мальчиков. На 170 квадратных метрах разместилось почти сто человек, на каждого приходилось меньше двух квадратных метров при норме девять. Ни кроватей, ни шкафов, стульев, столов в комнатах не было. В ряд стояли наспех сбитые нары. На двух нарах размещали по три-четыре ребенка.
Помещения требовали хотя бы минимального ремонта, но колхоз был не в состоянии выделить даже пару рук. Еды, по ленинградским блокадным меркам, было вдоволь. В первый же месяц, судя по бухгалтерской ведомости, детдом получил хлеб, масло, сахар, крупу манную, пшеничную, картофель, капусту, турнепс, свеклу, даже немного сливок, шоколада и рыбных консервов (позже паек будет скуднее).
Постепенно детдом в Урманном укрепился кадрами из местных жителей. С 1 января 1943 года Ленинградский детский дом №30 был переименован в детский дом №79 Омского облоно (под этим порядковым номером он и просуществовал до 1949 года, когда вышел приказ о его расформировании). Директором до отъезда в Ленинград, то есть до июля 1945 года, оставался Дмитрий Иванович Васильев. О нем, как и о других сотрудниках-ленинградцах, сохранились скупые сведения. В 1942 году ему было 46 лет, закончил педагогический институт имени А.И. Герцена, беспартийный. Вместе с ним в эвакуацию выехала и жена Ольга Михайловна, по специальности библиотекарь. С первых же дней она была зачислена воспитателем. По дороге из Ленинграда в Омск ей одной, пока не приняли других воспитателей, пришлось ухаживать за слабыми беспомощными детьми. Заместителем директора была Мария Ефимовна Зиборова, бывшая заведующая детским садом Выборгского района, имеющая высшее педагогическое образование. Никаких шефов в то время не было, поэтому самим сотрудникам и воспитанникам приходилось заготавливать дрова не зиму, собирать грибы, ягоды. Выполнял детдом и директивы, поступающие из района, по заготовке «вершков картофеля» и другой продукции.
Несмотря на крайне стесненные условия, в каких находился детдом, сюда тем не менее ежегодно направлялись дети, чаще всего из приемников НКВД. В каком виде они поступали, свидетельствует один пример. Вчитаемся в акт о состоянии здоровья 20 детей, принятых в детдом №79 15 сентября 1943 года из Тюменского приемника НКВД: «Медосмотр показал, что часть детей заражена чесоткой, по словам детей, некоторые болеют давно. Все дети до одного не имеют верхней одежды и обуви, нательное белье до предела рваное, грязное и завшивленное». Немало повидавшие, обездоленные войной, дети не отличались примерным поведением. Случались и побеги на пароходах, и кражи у местного населения, и драки.
Немало детей-сирот было отдано на воспитание в семьи. Некоторым, достигшим 14 лет, детдом помогал устроиться на работу в колхоз, на предприятия в Ханты-Мансийск. Но эвакуированные из Ленинграда подростки мечтали вернуться в родной город. Как только в Урманный пришло сообщение о ликвидации блокады Ленинграда, 29 воспитанников 6 февраля 1944 года обратились с письмом к председателю Ленсовета: «Дорогой тов. Попков! Мы, ленинградские ребята, были вывезены из города в августе 1942 года. Мы пережили тяжелую зиму 41-42 годов. Мы никогда не забудем эту зиму. В наших юных сердцах ярко пылает огонь ненависти к врагу. Это он выгнал нас из наших квартир и родного любимого города, это он лишил жизни наших отцов, матерей, братьев и сестер не на фронте, а в самом Ленинграде. Спасая, нас увезли далеко от родного города, в таежную Сибирь. С момента эвакуации мы не слышали больше сирен тревоги, свиста снарядов, авиабомб, грохота разрывов. Мы забыли, что значит быть голодными. Многих из нас до приезда на место носили на руках или водили под руки. Теперь мы здоровые и полны сил. За полтора года у нас не только не было ни одного смертельного случая, но даже не было серьезного заболевания. Мы выросли. Многим исполнилось 14 лет и более. Пришло время вступать в трудовую жизнь. Наши родители уничтожили и прогнали врага от родного города. На нашу долю остается восстановить родной город, залечить раны войны. Мы обращаемся к вам, тов. Попков, с просьбой разрешить нам вернуться в родной Ленинград. Наше желание — учиться в школах ФЗО и ремесленных училищах города Ленина. Мы оправдаем геройское звание ленинградцев».
5 апреля 1944 года в Урманный пришла телеграмма от заведующего гороно Ленинграда: «При объявлении набора в ремесленные училища и железнодорожные школы ваше желание будет удовлетворено. Вы будете возвращены».
К сожалению, так и не удалось найти документы, подтверждающие, что воспитанники детского дома возвратились домой. По всей видимости, в Ленинград вернулись те, у кого отыскались родственники. Остальные же — высказываю собственное предположение — рассеялись по всей стране, возможно, часть осела и в нашем округе. Но пока мы не смогли найти их следы, поэтому при подготовке этого материала использовались исключительно архивные данные. Кое-какие сведения удалось найти в окружном архиве. Больше материалов сохранилось в архиве окружного управления народного образования. Путеводителем по прошлому стали отчет детского дома, планы работы, ведомость на зарплату, всевозможные справки, запросы, объяснительные, характеристики. Поистине, слава архивам: без них наша история — пустынная мертвая зона.
Одну папку из архива окружного управления народного образования я читала много часов подряд. Здесь собрана переписка детского дома с родителями и родными воспитанников. 206 писем, запросов, телеграмм со всех концов страны собраны в этой папке. Эти письма из сороковых военных лет читаются так, будто адресованы нам, сегодняшним. Письма, полные нежности и любви к детям, взывают к нашей Душе…
«29.11.1942 г.
Здравствуйте, тов. директор!
Я очень беспокоюсь за свою дочь Галину Туманову. Сообщите мне, пожалуйста, как ее здоровье? Опишите мне, в каких условиях она находится, в чем нуждается. Я вышлю денег. Купите ей что-нибудь из теплой одежды для зимы. Передайте ей, что папа ее целует много раз.
Я очень беспокоюсь за свою единственную дочь, она одна осталась в живых из всей моей семьи. Проклятый Гитлер погубил всех. Передайте Гале, что папа прислал письмо, пусть она своей ручкой хоть что-нибудь начертит на бумаге. Как она выглядит? Была очень худенькая, сами знаете, как пережили такую тяжелую зиму в Ленинграде».
П. Туманов, полевая почта 1821, часть 275».
«13.11.1943 г.
Здравствуй, дорогая моя дочурка!
Шлю тебе большой привет и много-много раз целую мою хорошенькую маленькую козочку. Галя, папа находится очень далеко и очень по тебе скучает, не знаю, когда мы с тобой увидимся. Как только война закончится, так я сразу же приеду за тобой и мы поедем домой, а Ленинград, и будем опять жить вместе. Галочка, я тебе привезу хорошую куклу, помнишь, какую я тебе прислал тогда большую? Также я тебе приготовил хорошие сапожки, беленькие, и еще много игрушек у меня для тебя приготовлено…
П. Туманов»
«17.12.1942 г.
Глубокоуважаемый тов. директор! Вчера я получила письмо от нашего мальчика (моего племянника] Зайцева Марка, эвакуированного как беспризорного из Ленинграда и находящегося в настоящее время у вас в детдоме. Марк потерял в короткий срок всех своих родных: мать, отца, брата, бабушку, дядю и всех остальных родственников. Мы являемся единственными родственниками Марка. Мой муж, инженер, является родным дядей Марка. Одной моей дочери — 19 лет, учится и работает, другой — 15 пет, учится и работает. Я сама тоже работаю. Пишу это для того, чтобы вы видели, что мы сможем сами содержать и поставить на ноги нашего мальчика. Не буду вам писать о том горе, когда мы уже отчаялись найти его местонахождение, и о той громадной радости, когда узнали вчера, что он жив, здоров. Прошу вашего содействия в отправке мне вызова для приездки за Марком.
С. Зайцева, г. Свердловск»
«20.12.1942 г.
Уважаемый тов. директор!
Мы, отец и мать вашего воспитанника Фили Зальцмана, проживающие до сих пор на Кавказе, с большими трудностями, разбитые и больные, приехали 12 декабря в Семипалатинск, чтобы находиться ближе к месту жительства нашего мальчика Фили. Мы надеялись, что из Семипалатинска нам будет нетрудно добраться до Урманного. Однако здесь мы узнали, что зимой нет никакой возможности приехать за сыном.
Мы решили обратиться вам с покорнейшей просьбой написать нам, как Филя живет, питается, не страдает ли от холода. Мы в разлуке со своим сыном уже полтора года и не найдем покоя до тех пор, пока он не будет с нами…
М. и Б. Зальцман, г. Семипалатинск».
«24.5.1943 г.
Добрый день, тов. Васильев!
В вашем детском доме находится на воспитании круглый сирота мальчик Зайков Сергей Степанович. Он мой брат, и я хочу его забрать. Скажите, какие нужны для этого документы? Тов. Васильев! Я потеряла мать и брата, они погибли от голода на глазах Сережи, и поэтому прошу вас поддержать его морально. С просьбой направить его ко мне обращаюсь не только я, но и мои брат, который находится на фронте и был дважды ранен…
Е. Назаретская, г. Алма-Ата».
«[Без даты].
Здравствуйте, тов. директор!
Пишет вам отец Эсауловой Веры Александровны. У меня сегодня счастливый день: после долгих и упорных розысков все же мне удалось найти свою дочь! Сегодня справочно-адресный детский стол Москвы сообщил мне точно, и у меня нет сомнений, что у вас воспитывается моя дочь. Скажите ей, что папа жив и здоров, а мама умерла в 1942 году во время блокады (но вы ей про это не говорите, а скажите, что мама тоже жива). Я про Веру ничего не знал с 1941 года и вот только в 1943 году стал немного находить концы. Опишите мне про Веру, как она живет и как ее здоровье. Наверное, уже учится. Она маленькая была очень ушлая и толковая. Может быть, после всех переживаний она изменилась… Передавайте ей привет и поцелуйте за меня. Вы ведь заменяете им сейчас и отца, и мать.
- Эсаулов, полевая почта 75748 «Л»
«8.4.1945 г.
Уважаемая Ольга Михайловна!
Убедительно прошу вас сообщить в нашем ребенке, Моховой Тамаре Семеновне, 1938 года рождения. Просим вас описать все подробно о нашем ребенке, очень о ней беспокоимся. Хотели бы взять ее к себе, но не знаем, как. Ходили в роно, нам там сказали, что их в Ленинград не повезут. Как у нее ножка — болит или нет? У нее был врожденный вывих, в 41-м году ей была сделана операция, и шесть месяцев она была в гипсе.
В начале войны только сняли гипс, лечение еще не закончилось, и сразу у нее умерли отец и мать, и нам пришлось отдать ее в детдом. Передайте Томочке привет от тети Шуры и тети Нюши. Спросите, что она о нас помнит. Еще у нас большая просьба: нельзя ли ее сфотографировать! Если можно, то мы вышлем деньги…
А. Карпова, А. Денисова, г. Ленинград».
«(Без даты].
Здравствуйте, милые, дорогие моя дети Тоня и Коля!
Я вас прошу: слушайтесь свою няню, она вас будет любить и жалеть и обратно привезет в Ленинград. Будем ходить гулять в садик, кататься на велосипеде. Тонечка, я твое письмо получил, хорошо ты написала. Пиши письма, я буду их читать и в кошелечек убирать. Тоня и Коля, я ваши рисунки получил и в кармашек положил.
- Веселов, п. Чапаевск, Куйбышевская область, часть 1122».
Кроме Урманного, в Ханты-Мансийском районе существовал детский дом №80 в поселке Кедровый. К сожалению, сведения о нем скудны. Известно только, что он тоже был образован в 1942 году, и, вероятнее всего, из эвакуированных ленинградцев. Известно также, что просуществовал он до начала 50-х годов и тоже был расформирован.
Процесс этот был неизбежен: большая удаленность от культурных центров, слабая материальная база военных детских домов не способствовали решению проблем воспитания в мирное время. И тем не менее высокая миссия этих учреждений, обогревших, обласкавших обездоленных детей воины, ни у кого не вызывает сомнения. Надо бы увековечить память о них. Но как? Неформальная задача для многих из нас.
«Новости Югры», 1 мая 1990 года

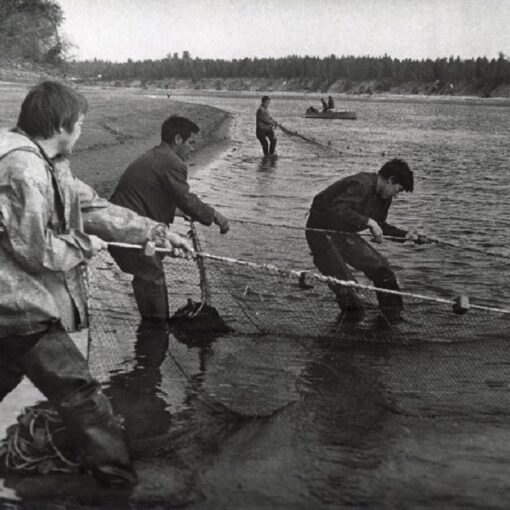


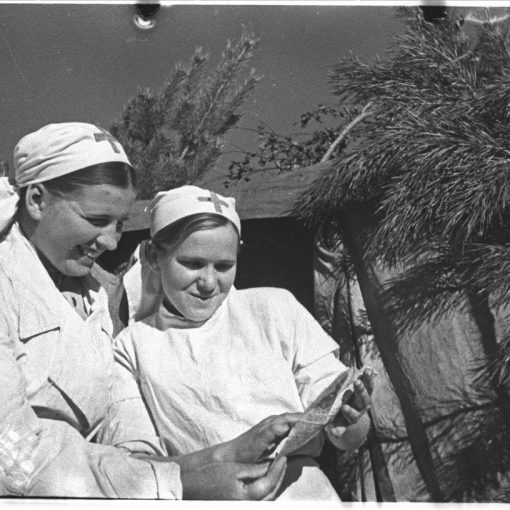
Мысль на тему “Детский дом №79”
Читала и не могла унять слёз. Сколько же страданий выпало детям . Разве можно забыть . Спасибо сибирякам . Судя по письмам они не только выжили а закалились и вышли в жизнь настоящими людьми.