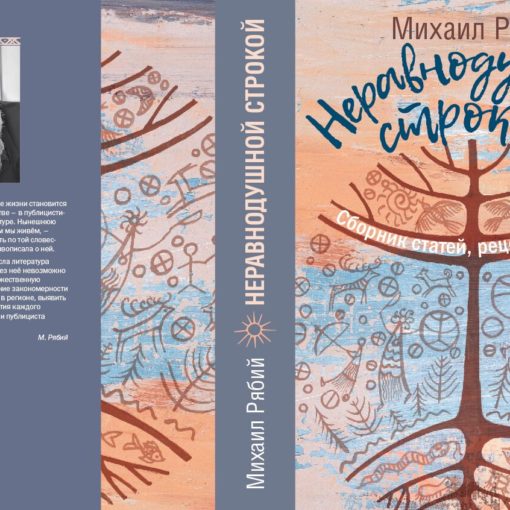Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая
С удовольствием слышу я, что многие образованные люди пишут о разных частях Сибири. Чтобы описать всю Сибирь, ее произведения, народы, населяющие ее, их обряды, предания, надобно посвятить на это жизнь свою. Я буду напротив говорить только о том, что видела, и не с тем, чтоб попасть в число писательниц. Мне приятно вспомнить о той стране, где прошли лета моей молодости. Я жила в Сибири около тридцати лет.
Сибирью называют пространство, заключающее в себе четыре губернии: Тобольскую, Томскую, Енисейскую и Иркутскую. К Иркутской губернии причисляются Якутская и Камчатская области. Прежде причисляли к ней и Пермскую губернию; да и в самом деле Пермская губерния сходствует более с Сибирью, нежели с Россиею; но я, собственно, буду говорить об Иркутской губернии.
В Иркутске полагают около шестнадцати тысяч жителей. Чиновники, купцы, мещане и цеховые составляют его народонаселение.
В Иркутской губернии нет помещичьих крестьян. Местоположение города Иркутска прелестно, особливо, когда подъезжаешь к нему из России. Летом надобно переезжать Ангару на карбазе (так называют там плоскодонное судно вроде барки). Ангара вытекает из озера Байкал, верст за шестьдесят от Иркутска. Она соединяется близ города с Иркутом и обтекает Иркутск. Это прекрасная судоходная река; вода в ней чистая, дно каменистое; в Иркуте дно песчано-глинистое, вода гораздо теплее, и при соединении этих рек каждая сохраняет свой цвет; в Ангаре вода светлая, прозрачная, от глубины кажется синего цвета, а в Иркуте от глинистой почвы дна вода мутная, красноватого цвета. Иркут тише; он становится и вскрывается прежде Ангары, которая очень быстра, становится в декабре и вскрывается в марте. За рекой виден обширный луг, а вдали Вознесенский монастырь, в котором мощи первого епископа Иркутского Иннокентия. Каждый из жителей города несколько раз в год идет туда помолиться угоднику. Монастырь хорошо выстроен и богато украшен. В нем три церкви каменные и одна деревянная, в которой служил Иннокентий и где прежде лежали мощи его. В 1805 году они перенесены в Вознесенскую церковь и положены в великолепную серебряную реку. Церкви украшены серебряными вызолоченными иконами; кельи каменные. Далее по берегу возвышаются горы, одетые зеленеющимся лесом, при подошве которых разбросаны деревни.
Жители Иркутска почти все бреют бороду и стригут волосы, не носят русских кафтанов, и даже черный народ носит летом халаты, а зимою тулупы, крытые китайкою или нанкою; летом круглые шляпы и картузы, а зимою шапки и меховые картузы. Отличительный наряд женщин низших сословий – покрывало, которое они называют накидкою. Накидки бывают обыкновенно ситцевые; носят и канаватные, с золотом. Прежде были накидки канаватные рублей по сто; и теперь многие за стыд почитают выйти из дому без накидки. Обыкновенную одежду женщин из простого народа составляют рубашки с широкими рукавами и узенькими запястьями (у пожилых женщин бывает у рубашек высокий ворот и широкий воротник), юбка и душегрейка, или шушун. Шушуны бывают различных покроев. Голову повязывают платком. Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки; платки были парчовые, глазетовые, тканые, с золотыми каймами, шитые золотом, битью, канителью; бывали платки по сто пятидесяти рублей; дома носили в достаточных и бедных домах бумажные вязаные колпаки. Ныне все молодые женщины, купчихи, одеваются точно так же, как и в столице. Кто приедет прямо из Москвы или Петербурга, тот мало заметит разницы в одежде; зато его слух жестоко пострадает от тамошнего выговора. В богатых купеческих домах женщины с давних времен подражали столичным модам, и нигде более, я думаю, не сохранились наряды прабабушек. В маскарадах встречаете роброны, фуро, на головах кораблики; мужчин видите в старинных французских кафтанах. На женские наряды употребляли прежде штоф французский, китайский, штоф по саржирону. В другом месте я упомяну о разных нарядах и названиях разных материй, которых имена скоро исчезнут.
Вообще во всей Сибири живут очень чисто. Полы в домах некрашеные, исключая немногие дома; но их так чисто моют, что они кажутся даже палевыми. Вымывши пол, стелют холстины, сшитые во всю комнату, натягивают их и приколачивают гвоздями, а сверху постилают ковры или пестрые узкие полосатые холстины, которые бывают также белые холщовые, клетчатые, полосатые, тканные пополам с шерстью. Это изделия крестьянок тамошних; они красят пряжу и шерсть в разные цвета травами, иногда так хорошо, что ткань не линяет. Конечно, все это в грубом виде; но замечу, что если бы кто взялся испытать травы, то, кажется, можно б иметь из них хорошие краски. Начиная с комнат, везде найдете чистоту: в кухне, в погребе, в бане, и даже до такого излишества, что моют дома снаружи.
В Иркутском уезде хлеб вообще родится хорошо. В доказательство скажу, что в обыкновенные урожайные годы цена ржаной муки от сорока до шестидесяти копеек. Землю никогда не удобряют, но по достаточному количеству оставляют на год или на два. Всех родов хлеб родится там хорошо, как-то: рожь, пшеница, овес, ячмень, гречиха, просо, которого сеют мало; пшеницы озимой не сеют; конопли родятся хорошо, а льну сеют мало: он не всегда хорошо родится. Холсты делают из поскони. Подгородние крестьянки прядут из пеньки много самых тонких веревочек, которые называют мотоуз; его много расходится для вязанья белки и для неводов и сетей. Овощи родятся изобильно, как-то: картофель, свекла, морковь, репа, редька, лук, пустарнак, петрушка, сельдерей, укроп, чабер, шалфей, мята, зоря, салат разных родов; дыни и арбузы садят в парниках; огурцы родятся, по не в таком изобилии, как в России; тыквы родятся довольно хорошо. Около города садят табак и хмель; они хорошо родятся. Поля и леса покрыты цветами. Некоторые назову я, как называют их в Сибири: сарана разных родов. Это род лилии; имеет луковичный корень, который буряты употребляют в пищу, особливо за Байкалом; они осенью роют его, заготовляя на зиму, и варят из него род каши; уверяют, что это довольно вкусная пища. Полевой мак, астры, гвоздика, колокольчики, жаркие цветки, кукушкины сапожки, лютик синий и белый, множество других цветов; есть много бальзамических и полезных трав, особливо около Байкала. Там есть травы очень сильные, и если их много употреблять, то они вредны; таковы; брунец, воронец, черногрив, дикий перец и множество других. Леса состоят из следующих родов дерев: сосна, лиственница, береза, ольха, пихта, осина, кедр, тополь, черемуха, калина, рябина, дикая яблоня, ива, боярышник; нет липы, дуба, вяза и фруктовых деревьев. Кустарники: шиповник, таволожник (или таволга), багульник, дикий розмарин, золотарник. Около Байкала и близ селения Тунки растет можжевельник двух родов. Ягоды: смородина черная и красная, малина, клубника, земляника, голубица, черница, княженика, костяника; около Байкала есть морошка; брусники очень много, особливо по хребту гор, окружающих Байкал; клюквы мало. С Лены привозят ягоду, которой я нигде не видала, кроме Иркутска: это облепиха; цветом она оранжевая, величиною с барбарис, и косточки ее похожи на барбарисовые. Пытались разводить плодовитые деревья; привозили, например, из России яблонные и грушевые; они принялись, цвели, но не было плодов; прививали к диким яблоням, но не было успеха. Впрочем, для охотника есть возможность иметь плодовитые деревья в грунтовых сараях. Барбарис и крыжовник хотя росли, но плодов не было.
По лесам много разных родов грибов, груздей и рыжиков.
В бесконечных лесах Иркутской губернии водятся разные звери, как-то: медведи, волки, соболи, лисицы, росомахи, белки, векши, летяги, барсуки, хорьки, кроты, зайцы, кролики, ласточки, бурундуки, дикие козы, кабаны и кабарга. Из птиц: глухие тетерева, обыкновенные тетерева, рябчики, кулики, дикие голуби, кукушки, куропатки, драхвы; около рек и озер разных родов утки, крохали, турпаны, гагары, рыболовки, гуси, лебеди, журавли, цапли; из хищных птиц: разных родов ястребы, коршуны; из певчих; синицы, снегири, клесты, щуры, зяблицы, малиновки, ласточка, чечетки; из мелких обыкновенных; плишки, стрижи, воробьи; есть совы и филины; много ворон и сорок.
Домашний скот так же, как и везде в России, составляют коровы, овны, козы, свиньи, лошади. Рогатый скот пригоняют более из Красноярска. Буряты имеют большие стада, но скот их мелок и не тучен. У бурят забайкальских скот лучше, но его трудно доставлять в Иркутск; зимой иногда привозят от них говядину тушами. Дворовые птицы; куры, утки, гуси, индейки; последних мало водят. Реки изобилуют рыбой; в них есть таймени. сиги, лини, окуни, хариузы, щуки, караси, пескари, язи, сороги, налимы; но главное продовольствие Иркутска и его уездов составляют омули. Эта рыба – род сельдей и видом на них похожа; она очень вкусна, особливо, кто к ней привык. Главный лов ее в августе. Переправясь через Байкал, к реке Селенге, которая впадает в Байкал, промышленники являются с запасом бочек и соли, а женщины для чищенья рыбы. Чешуи с нее не счищают, а только распластывают самую рыбу, вынимают из нее внутренность и отделяют икру, которую солят и кладут в мешки и кадушки. Омули, которые ловятся позже, называются котцовыми; они не так вкусны, но икра их очень вкусна. Еще ловят омулей зимою, в селении Бугульдеихе; потому и называются они бугульдейскими; их продают зимою.
Из Томска привозят зимою много свежей рыбы, как-то: осетров, стерлядей, нельмы (белорыбицы), муксунов. Но я еще обращусь к омулям, этим сельдям иркутским. Все жители, богатые и бедные, любят их, и когда привозятся первые омули и икра, то все идут на берег покупать омулей и икры свежего засола. А как везде большую часть народонаселения составляют люди небогатые, то бедных более, нежели богатых, идет покупать омулей и икры. Мужчины, женщины, дети несут омуль или два и икры копейки на две, в капустном листе. Я еще помню, что лет тридцать пять тому назад (1825–1830 гг.), бочка омулей продавалась по тринадцати рублей; в бочке обыкновенно бывает тысяча или немного более; но лет за пятнадцать цена возвысилась до шестидесяти рублей. Из Баргузина и Ольхона привозят юколу и порсу; первая более делается из щук и сигов. Из сигов делают ее следующим образом: целую рыбу, распластавши, надрезывают поперек и вялят на солнце; щуку только распластывают и вялят. Порсу делают из окуней и другой мелкой рыбы, то есть сушат рыбу кусками, вместе с икрой. Порсу употребляют в посты для щей, как снядки в России. Еще привозят, хотя в небольшом количестве, из Томска небольшую рыбку муксун, сушеную, которую более подают на закуску. Когда привозят зимою из Томска осетров, то всякий, кто может, заготовляет эту рыбу впрок дома, а соленой хорошей редко можно достать в рыбном ряду. Летом привозят живых осетров, но они не дешевы, и потому этим могут пользоваться только люди богатые.
Судя по тому, что я говорила о произведениях Иркутска и его уездов, нельзя назвать этих мест голодными; там есть все нужное, кроме предметов роскоши; нет ананасов, апельсинов и других фруктов; нет яблоков и даже вишен; но это не составляет народного продовольствия. Иной, живши и в России, сроду не ел апельсинов, абрикосов. Также довольно дороги в Иркутске вещи, привозные из России, потому что дорого стоит провоз; но человек достаточный может иметь все; варенье, обсахаренные плоды, сухие фрукты, вина; даже шампанское и ром в Иркутске не редкость, но все это очень дорого. Зато есть много вещей, которые довольно дешевы, особливо все нужное для домашнего продовольствия. В урожайные годы мука ржаная от 40 до 70 копеек за пуд; пшеничная хорошая от 1 рубля 60 коп. до 2 рублей; говядина от 2 До 3 рублей за пуд; масло коровье от 16 до 20 рублей; конопляное 30 коп. за фунт; масло из кедровых орехов рубль фунт; крупа ячменная от двух с полтиною до трех рублей пуд; воз сена от пяти до восьми рублей; сажень Дров однополенных, лучших березовых 5 руб., сосновых 2 руб. 50 коп. и три рубля. Овес продают не четвертями, но мешками; мешок, в котором около трех четвериков, стоит 2 или 3 рубля. Овощи продают также мешками; мешок, с лишком два четверика, картофеля 8 гривен и рубль, свеклы и моркови 7 и 8 гривен, репы 40 и 50 копеек; капусты сотня 4 рубля. Масло коровье, конопляное и ореховое продаются безменами; безмен составляет два фунта с половиною.
Каждый народ приискивает в произведениях своей земли не только нужные вещи, но и лакомства, свойственные месту его жительства. Простой народ в Иркутске весной лакомится сосновым соком. Вы спросите, что это такое? Весной женщины, которые этим промышляют, идут в лес, счищают кору с сосновых деревьев и тонкою проволокою сдирают находящиеся под корою пласты, толщиною в картузную бумагу, вершков в шесть длины и вершка 3 ширины; это называют соком. Многие продают его рубля на три в день. Его носят по улицам женщины и кричат; кому надо соку? Услышав этот призыв, дети бегут покупать сок, да и взрослые все едят его, говоря, что он здоров. Другое лакомство простого народа; выжимки из кедровых орехов. Когда делают масло, остатки эти называют избойной, продают их фунтами или делают маленькие лепешечки и продают по копейке, иногда и дороже. Сухую черемуху мелют мелко, обваривают кипятком, прибавляют сахару или меду и пекут с этой начинкою пироги; это очень вкусно. Еще есть лакомство или, лучше сказать, забава: берут смолу с лиственницы, кладут ее в горшок и ставят в легкий жар на несколько часов; вынувши, простуживают и продают кусками или лепешками. Приготовленную таким образом, называют ее серою2 и жуют, наиболее женщины почти всех сословий; но в хороших домах стыдятся жевать, особливо при посторонних. Хотя это не слишком хорошая привычка, но в Индии также любят жевать бетель, а в Испании курят сигары. Везде свои обычаи!
В Иркутске два гостиных двора наполнены разными товарами. Тут есть все, начиная от предметов роскоши до самых грубых изделий; но нет такого разделения лавок, как в России. В одной лавке найдете вы сукно, шелковые материи, холст, чай, сахар и разные мелочи. Кроме этих рядов есть лавки, где прежде был базар, который переведен в другое место и обнесен забором. На базаре продают крупу, орехи, бруснику, калачи, разных сортов булки, ржаной хлеб, сусло, вареное с брусникой и черемухой, разные припасы. В Иркутске нет овощных лавок в домах. Тут же на базаре есть род лавочек, которые называют балаганами, и в них продают свечи, мыло, серу горючую и лиственничную (которую жуют) и разные мелочи. Зимою тут женщины продают молоко замороженное. Я нигде, кроме Иркутска, не видала, чтобы продавали молоко кругами и кусками. Многие говорят, когда рассказывают об этом, что мороженое молоко не хорошо для употребления; напротив, я нахожу это достойным подражания. Вот как это делается: зимою, когда есть лишнее молоко, которое хотят сберечь, выливают парное в чистую кастрюлю, кладут в него чистую лучинку и выставляют на мороз. Через несколько часов оно замерзает; тогда вносят его в тепло, дают немного оттаять и за лучину вынимают из кастрюли; потом относят опять на холод и кладут в чистую кадушку, которую закрывают, чтобы молоко не ветрилось. Когда нужно употреблять, приносят его и растаивают. Не только молоко, но и сливки можно сохранять таким образом более месяца.
Иркутск можно почесть средоточием и складочным местом сибирской торговли. Все товары, идущие из России, проходят через Иркутск в Кяхту, Якутск, Охотск, Камчатку. Из России идут для Кяхты сукна, мерлушки, кошка, немецкие бобры, корсак, юфть, сафьян, козел; также изделия наших фабрик: затрапез, плис, зеркала, красные кораллы, которые китайцы и русские купцы называют маржан. Из пушных товаров, которые доставляет Сибирь, промениваются китайцам белка, лисица, низкие соболи, хорьки; бобры и выдры идут через Американскую компанию. От китайцев получаются: чай разных сортов, как-то: байховый, черный, сквозник, цветочный разных сортов, зеленый и кирпичный, сахар-леденец, часть китайки, дабы, канчи, фанзы, чанчи, флер, урубки, небольшое количество фарфору и деревянной, крытой лаком посуды, разные сухие фрукты, виноград, плоды, табак курительный. Есть еще много товаров, промениваемых от русских купцов и вымениваемых от китайцев; но я не упоминаю обо всем подробно, ибо не смею взять на себя описывать такой важный предмет. Если бы кто из господ торгующих взял на себя труд описать нашу торговлю с китайцами, это было бы весьма любопытно.
В Якутск отправляют товары, получаемые из России, также разных сортов чай, сахар-леденец, ром и разные вина, муку ржаную и пшеничную, сухари, пряники, крупу, свечи восковые, масло коровье и деревянное, табак, мыло, свечи сальные. Оттуда вывозят белку, соболей, разных родов лисиц, медведей, песцов белых и голубых, мамонтовую кость. Часть товаров идет в Охотск, в Камчатку, в Ижигинск, в Зашиверск и другие места; оттуда получаются те же пушные товары, о которых упомянуто выше, кроме мелочей, вывозимых более каждым для себя, каковы, например, перчатки разные, очень хорошо вышитые; из Камчатки и Ижиги чулки ровдужные, парки, камлейки, унты (Мягкие сапоги из шкур диких коз, мехом внутрь.), нитки из жил и моржовые клыки. Из Енисейска получают белку и небольшое количество других пушных товаров, также холст, унты, рукавицы, нитки, колпаки бумажные, вязаные чулки. Из всех товаров, проходящих через Иркутск, оставляют нужное количество для города, а прочие отправляют в уездные города. Если чего нельзя иметь в Иркутске, то это свежих плодов; все другое можно достать. Есть много предметов промышленности, которые совсем другим образом производятся, нежели в России. Народ привык к этому порядку вещей; например, в Иркутске нет мучных лавок; всякий покупает в торговые дни на рынке муку ржаную, пшеничную, крупу, овес: многие заготовляют все это в год, а кто не в состоянии, те покупают понемногу. Есть хлебные казенные магазины, из которых для бедных отпускают муку, по пуду на семейство, дешевле базарной цены. В мясных рядах, кроме говядины, можно купить всегда языки, студень и проч.. но баранины продают очень мало, телятины нет; а если кому нужно, то покупают теленка и дома бьют. Нет птичных лавок, и если кому нужно, то берут птицу в домах; у всякого, кто живет домом, есть дворовая птица. На зиму, в последних числах ноября, а иногда и раньше, смотря какова осень, бьют гусей, уток, кур, индеек и, вычистивши, обледеняют каждую птицу порознь, складывают в кадки и засыпают снегом. Так как зима бывает постоянная, то птица сберегается до апреля и далее. Свинину и поросят всегда можно купить на рынке; ветчины не продают на рынках, а всякий заготовляет ее дома; иногда можно и купить в домах. Погребов зеленных нет; все нужное заготовляют с осени; нет булочников и нигде не пекут кренделей и хлебов, так называемых французских. На рынке продают калачи обварные и простые булки, ржаной и пшеничный хлеб; но по большей части пекут все это дома. Разносчиков нет никаких, кроме что весною и летом женщины продают лук, редьку, сок сосновый, о котором я упоминала, и ягоды. Носят иногда картофельную муку, которая там превосходной доброты, масло конопляное, ореховое и ореховую избоину. В Иркутске также нет модных магазинов. Кажется, что сметливая модистка могла бы там нажиться порядочно. Кондитерских и трактиров тоже нет. Меня, когда я приехала в Россию, изумило множество вывесок, хотя я прежде и знала о них.
Лет тридцать назад в Иркутске вели жизнь патриархальную. Хозяйки сами занимались хозяйством; в семействах, где были женатые братья, невестки ходили поочередно в кухню смотреть за приготовлением кушанья, а девицы разливали чай; весь дом и хозяйство заведывали сами хозяйки. При сватанье за девицу никогда не спрашивали денег и приданого; всякий давал по своему состоянию; не было рядных, и если кто просил денег, то такой жених получал отказ; говорили, что хочет жениться на деньгах; и потому женихи искали только, чтобы невеста была хороша лицом, хорошего характера и была бы хозяйка.
Девиц с малых лет приучали к хозяйству. В достаточных домах все заготовлялось впрок, годовое; мука, разная крупа, семя конопляное, орехи кедровые, брусника, масло коровье; на зиму заготовляли солонину, капусту многими манерами, огурцы, грузди, рыжики, обварные грибы, варенье разное, овощи, коренья; к лету приготовляли ветчину, рыбу, языки, говядину провесную. Во многих домах макали свечи, два раза в год: осенью и в марте; делали свой солод; посылали служителей за дровами, за вениками; заготовляли на год дресву, то есть крупный песок: это вещь необходимая в опрятном иркутском хозяйстве; ее достают на кость, или, лучше сказать, на ангарской отмели, против города, или у Петрушиной горы; там копают ее и промывают в воде.
Купцы занимаются торговлею в Кяхте, ездят в Якутск, Охотск и на ярмарки Нижегородскую, Ирбитскую и Ононскую. С сентября едут купцы сами, а некоторые отправляют приказчиков в Тунку, в Баргузин, в Илимск, в Нижнеудинск и в Верхнеудинск за покупкою белки и пушных товаров. В ноябре начинают приезжать с товарами и тогда же приезжают буряты из Тунки, Каменки и Балаганска с пушными товарами. Князьки их привозят довольно большие партии; к ним ездят на квартиры смотреть белку и другие товары; простые звероловы, у которых небольшие партии, возят в санях и носят по домам белку, медведей, соболей, волков, лисиц и струю кабарожью.
Осенью и зимою в купеческих домах встают очень рано; чай пьют со свечами, потому что с рассветом дня начинаются дела. Буряты стараются прийти, когда еще чуть начинает светать, но все знают их уловку и обыкновенно заставляют дожидаться совершенного рассвета; тогда смотрят товар и торгуются. Когда куплено довольное число белки и других товаров, то их разделяют на сорты; белку вяжут в бунты, по двадцати белок; этим занимаются многие жители, так что белковязание составляет особенное ремесло. Иногда в одном купеческом доме вяжут белку человек 10, 15 и 20. Они работают всегда на хозяйском хлебе, и их кормят хорошо, поят чаем, а перед обедом, ужином и завтраком дают им по рюмке водки. Связавши белку, тючат в тюки и отправляют в Кяхту, в Москву или на ярмарки Ирбитскую и Нижегородскую. Лучшая белка почитается баргузинская, тункинская под-городняя и якутская; затем следуют енисейская и ленская. Соболи почитаются лучшие баргузинские, нерчин-ские и витимские; они имеют высокий волос и черный цвет, но скоро отцветают; камчатские не так черны, но не так скоро и отцветают. Соболь сортируют и разбирают на сороки; сороки делятся на полусороки; связка из двадцати соболей кладется в китайчатый мешок, длиною против величины соболя, шириною вершков в восемь; эти так называемые сорочки делаются обыкновенно из нелощеной синей китайки. Лисицы разбираются на десятки. Лучшие соболи отправляются в Россию; китайцам променивают низкие соболи и то в небольшом количестве.
В Иркутской губернии одна казенная фабрика: Тель-минская суконная и при ней хрустальная. На них работают ссыльные; она в хорошем устройстве. Частные заводы есть кожевенные, мыловаренные, свечные. Ремесла, которыми занимаются жители, не в лучшем состоянии, потому более, что люди богатые стараются все нужное для себя выписывать из Москвы и Петербурга; однако ж есть хорошие ремесленники, как-то; серебряники, медники, кузнецы, столяры, скорняки, портные, сапожники, башмачники, плотники. Это я говорю о свободных ремесленниках; но в Иркутске есть еще рабочий дом, где находится определенный комплект ремесленников из ссылочных. Там можно найти почти всяких мастеров; даже есть часовщики и живописцы. По прошествии положенных лет те рабочие, которые ведут себя хорошо, получают дозволение селиться, и они уже населили так называемую Борисоглебскую слободу, которая составляет предместие города, близ рабочего дома.
Многие из жителей мясники; из них есть люди богатые; также много рыбаков, и они из роду в род передают свое занятие; откупают рыбные ловли и артелями ловят рыбу; зимою продают ее в рыбном ряду, а летом на берегу, куда приплавляют ее в лодках. Есть ремесленники, которые принадлежат тамошнему краю исключительно; это ширяльщики и зверовщики. Первые ширят в кожи товары, отправляемые в Охотск и Якутск; вторые промышляют белку, соболей, лисиц и прочих зверей. Они уходят в леса, по нескольку человек, в известные им места, более около Байкала; там у них построены избы, и туда забирают они с собой нужное количество хлеба и Других припасов, берут собак и живут месяца по два; уходят в первых числах сентября, а приходят в ноябре. Собаки у них простой породы, но очень злы; они берут их главное для стережения. Зверей ловят кляпцами или стреляют. Некоторые крестьяне стреляют диких коз, также ловят пленками или силками птиц, ставят кляпцы на зайцев; но преимущественно этим занимаются буряты. Многие женщины пекут сухари для Якутска, Охотска и Камчатки, ржаные и пшеничные двух сортов: простые и сдобные. Эти сухари не то, что разумеют под названием их в России; это из пшеничного теста испеченные, самые маленькие булочки, которые высушивают для того, чтоб они не портились; ржаные сухари бывают ровными резаными кусками. Крестьяне, живущие по берегам Иркута и Ангары, занимаются рубкою леса и дров. Весь лес, употребляемый на постройку домов, плавится по Ангаре и Иркуту; но главные лесные ярмарки бывают 8-го и 20-го числа июля; особенно первая есть маленький праздник или, лучше сказать, развлечение для жителей. Кроме леса приплавляют на плотах вилы, грабли, лопаты, лукошки, плетенные и просто сшитые из бересты; также туязки (так называют там бураки, которые употребляют в России для икры и меда). Их делают очень искусно и разной величины: от стакана до двух ведер; в них держат воду, квас, молоко, ягоды. Кто из иркутских, бывши ребенком, не восхищался туязками? Для детей делают их тисненые и с резьбою, под которую подкладывают цветные лоскутья и сверху покрывают сладою. Еще привозят на плотах мох, которым конопатят дома при постройке. Лет сорок назад все дома строились самым старинным манером. Обыкновенно двор обносили высоким забором, что в Иркутске называют заплот; большие ворота были заперты засовом и отпирались только для проезда экипажей; для пешеходов была сделана калитка, у калитки задвижка, к которой привязывался ремешок; Если ремешок был продет на улицу, то можно было поднять задвижку и отворить ворота, а если выдернут, то надобно было стучать; для этого приделывалось большое железное кольцо, а под кольцом железная же бляха, чтоб слышнее было, когда стучат. Передний двор вымощен бывал досками. Дома были высокие и строились в два жилья: вверху горницы, а нижнюю половину занимала кухня, которую называют там подклет, и кладовая, по-тамошнему, подвал. Если дом был в одно жилье, то низ занимало подполье, род сухого, погреба, и подвал. Крыльцо делали высокое, внизу обнесенное решеткою, с дверцами; на крыльце были устроены лавочки; сени большие тоже со скамейками кругом стен и с двумя окнами. Летом в сенях обедали и ужинали. Посреди сеней была дверь в чулан, а позади чулана ход наверх. В иных домах были мезонины, которые называют в Иркутске чердаком; они были по большей части холодные. Горницы разделялись сенями на две половины; их обыкновенно называли задняя и передняя; передняя на улицу, а задняя во двор. Из сеней входили прямо в горницу; там на правой стороне изразчатая печь с вычурами. В переднем углу ставили образа; перед образами висели лампады с восковыми свечами. Под ними в углу ставили стол, крашеный: голубой, зеленый или красный, с белыми краями; кругом были скамьи, которые после заменили софами (обшитыми кожей) и стульями. Комната обыкновенно разделялась надвое: за перегородкой была спальня, и стоял шкаф с посудой. В задних комнатах помещались дети; иногда старики хозяева уступали переднюю горницу женатым сыновьям, а сами жили в задней. Трудно поверить, сколько помещалось людей в двух, трех комнатах. Можно сказать, что где нынче тесно четырем человекам, там в старину жили десять человек и были здоровы и веселы. Если не было кухни внизу, то она была выстроена во дворе, и тогда называли ее зимовьем. Жизнь была также патриархальна, как и убранство комнат. В простые дни, вставши до света, разумеется зимой, все пили чай; мужчины зимой с рассветом, если семейство было большое. После этого в купеческих семействах одни оставались дома, а другие шли в гостиный двор; но прежде завтракали, потому что редко приходили зимою обедать, а если и приходили, то поздно. Обед в простые дни, когда случалось много дела, был в два часа; после обеда опять занимались всякий своим делом; часа в четыре пили чай, а часов в восемь или девять ужинали. После ужина женщины и особливо девицы сидели и шили. Где в семействе было несколько девиц и женщин, там все шили сами белье, платье и разные домашние мелочи. Женщины в Иркутске большие мастерицы шить белье и щеголяли этим одна перед другою. Нигде, я думаю, так хорошо не стегают одеял разными манерами, но в домах достаточных не стегали дорогих одеял; на то были особенные мастерицы и брали прежде рублей 30 или 40 за одеяло; нынче эта работа стоит рублей сто или более. Девицы особенно занимались разными рукодельями: вышивали шелками, золотом, фольгой, в тамбур и гладью; вышивали разными узорами полотенцы; но главное занятие было хозяйство. В больших семействах, как я уже сказала, ходили поочередно в кухню; но в праздники или именины там заботились все. Каждое воскресенье ходили к заутрене и к обедне. Обед в праздники был рано. После обеда старики отдыхали, а люди молодые ехали кататься или в гости. Даже в богатых домах вся прислуга состояла из двух или трех женщин: это были кухарка, горничная и при детях нянька. При такой чистоте и порядке, какой наблюдался во всех домах, не мудрено, что хозяйкам много было дела. Они не знали экономок и сами занимались выдачею всего. Ни в одном доме купеческом не было лакеев; должность их исправляли мальчики, которых отдавали родители или родственники для навыка к торговле. Такой мальчик, исправляя разные поручения хозяев, должен был прислуживать и в доме; это продолжалось два, три года. Если он оказывался верен и расторопен, то ему поручали уже дела большей важности, а место его занимали другие. Для черных работ имели работников, которые исправляли и должность кучера. Когда бывали при доме дворник или два, их называли караульщиками. Они стерегли дом поочередно, днем и ночью. Зимой почти в каждом доме жили в работниках буряты. Они приходили в город осенью и жили до мая; тогда опять уходили в свои улусы. Они привыкли жить в русских домах и всегда исправляли, как нельзя лучше, домашние работы: ездили за дровами, рубили их, возили воду, смотрели за скотом.
Около Иркутска множество леса, и потому, лишь едва становилась зимняя дорога, многие посылали работников за дровами в лес. Каждый день он должен был встать часа в три пополуночи и ехать на двух или трех лошадях. При трех лошадях отправлялись двое, а на одной или двух один, и ездили верст за 10 от города или много за пятнадцать; к двум часам возвращались с дровами. Когда много было навезено дров, то весной нанимали бурят рубить их. У кого были две лошади, те могли в зиму заготовить таким образом сажень 20 дров. Иногда весной нанимали бурят рубить дрова в лесу и для этого назначали им удобное место верст за 15 или за 20 от города; они рубили дрова и клали полусаженями. Зимой перевозили дрова на своих лошадях или нанимали крестьян перевезти их. Случалось, хотя редко, что половину такой заготовки крали охотники до чужого.
Зимою живет в городе много бурят. Они там отправляют ремесло маклеров или сводчиков. Многие, сами перекупая у своих товар, носят его по домам, а обыкновенно принесут товару рублей на сто, и придет их человек пять; но это более все подгородные и бедные; зажиточные из них занимались скотоводством и многие землепашеством. Они доставляют большое количество сена; также их промысел деревянная посуда. Они привозят чашки деревянные, корыта разной величины и ложки, которые называют в Иркутске сеяльницами.
Живущие около Байкала привозят рыбу, орехи кедровые, ягоды (бруснику) и дичину. Женщины их хорошо выделывают овчины и шьют шубы, так что многие русские отдают выделывать и шить их. Они также покупают всякую ветошь из старого платья, особливо лоскутья шелковые и суконные, а после отвозят их в свои улусы. Женщины их носят на шее корольки разных цветов; пояс их убран разными бляхами из олова, а у богатых из серебра.
Живущие около Балаганска привозят масло коровье; но его должно перетапливать для употребления, потому что они наливают его в кожаные мешки и пузыри (которые называют чалпанами), и от того оно имеет дурной запах. Князьки их называются тайшами; другие чиновные люди зайсанами и шуленгами. Много есть богатых. Все они утверждаются в чинах и званиях правительством и имеют кортики, но носят свое платье.
Довольно странно видеть их на балах у начальников в их штофных и бархатных платьях, с их азиатской физиономией.
Именины праздновали в Иркутске обыкновенно вот каким образом: утром пекли множество пирогов, сдобных, из простого теста, с вареньем, изюмом, черносливом, винными ягодами, с пшеном сарочинским, капустой, морковью и другими начинками. Пироги рассылались к родственникам по три и по четыре пирога; где были маленькие дети, то клали маленькие пироги по числу детей. Разносили и развозили их женщины. Вошедши в комнату, женщина молилась богу, кланялась хозяевам и, поставив пироги на стол, просила пить чай к имениннику или обедать, как было приказано; потом отправлялась в другой дом. У кого было много родни, те рассылали несколько женщин с пирогами. Знакомых звали без отсылки пирогов. Вечером, когда приезжали гости, подавали вина, потом кофе (хотя и не вовремя) и чай; к чаю подавали женщинам каждой тарелку с разным пирожным. В комнате, где сидели гости стоял стол, уставленный вареньями и фруктами; мужчинам подавали после чаю вина и пунш. Они говорили о торговле, о вновь полученных известиях, о том, что пишут в газетах, которые многими получаются. Иногда вечер оканчивался танцами и ужином, но никогда не видно было карт.
Лет за тридцать свадьбы отправляли в Иркутске со многими обрядами. Как у бедных, так и у богатых сначала отец и мать советовались между собою; потом призывали жениха, объявляли, какую невесту назначают ему, и если она ему нравилась, то собирали ближних родственников и советовались с ними, но это был уже только обряд, где объявляли, что намерены женить сына. Тогда из среды родных назначали одного, кого почитали способным к переговорам. Если назначаемая невеста не нравилась, то жених мог сам избирать, только с согласия родителей. Может быть, не много мест в России, где браки так беспристрастны. Со стороны родителей и самого жениха почитали главным, чтоб невеста была хороша собою и кроткого характера и чтобы семейство ее было известно с хорошей стороны. Обыкновенно говорили: «Лучше взять без приданого, но доброго роду». Дочери сварливой женщины – могли спокойно сидеть в девках, потому что о них говаривали: «Яблоко недалеко падает от яблоньки». Хорошей рекомендацией почиталось и то, когда старшая сестра, вышедши замуж, была хорошая хозяйка и почтительна к старшим в семействе. Я упомянула уже, что о приданом никогда не рядились; всякий давал по своему состоянию. Много есть пословиц к этому случаю, которых я не слыхала нигде в другом месте. Например: «Платье на грядке, урод на руке. Не с высокими жить хоромами, не с частыми переходами, а жить с человеком. Не жени сына на теще, не отдавай дочери за свекра. Жена не скрипка, на спичку не повесишь». Последняя клонилась к тому, чтоб муж мог содержать жену. Девиц можно было видеть у обедни, на сговорах или у знакомых; но никогда не делали смотров, как ведется во многих местах России. Почли бы за обиду, если б кто предложил такую невежливость. Иногда делалось это, но инкогнито, т. е. приглашали невесту куда-нибудь к знакомым в гости, где был жених; однако родители и невеста не знали этого. Когда предварительно было все улажено, то сват отправлялся в дом невесты и делал предложение. Обыкновенно с одного раза не решались, а просили дать время подумать и посоветоваться с родными; это делалось даже и в таком случае, когда не намерены были выдавать: считали невежливостью отказать с первого раза. Если же почитали союз приличным, то приглашали ближних родственников и, посоветовавшись с ними, назначали день рукобитья. Прежде никогда не спрашивали согласия невесты: она должна была повиноваться слепо воле родителей; теперь это уже вывелось. В назначенный день приезжал сват. Обряд рукобитья состоял в том, что зажигали свечи у образов, молились богу, и отец и мать или тот, кто заступал их место, давали руку свату и пили за здоровье помолвленных. Жених и невеста не бывали при этом обряде. На другой день приезжал сват, и назначали день сговора; до тех пор помолвленные не могли видеться. В день сговора родители, жених, сват и ближние родственники приезжали в дом невесты. Невеста, одетая как можно лучше, сидела, окруженная подругами, в особенной комнате. На сговор звали не только родных, но и знакомых. В другой комнате ставили стол, покрывали его скатертью и вокруг убирали лентами, которые опускали фестонами; по углам прикалывали банты. Весь стол уставляли конфектами и вареньями, которых иногда ставили до сорока тарелок; у бедных ставили орехи, пряники, ягоды. Невесту выводили – прежде близкая родственница, а нынче отец или мать. Она здоровалась с приезжими женщинами и становилась на свое место. Тут подходил к ней жених и здоровался; потом подходили приехавшие с ним мужчины; потом жених дарил невесту, а она жениха; наконец он брал за руку невесту, и садились за стол: женщины по правую, а мужчины по левую руку; девицы начинали петь песни. Сначала пели песню жениху с невестою, потом гостям по старшинству; между тем подавали вина, кофе, чай, пунш. Когда были пропеты всем приезжим гостям песни, то одна из девиц ставила на стол тарелку или поднос, на который каждый из приезжих гостей клал деньги: в богатых домах золотые, серебряные и ассигнации, а у бедных медные. Про свата пели особенную песню, в которой его бранили. Посидевши часа два, гости собирались домой; их удерживали. Когда всем гостям пропеты песни, то пели про невесту. После отъезда жениха начинали танцевать; иногда жених с молодыми мужчинами приезжал танцевать на другой день. Поутру он присылал невесте чаю, сахару и конфекты, а вечером являлся со сватом и несколькими из родственников; тут назначали день свадьбы. Между тем жених ездил к невесте, дарил ее разными вещами, а девицам привозил конфекты. Когда они пели песни, то обыкновенно давали им деньги. Редко он приезжал один; почти всегда с ним являлись молодые мужчины. У невесты гостили подруги, и тут-то холостые высматривали невест. Песни пели обыкновенно девушки и женщины, которые до самого времени свадьбы шили ей приданое и прислуживали. Девицы делили между собою собранные деньги, и иногда сбор их простирался до 200 рублей. Дня за два до свадьбы невесте с песнями расплетали косу и девиц дарили бантами из лент. В этот день водили ее в баню. Накануне свадьбы вечер назывался девичьим вечером или девичником. Приезжал жених с тысяцким, свахою и боярами. Тысяцкий обыкновенно был человек женатый и почетный, близкий родственник или человек, уважаемый в семействе. Бояр было трое или четверо; двое из них назывались малые бояре, или меньшие; это то же, что нынче шаферы. Сваха была близкая родственница или хорошая знакомая. В девичник опять садились за стол и пели песни. Но тут садилась уже и невестина сваха, которую выбирали из родных. В девичник посещение было непродолжительно. По отъезде жениха невесту усаживали за стол вместе с подругами; девицы пели песни. В это время приезжали двое меньших бояр и привозили ларей и туалет. Тогда пели песню. Боярам подносили вина и дарили их, смотря по состоянию невесты, жилетами, перчатками, шелковыми чулками или платками. Ларец или коробка то же, что в Париже свадебная корзинка. Там, по состоянию жениха, были более или менее дорогие вещи; но обыкновенно находились: серьги, перстень, перчатки, ленты, белила, румяна, мыло, гребень, булавки, шпильки, помада, духи, веер, гребенка, цветы, платки ручные и одна или две пары чулков и башмаков, из которых в каждый клали по соболю. Приданое невесты обыкновенно отправляли поутру в день свадьбы. Когда все было готово, то обыкновенно присаживались и потом молились богу, благословляли невесту образом, который отсылали с приданым, и оставляли только туалет и ларчик жениховы; их отсылали уже тогда, когда невесту везли к венцу. С приданым отправлялась женщина, которая убирала спальню и все приводила в порядок; ее называли постельница; у ней были ключи от сундуков. С приданым посылали хлеб-соль и сладкий слоеный пирог. Убранство в спальне было следующее: кровать должна быть женихова; на постель надевали шелковую наволоку, клали простыню сверх нее, а если была зима, то теплое одеяло: лисье, песцовое или даже соболье; сверх его одеяло канфовое или канчовое, вышитое в узор; шесть подушек с кисейными наволоками, обшитыми оборкой. Занавесь была вещь тоже необходимая. У богатых бывали занавесы китайские, шитые или рисованые, канчовые, канфовые или гарнитуровые; у бедных белые или ситцевые. К постели принадлежали разные вещи, как, например, туфли для жениха и башмаки спальные или утренние для невесты; туфли и башмаки бывали вышитые золотом и серебром по карте или бархатные вышитые; халат для жениха и коротенькая шубочка для невесты, род нынешних кацавеек с длинными рукавами. Еще непременно нужно было полотенце с широкими кружевными концами или вышитое; потом уборный стол, простой деревянный, с выемкою в средине; но его обтягивали розовой тафтой вокруг, а сверху тафты кисеей в три фалбалы, которые иногда обшивали кружевом. На него ставили туалет с зеркалом; по концам две подушки на розовой тафте, кисейные; сверху этих подушечек клали другие, вышитые золотом, и расставляли на столике разные коробочки, ящички китайские лаковые, четки и подушечки душистые, разные костяные вещицы, духи и все мелочи для дамского туалета. По отправлении приданого начинали одевать невесту; надевая каждую вещь, невеста крестилась. Когда все было готово, то благословляли невесту образом, и она прощалась с отцом, матерью и подругами; ее сажали за стол, вокруг которого садились девицы. Стол был покрыт, как обыкновенно для обеденного стола, и уставлен кушаньями и пирожным; посредине ставили большой хлеб, а на него серебряную солонку с солью. Между тем у ворот обыкновенно караулили жениха, и когда только показывался поезд его, то давали знать; девицы вставали из-за стола, а подле невесты сажали маленького мальчика или девочку, продавать косу. Жених приезжал с тысяцким, боярами и свахой; впереди шел богонос с образом, обыкновенно небольшой мальчик, родственник. Поезд невесты составляли: сваха, три провожатые молодые женщины, трое мужчин и мальчик с образом. У невесты тысяцкий давал мальчику, сидевшему подле ее, деньги и ссаживал его: это называлось купить косу. Потом все садились за стол; посидевши немного, когда были пропеты всем песни, вставали из-за стола; отец и мать брали руку невесты и отдавали жениху, прося в коротких словах любить и лелеять ее. Кучеров, которые были с жениховыми экипажами, дарили платками. Помолившись богу, выходили и ехали в следующем порядке: богоносы вместе и впереди всех, за ними тысяцкий с женихом, потом бояре и сваха. Женихов поезд ехал впереди; за ним невеста со свахою и провожатыми. У богатых были кареты и коляски; у кого не было, те просили у знакомых. Кареты были в Иркутске только у главных чиновников, и все они охотно ссужали ими. На венчании иногда в церкви пели певчие. Сваха невестина расстилала подножье, которое по окончании обряда брали дьячки. Новобрачных встречали с хлебом и солью на крыльце и мать жениха. Если было лето, то тут же и благословляли образом, а зимою этот обряд происходил в комнате. Новобрачных и гостей сажали за стол и подавали чай, потому что жених и невеста постились до венца. Потом начинался стол, во время которого играла музыка; на дворе выставляли кади с пивом и подавали вина. Кучеров, приехавших с невестиными экипажами, дарили платками. Меньшие бояре после венчания ездили к отцу и матери, поздравить их с новобрачными.
У богатых отец и мать в этот день не ездили к сватам; у них, по отпуске невесты к венцу, обедали ближние родственники и девицы, а по окончании обеда разъезжались по домам. У новобрачных после обеда подавали кофе, чай и десерт; редко танцевали в этот день. Провожатые уезжали домой; оставалась одна сваха. Тогда тысяцкий и бояре брали образа невесты и жениха, зажигали свечи и в сопровождении почетных гостей вели новобрачных в спальню; выпивши за здоровье их, уходили. Почти во всю эту ночь в доме новобрачных пели, плясали и порядочно подливали. Сваху, одаривши, провожали домой двое меньших бояр. Т ам начиналась такая же суматоха, как и в доме новобрачных: пили, плясали, и хотя пить вообще было в большом зазоре, но в таких случаях все разрешалось, и кто не хотел пить, тех обливали вином. Поутру молодая дарила свекра, свекровь, тысяцкого, бояр, родственников и домашних служителей приличными по состоянию подарками. Всякий, принявши подарок и выпивши вина, утирался подарком и целовал молодую. Свекру и свекрови сверх других подарков молодая дарила тонкие полотняные рубашки; свекор, свекровь и ближние родственники отдаривали молодую взаимно. Потом молодой с тысяцким и боярами ехал в дом тестя, кланялся в ноги тестю и теще и благодарил за воспитание жены. У них уже накрыт был стол, на котором между другими кушаньями было большое блюдо с тонкими молочными блинами, обсыпанными сахаром и коринкою. Молодой, положив блин на тарелку, подносил вина сначала тестю, который выпивал рюмку и закусывал блинами. Потом зять дарил его и таким же образом потчевал и дарил тещу и всех родных и домашних служителей. Наконец звал тестя, тещу и всех родных к себе в гости. В этот день бывал у него большой стол, а вечером бал; на другой день опять обед. Так в доме новобрачных пировали три дня. По окончании веселий молодые ездили с визитами ко всем родным и знакомым, которые были на свадьбе. Спустя несколько дней тесть давал для молодых и для новых родственников два дня сряду пир, и тем кончались все обряды свадьбы. Гости и все, кто пировал на свадьбе, посылали в дом молодых и в дом невесты хлеб-соль, которая состояла из большого хлеба и солонки с солью; многие прибавляли к этому фунт чаю, а у недостаточных людей что-нибудь из провизии.
При рождении младенцев были обряды следующие: в то время, когда новорожденного мыли, клали в воду серебряные или золотые деньги, которые брала бабка. Между тем извещали родных, и они приезжали навещать родильницу. Каждый посетитель или посетительница привозили серебряные деньги, иногда ассигнации, а у бедных медные деньги, которые и клали под подушку родильнице или ребенку. В крестины, по окончании духового обряда, был обед, ужин или закуска; но во всяком случае подавали кашу из сарочинского пшена, варенную на молоке, а в пост на воде. Постную кашу обыкновенно обсыпали сахаром. Сначала подносили вина, а потом кашу; и от этого есть пословица: я у него на крестинах кашу ел. На кашу повивальной бабке клали деньги. Если дитя было перворожденное, то часто, подшучивая над отцом, старались приготовить ему ложку каши с солью и с перцем и говорили, что он должен разделить страдания матери. Колыбели, которые в Иркутске называют зыбками, обыкновенно были висячие на ремнях; для этого в потолок ввертывалось кольцо, к которому привешивали колыбель. Они очень удобны. Родильницу непременно водили в баню, сначала, если только позволяло сколько-нибудь ее здоровье, каждый день, а после через день, говоря: банька вторая мать. После бани поили ее взваром из пива, в который клали изюм, чернослив, инбирь и калган, или делали его другим образом: варили пшено сарочинское с изюмом и черносливом в пиве. Диеты никакой не было; старались как можно более кормить родильницу, и бог знает как все это обходилось без дурных последствий. Напротив, родильница скоро поправлялась, и мало бывало каких-нибудь несчастных случаев. В девятый день размывали руки. Этот обряд есть во всей России. В Сибири происходил он таким образом: приносили кружку чистой воды, в которую клали серебряные деньги, и родильница поливала три раза бабке воды на руки, а та ей обратно. Потом дарили бабку; но подарки, даже в богатых домах, были маловажные: рублей 15 и 20 денег, несколько фунтов хорошего мыла и аршина три полотна или холста; иногда к этому прибавляли фунт чаю. Детей редко кормили грудью, а еще реже нанимали кормилицу. Обыкновенную пищу ребенка составляло коровье молоко, которым кормили, вливая его в рожок.
Описывая, как умею, разные обряды иркутских жителей, наконец я приступаю к тому неизбежному в конце жизни обряду, о котором человек не может сам заботиться, но оставляет это другим; я говорю о похоронах и опишу, как они отправляются в домах достаточных. Известно, что у бедных бывает то же самое, только в малом виде. По окончании религиозных обрядов умершего кладут на стол, который убирают полотном или кисеей и черными лентами, ставят подсвечники, пол устилают ельником, этим северным кипарисом. Дети и ближние родственники бывают попеременно при теле усопшего. Прежде жена и дочери непременно должны были сидеть при теле усопшего и причитать со слезами, высчитывая все добрые качества его. Если кто не соблюдал этого, то говорили, что рады и не жалеют о смерти его; надобно было, если нет слез, закрыть глаза платком, положить голову на стол, где лежит покойник, и приговаривать. У девиц, при смерти отца или матери, распускали волосы по плечам, завязывая голову черным платком. Тогда не знали пле-резов и траурных чепчиков, и мало кто шил траурное платье из фланели: оно обыкновенно делалось из черной нелощеной китайки самым простым покроем. Даже при этом случае видно было гостеприимство сибиряков: к покойному ходили все знакомые, многие и чужие – знакомые из приличия, а посторонние посмотреть, как одет, какою парчою покрыт и плачут ли родные; но всякому приходящему подавали рюмку вина и чаю. Для того приставлены были особые люди, и под их надзором самовары кипели от утра До вечера. Один из верных людей подавал милостыню; рассылали по возможности подаяния по монастырям, богадельням, в острог и в больницы; служили два раза в день панихиду. Между тем приготовлялись к похоронам, которые обыкновенно бывали в третий день. В Иркутске нет готовых гробов и нет людей, которые бы делали из этого промысел; траура не отпускают на прокат и даже всех покойников носят на носилках, покрытых сукном или ковром. Г роб заколачивают на кладбище. При шествии туда впереди идет человек с образом, потом идут священники; иногда приглашают архиерея и архимандрита; потом несут крышку, покрытую покровом; затем гроб, обитый бархатом, материей или крашеный и покрытый парчой или другой какой материей, по состоянию. Обыкновенно тело отпевают в приходской церкви и потом несут на кладбище; гроб опускают в могилу на холст, который делят нищим; наконец служат панихиду, раздают милостыню и возвращаются домой. В этот день бывает большой обед, который называют горячим. Кроме священников и причетников приглашаются на него родственники и знакомые; кому угодно из посторонних, всякий может прийти и обедать: никому не отказывают. По приезде с могилы сначала подают чай, потом служат панихиду и садятся за стол. Первое блюдо подают блины, но не гречневые, которых мало и знают в Сибири, а тонкие молочные, в пост постные. Потом подают обыкновенные кушанья и всегда готовят их множество. Обед заключают киселем молочным со сливками, а в пост постным – с миндальным молоком или медовою сытою. Когда поставят на стол кисель, то все встают, поют вечную память, садятся и кончают обед.
После обеда, как и везде в России, поют литию и разносят напитки. Тут подают чай и разъезжаются по домам. В этот день, около вечера, и в следующие родные ездят на могилу служить панихиду, и ничто не удержит их: ни дождь, ни мороз. Бедные, которые не могут этого сделать, ходят по субботам служить панихиду; это продолжается сорок дней. Между тем отдают читать годовые псалтыри и сорокоусты, кормят нищих, зимою в комнатах, а летом во дворе, где расставляют столы и сбирают человек до трехсот и более. Стол делают хороший; щи и похлебки варят в котлах, пекут множество пирогов, блинов, жарят жаркое, делают кисель и варят пиво. Когда сберется много нищих, то запирают ворота, чтоб не было беспорядка; подают им по рюмке вина и сажают за стол. Хозяева и домашние сами угощают гостей. После обеда выпускают их поодиночке и оделяют деньгами. Иногда бывает обеда три в день, и, что остается от них, отвозят в острог, чтоб никаких остатков от этого дня не было. В течение сорока дней бывает поминовение. В девятый и двадцатый день обедают только ближние родственники, но в сороковой бывает большой званый обед; потом еще через полгода и год. Траур носят ближние родные целый год.
Церкви в Иркутске украшены иконами в серебряных, позлащенных ризах и содержатся в чистоте и благолепии; многие расписаны; во всех церквах большие колокола; нет ни одной, где бы не было колокола в 200 пудов, а в некоторых есть пудов в 400 и более. Церкви обыкновенно разделяются на верхнюю и нижнюю: внизу теплая, а верхняя холодная, и все они с приделами. При многих церквах есть богадельни, которые содержатся подаянием доброхотных. Во многих домах заведено, когда пекут хлеб и булки, посылать каждый раз часть в богадельню. Так же, к большим праздникам, раздают белье и платье бедным.
Народ в Иркутске вообще склонен к рассказам. Вечером не только в деревнях, но и в городе, когда соберутся несколько человек, особливо женщин, то рассказывают о старом-бывалом или сказывают сказки; но это более детям или в своем семействе. Сколько слыхала я рассказов о домовом! Его называют там суседко. Беда, если он кого не взлюбит! Также в метеорах простой народ видит огненных змей; лесные заводят прохожих; суседко высекает огонь, прядет, и если домашний скот придется по дому, то он холит его, гладит и кормит. Старухи часто обращаются к нему с просьбою: любить коров. Если он не полюбит их, то выгребает корм, и потому, когда худа корова, то говорят: «Не по дому пришлась, суседко не взлюбил». О змее огненном говорят, что он носит деньги своим любимцам, но что такое богатство не идет впрок и обращается прахом. Долго было бы рассказывать о всех старинных причудах; но к чести иркутских жителей, в религии у них нет никаких суеверий; нет раскольников между купцами и вообще между народом; разве есть они между приезжими из России, но и те стараются скрывать свое невежество. Жители строго соблюдают все духовные обряды, но без малейшего суеверия. В Сибири нет так называемых кликуш, и даже те, которые приезжают из России, пораженные, как назвать это, причудами или болезнью, проживши несколько времени в Иркутске, перестают кликать без всякого лечения. Между жителями Иркутска нет или не было, по крайней мере, утонченного, светского обращения; но легко разгадать причину этого. При всей охоте перенимать хорошее и учиться всему изящному там нет учителей и учительниц танцования, музыки и пения; нет театров, концертов; даже нет ни одного пансиона или училища для девиц; учатся, как кто может; некоторые дома, другие у священников. Были при мне дома два, где по нескольку девиц учились, более по знакомству русской грамоте и разным рукоделиям. Очень было бы приятно, если бы иркутские капиталисты, согласясь между собою, устроили пансион для воспитания девиц, тем более что вообще многие имеют способности и склонность к учению и стараются недостаток воспитания вознаградить чтением книг. Также у них виден вкус в нарядах, гораздо более нежели в тех губерниях, которые ближе к столицам. Много еще можно сказать похвального о тамошнем купечестве. Например, в гостином дворе никогда не запросят с вас втрое, не будут ворочать с дороги и говорить, что для вас уступают; никогда не божатся при продаже и не стараются продать и подменить гнилой товар вместо хорошего. Отдаленность от столиц и недостаток в воспитании кладут свою печать; зато в нравственном отношении много есть похвального в семействах и даже более привязанности вообще между родными. Сестры, вышедши замуж, часто видаются, и редко бывают ссоры между родственниками. Гостеприимство в Иркутске примерное; благонравие уважается чрезвычайно, и даже в простом народе женщина дурного поведения не найдет себе места нигде. Посты и дни постные строго соблюдались в Сибири. Многие жители даже сами налагали на себя посты и постились Кирику и Иулитте, Иоакиму и Анне, Илье Пророку и Воздвижению. Накануне рождества, то есть в сочельник, не ели ничего до звезды, и уже вечером пили чай и ужинали. Девушки сберегали от этого дня лучинку, которою засвечали огонь для ворожбы; а в Сибири большие охотницы ворожить, и множество рассказывают чудес, кому что виделось. Так как я хочу описать все мне известные обычаи и поверья, то опишу и гаданья.
Праздник рождества, как и везде, начинался духовными обрядами: ходили к заутрене, к обедне; после обедни с поздравлениями к старшим. Дочери после обеда ездили с мужьями и детьми к родителям. На другой день делали визиты старшим родственникам и принимали у себя гостей. Так проходили первые три дня; но Святки продолжаются до Крещенья. Вечера святочные называли святыми. В первые три дня дети всех званий ходили славить Христа. Это был любимый праздник для детей, и те из них щеголяли, которые больше выучивали рацеек. Отславивши Христа, они сказывали рацейки и в старину обращались к хозяину и хозяйке. Вот образчик этого: «Встань, хозяин, да покатись в подполье по пироги да по шаньги, по мягкий хлеб да по деньги в зепь». Еще было обыкновение печь из ржаной муки ягнят и овечек, иногда и пастуха; все это давали в гостинцы детям. Вероятно, это очень древний обычай, и, кажется, в воспоминание того, что пастухи первые приветствовали рождение Спасителя. У девочек прятали куклы в чулан или куда-нибудь подальше, также оборачивали куклы вниз лицом, говоря, что грех играть ими в святые вечера, что шиликун утащит их. Под этим разумели каких-то веселых чертей, которые подкарауливали все, что кладут не благословясь, и все это была их добыча. На другой день начинали ходить с вертепом. Я сама воспитанница Сибири и участвовала во всех играх и забавах иркутских, тому уже около сорока лет. Жизнь была даже в лучших домах патриархальная. Вертеп – ящик о двух ярусах; в нем представляли разные сцены, относящиеся к Рождеству Христову, как-то: явление ангелов, поклонение волхвов, бегство в Египет, а в заключение смерть Ирода. Все это представляли куклами деревянными, одетыми в платья, приличные изображаемым лицам, хотя, правду сказать, верность костюмов была не слишком соблюдаема; например, дочь Ирода, известная, по преданию, за славную танцовщицу, плясала русскую пляску с распудренным кавалером и являлась одетою по последней моде. Но нам, детям, какое было дело до этого? Было весело и казалось довольно, что все относилось к духовному. В верхнем ярусе вертепа представляли смерть Ирода, а в нижнем пляски. Тут были и свои арлекины: трапезник и дьячок. Дьячок зажигал свечи, которыми освещался вертеп; трапезник гасил их, и оба просили с разными прибаутками денег. У трапезника был за плечами кузов, в который клали деньги, а у дьячка тарелка; и все это доставляло детям несказанное удовольствие. Обыкновенно с вертепом ходили мальчики; один из них, который был всех расторопнее, делался дирижером. Иногда бывал у них скрипач, и они гордились этим. В Иркутске были двое слепых, которые играли на скрипке и утешали не одно поколение. Они-то обыкновенно ходили с вертепом. Эти лица не умерли: их поместил г. Калашников в одном своем романе. Вечером, когда, бывало, смеркнется и закроют ставнями окна, стучались под окном, и на вопрос: кто там? отвечали: не угодно ли с вертепом? Тут обыкновенно дети приступали с просьбами пустить вертеп. Никакая лучшая пьеса, разыгранная на театре, не доставляет теперь такого удовольствия, какое доставлял нам вертеп. Блаженное время детства!.. Еще было в старину обыкновение, которого я уже не помню: ходили с коньком. Один представлял сидящего на лошади рыцаря, а двое другие – даму и кавалера; ходили тоже вечером по домам и куда входили в дом, то пели и плясали.
Описавши детские на святках увеселения, приступаю к описанию забав юношеских лет. Все игры и гаданья относятся более к девицам, но и молодые мужчины в них участвовали. Назначивши вечер, подруги собирались в один дом, поиграть и погадать. Всегда начинали подблюдными песнями; но это делалось особенным образом. Собирали кольца, перстни, запонки, сережки; клали их в блюдо и накрывали салфеткою; нарезали маленькие кусочки хлеба и клали сверх салфетки. Сначала пели песню хлебу и соли и брали кусочки; ложась спать, клали их под головы, загадывая, что приснится. Потом пели песни; по окончании каждой из них трясли блюдо, и один ловил, что попадалось, по одной вещице. Обыкновенно более старались класть такие вещи, где в оправе каменья; тогда загадывали: за что или как вынется? за камешек или за колечко? Все вещи клали вместе и после присуждали, что делать за выкуп. Последнему, когда оставалась одна вещица, пели свадебную песню «Дорогая моя гостейка» и кольцо катили по полу, загадывая, в которую сторону покатится оно: если девушке покатится к дверям – к замужеству, мужчине – к дороге. После песен хоронили золото. Эта игра всем известна и, кажется, одна из самых старинных. Потом играли именами, в короли, в курилку и в жмурки, которые в Иркутске называют имельцы. Я опишу все эти игры по порядку.
Игра в имена. Все садились. Одного по жеребью сажали на стул посреди комнаты, другой давал имена всем, какие вздумается, смотря по особе; например, мужчине имена: сокол, соловей, коршун, чертополох, василек, мак; девице: ласточка, малиновка, гвоздика. Имена сказывали каждому потихоньку, чтобы не слыхал тот, кто сидит на стуле. Тут ему закрывали глаза платком и кликали одного по имени. Он должен был подойти, легонько ударить сидящего на стуле и тотчас сесть на свое место. Прочие все в это время топали ногами, приговаривая: был, да ушел, спрятался, запечатался. Тогда открывали глаза сидящему на стуле, и он должен был угадать, кто его ударил; если угадывал, то ударивший сменял его, а тот, который сидел на стуле, давал имена; в противном случае переменяли имя только тому, кто был вызван.
Игра в короли. Начиналась так: все участвующие в игре клали правую руку на стол, один за другим; чья рука была внизу, тот вынимал ее, а за ним и другие; девятый был король. Тогда каждый подходил к нему и говорил: король, я твоя (или твой) слуга, что прикажешь делать? Службы были разные и смешные; например, какой-нибудь хорошенькой девушке король приказывал стать в угол и три раза громко сказать: я хороша, я пригожа, замуж иду за такого-то, и обыкновенно выбирали какого-нибудь безобразного старика; на отговорки не смотрели, так что иногда девушке было не до смеха; но должно было выполнять королевскую волю. Иному приказывал король спеть песню, другому поплясать, иному пропеть петухом, скакать на одной ноге, продавать калачи, возить сено. Еще была служба: стать в угол и говорить: «Горю, горю на камешке; кто меня любит, тот поцелует». Тогда кто-нибудь подбегал, целовал и горел в свою очередь. Я могла бы наскучить, описывая разные службы.
Иногда играли в курилку. Садились все в кружок, зажигали лучинку и, потушивши, передавали ее один другому, приговаривая: «Жил-был курилка, ножки тоненьки, душа коротенька; не умри, курилка, не оставь печали, не заставь плясати». Всякий старался скорее сбыть с рук курилку, приговаривая: жив. У кого погасала лучинка, с того брали фант.
Игры обыкновенно заключались жмурками. Эта игра известна всем. По жребию завязывали кому-нибудь глаза платком и строго испытывали, не видит ли он. Потом приводили его к дверям и спрашивали: «Где стоишь?» Завязанный отвечал: «У дверей». – «Что продаешь?» – «Квас да ягоды». – «Ищи нас двадцать два года». Тут все рассыпались, как дождь. Всякий старался ударить жгутом бедняжку, но и тот хитрил; иногда останавливался посредине комнаты, прислушивался, где его неприятели, и бросался врасплох. Законами игры не позволено было уходить в другую комнату; кто покушался на это, тому все кричали: погорел, погорел! и завязывали глаза. Наигравшись, некоторые разъезжались по домам, а многие девицы оставались ночевать у подруг.
Тогда-то под предводительством опытных приступали к тайнам – угадывать будущее. Гадали о суженом, о том, весело ли проживут следующий год; лили олово и по вылитым фигурам разгадывали свою участь. Около полуночи выходили во двор полоть снег. Взявши немного снегу в фартук, качали его, приговаривая: полю, полю бел снег; где собака залает, там мой суженой, и прислушивались. Где залаяла собака, там быть отданной замуж. Толстый и хриплый лай означал старика, звонкий и тонкий молодого. Иногда делали уточек из воска и опускали их на тарелку с водою; если уточки плавали вместе, то это означало согласие, а врозь – недружбу; наливали в блюдце воды и, зажегши небольшой клочок хлопков, клали его в стакан, который тотчас опрокидывали на блюдце. Если много набиралось воды в стакан, то это означало, что муж будет любить выпить, а если мало, то он будет человек трезвый. Еще ворожили таким образом: бросали башмак за ворота; куда упадет он, туда быть отданной замуж. Или выходили за ворота и спрашивали у первого прохожего: как зовут? И какое скажет он имя, так будут звать жениха. Многие слушали под окнами и по речам судили, чему быть; выпускали на средину комнаты курицу с петухом и замечали, сердит ли будет муж? Если петух гордо расхаживал, клевал курицу, то значит, что сердитый муж будет; но иногда и курица храбрилась. Иногда две девицы брали целый ржаной хлеб на пальцы и загадывали, в которую сторону будут вертеться? Если по солнцу, то сбудется загаданное, а против солнца, то нет. Точно так же ворожили ситом; но все эти гаданья были мелочные. Так ворожили девушки разного возраста: большие и маленькие. Главные, важные гаданья были: смотреть в зеркало в полночь, когда все лягут спать, или набирать два прибора на Васильев вечер или на Крещенье, и в сочельник ходить слушать к верее, к амбару, к проруби, на перекресток, и все это в полночь. Я сама нарочно испытывала многое; но мне никогда и ничего не чудилось; напротив, от других я слыхала чудеса, и они божились, что это точно было. Гляденье ночью в зеркало делалось так: девица, которая хотела гадать и надеялась на свою бодрость, садилась одна, а если немножко трусила, то, неизменная своей природе Евина внучка, которой хочется знать, хорош ли, молод ли будет суженой, сажала няню или какую-нибудь Сивиллу в смежной комнате и ставила два зеркала одно против другого. Перед одним она садилась сама и ставила на стол две свечи, а другое зеркало ставила сзади, очертив лучинкой (которою был зажжен огонь в сочельник) и глядела в него пристально. Сначала зеркало подергивалось туманом; потом мало-помалу прояснялось, и суженый глядел через плечо девицы. Тогда надобно было зачураться: «чур меня, полно!» и отнюдь не оглядываться, а то могло быть худо. Конечно, все это одно воображение, но многим стоило жизни или тяжкой болезни. Вот что рассказывала мне одна очень умная и без всяких предрассудков девушка. Вздумала она смотреть в зеркало ночью. Дом, где жила она, был большой, каменный в два этажа. Взявши с собой девушку, она велела ей лечь спать в ближней комнате, а сама села перед зеркалом. Была полночь. Она сидит, как Светлана, ждет появления суженого; все в доме спят, и ворота заперты; внизу у дверей был колокольчик. Вдруг колокольчик зазвенел, и она слышит, что кто-то идет тяжелыми стопами по лестнице; стук шагов приближается; но она, дрожа от ужаса, не рассудила дожидаться суженого, который, вместо того чтобы показаться в зеркале, вздумал сам пожаловать и лицом к лицу беседовать с нею; она бросилась в комнату, где спала ее подруга, зачуралась, но была после этого больна. Домашние утверждали, что все спали в полночь и никто ничего не слыхал. Потому-то редко кто решается на эту ворожбу, хотя она, как говорят, самая верная. Так же редко зовут ужинать своего суженого. Для этого ставят два прибора, хлеб, соль, ложки, и около полуночи девушка садится за стол, очерчивается и говорит: «Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать», лишь только пробьет полночь, является жених в том наряде, в каком будет на сговоре, и садится за стол. На всякий случай берут с собою петуха, для того, что когда не помогает зачуранье и гость засидится, то надобно давнуть хорошенько петуха; он запоет, и все исчезнет. А вот ходить на прорубь, так страх и ужас! Однажды три девушки сговорились идти гадать на прорубь, взяли бычью кожу, очертились и сели как надобно. Вдруг слышат, кожу кто-то тащит в воду, больше и больше; они; чур того! полно! Напрасно! Они бежать домой, но за ними также бегут и кричат: «Копылиха, постой! Обвариха, постой! Барыня, постой!» Они, творя молитву, насилу добежали да скорей и ворота на запор. Но что же вышло? Одна из них обварилась кипятком и умерла, другая упала и зашиблась об копылья саней, а третья вышла замуж за дворянина, и все это в один год. Да мне не описать бы на нескольких листах чудес, которые я слыхала. Как начнут, бывало, опытные люди рассказывать про старину, то у нас волосы на голове дыбом становятся; но поворожить хочется, и трусихи выбирают, что не так страшно: пойдут к верее, очертятся, и не одна, а две, три девушки только загадывают поодиночке: богато ли жить и выйдут ли в этом году замуж. Если которой выйти, то ей запоют песни свадебные, а к богатству начнут деньги считать, а кому участь не так весела, то плачут; но тут стоит только зачураться, и все кончено. Еще ходят на перекресток, на улицу, сядут, накроются скатертью; одна загадает и кому выйти в тот год замуж, то и поедет с которой-нибудь стороны поезд: и свищут и гаркают. Но с окончанием святок конец всем ворожбам; старые люди постятся да богу молятся, а молодые свое смекают. Накануне сочельника спускают гребень за окошко, и какие волосы на гребне, такие будут и у суженого; обсеваются золой и поутру смотрят, какая обувь у жениха; наливают в ложку воду и выставляют ее на мороз. Так ворожат и старухи: если бугорок, то еще проживут год, а ямка – значит смерть. В самый сочельник добрые люди пойдут на воду, а греховодницы-девушки напекут сочней, то есть тонких лепешек из пресного теста, выйдут за ворота и смотрят, кто первый идет или едет, и знают уже, что такого звания будет жених. Вечером в крещенский сочельник везде окропляют святой водой, ставят кресты мелом на окнах и дверях, и тем все оканчивается.
Таковы святочные забавы девушек в Сибири. Все это принесено из России; заезжие русские жители сохранили свои обычаи, поверья, обряды, и они поддерживались в самобытной простоте, так что многих коренных русских обычаев нельзя встретить нигде, кроме Сибири и особенно Иркутска. Теперь и там стыдятся старины, и там все быстро изменяется. Я не хочу хвалить старых обычаев и суеверий, но, кажется, все они доказывают простоту нравов. Желаю от чистого сердца, чтоб все эти пустяки заменились истинным просвещением, а не модным обезьянством, которое ни в каком случае не ведет к добру. Когда жили в простоте сердца и сообразно своему климату, то не знали многих болезней. Ныне (конечно, не все) стыдятся занятий хозяйством, боясь прослыть кухарками и простолюдинками; но в Швейцарии, Голландии женщины просвещеннее, чем в других местах, и между тем свято выполняют все домашние обязанности. Слова мои более относятся к непросвещенному классу; в высшем, просвещенном кругу у нас многие матери сами воспитывают детей и распоряжаются домашним устройством. Дай бог, чтоб это было примером для всех других. Но я отступила от своей материи.
После Святок игры утихают, начинаются свадьбы; после этого дожидаются Масленицы; тогда свои северные забавы: катанья по улицам, катальные горы. Бег устраивается в Иркутске с начала зимы на устье Ушаковки, а после на Ангаре. Он блестит, как зеркало, и бывает обставлен елками. Тут по воскресеньям и в праздники, а особливо на Масленице выезжают охотники в маленьких санках, на рысаках и иноходцах. Горы бывают часто в двух местах: на Ангаре и на Ушаковке. С четверга начинаются гулянья. К Масленице варят пиво и делают хворосты; столы накрыты скатертями и уставлены конспектами, вареньями. Хворосты (род пирожного), как принадлежность Масленицы, видны везде; самовар всегда готов. Родные ездят друг к другу и между тем не забывают кататься. Во многих домах делают ледяные катальные горы, с которых катаются на кожах, на лубках, на санках и даже на льдинах. Вот что еще иногда бывало на Масленице для забавы народа: начальники города приказывали сплотить вместе несколько огромных саней и устраивали на них корабль со снастями, парусами. Тут садились и люди, и медведь, и госпожа Масленица, и разные паяцы; все это вообще называли Масленицею. В нее впрягали лошадей двадцать и возили ее по улицам; позади обыкновенно следовали толпы мальчишек и гуляк; они провожали ее песнями и разными прибаутками. К чести иркутских жителей, надобно сказать, что они очень набожны; не только пожилые люди, но и молодые всю Масленицу ходят в церковь. В прощальный день ездят на кладбище, служат панихиды и поклоняются праху родных; потом весь этот день посвящают прощальным визитам к родителям и старшим родственникам. Вечером тот же обряд повторяется дома; служители прощаются с хозяевами, дети с родителями. Прежде был в Иркутске обычай (в некоторых местах России он существует и доныне) приносить пряники в прощальный вечер. На другой день начинается пост первый: понедельник называют чистым, потому что в этот день перемывают всю посуду, ходят сами в баню, и многие начинают говеть. Хозяйки в Иркутске, по крайней мере были прежде, пресуетливые созданья: на первых днях поста пекут обварные крендели, сдобные калачи и пряники разных сортов. Многие, особенно люди пожилые, не едят даже рыбы во весь пост; прочие соблюдают это только в первую, четвертую и страстную неделю. Кому есть время, те ходят в церковь; но во всех домах кипит деятельность: богатые шьют для своего семейства обновки, а бедные трудятся для богатых; это везде ведется, но в Иркутске заметнее, потому что там нет магазинов и даже немного швей или мастериц, а более сами готовят свои наряды и даже шьют белье; отдают шить только то, чего сами не могут сделать. Хотя пасха случается и в марте, но почти всегда в это время сходит снег и бывает сухо. К святой неделе делают во многих домах качели, и где большое семейство и девушки, то есть еще увеселение, которого прелести я не понимаю. Покупают длинную и широкую доску, гладко выстроганную, подмащивают ее посередине четверти на три, а один садится на средину: это называется сидеть на кашке; двое становятся по концам, подпрыгивают поочередно и делают разные фигуры. Тот почитается искусным, кто выше прыгает; но это довольно опасно: многие падают и ушибаются. В великий четверток стараются встать до солнца и умыться свежею водою с серебра, чтоб быть здоровыми целый год. Есть предание, что в этот день ворон до света купает своих детей; но это не обыкновенный ворон или воронье, а вещий ворон, и живет он в непроходимых лесах. Говорят, что у него в гнезде и золото, и серебро, и дорогие каменья. Еще есть в Сибири, так же как и в других местах, обычай, завязавши в узел соли на четверг, класть ее в печь: это называется четверговою солью. Ее сохраняют, как лекарство от дурного глаза, и поят ею коров и телят, когда они больны. К празднику Воскресения Христова приготовляются, богатый как хочет, а бедный как сможет; но во всяком доме пекут куличи, красят яйца, делают сыры. Из достаточных домов посылают разной провизии в острог, в богадельни. Святую неделю, так же как и другие торжественные дни, проводят в кругу родных и знакомых. Из всех увеселений, известных в столицах, на святой неделе только качели ставят на площади. Тут бывают качели круглые, большие, с сиделками и коньки; народ качается, ездит, другие смотрят; но тем и кончится праздник. В Иркутске нет театра, и за отдаленностью не приезжают никогда волтижеры, балансеры и разные искусники с диковинками. Имена Финарди, Раппо, Киарини известны только из газет. Тем более никогда не видали там истинных артистов. Во все двадцать пять лет, которые прожила я в Иркутске, приезжала туда только труппа итальянцев с учеными собаками. Правда, это сберегает карманы, но многие вздыхают об увеселениях столицы. Во вторник, на Фоминой неделе, бывает поминовение по усопшим и весь народ гуляет тогда на кладбище. В день Преполовения, по окончании службы, ходят из собора с иконами кругом города; стечение народа бывает большое. Так же в мае месяце носят образ Казанской Божией матери, со крестами и хоругвями из собора в разные села; Куду, Оек, Урик, иногда даже в упраздненный город Балаганск. В день Вознесения многие ходят и ездят в Вознесенский монастырь, где по отслушивании литургии целый день гуляют. Когда Пасха была поздняя, то в этот день уже есть цветы и весело смотреть, как около вечера беспрестанно переезжают чрез Ангару карбазы, наполненные народом, и у всякого в руках трофеи весны – букеты цветов. В день Троицы и Духов день тоже многие ездят и ходят гулять за город. Мало завивают березку, и даже между простым народом этого обычая нет. Все жители Иркутска, от богатого до бедного, любят гулять за городом. Любимое гулянье простого народа около Ушаковки, потому что это место всех ближе к городу. Если у кого нет лошади, то все семейство, иногда и не одно, собираются в воскресенье или какой праздник гулять на Ушаковку, пить чай и купаться. Всю ношу разделяют по частям: один несет самовар, другой чашки, третий булки, калачи, пироги, ведут и несут детей, потому что почти все выбираются из дома, который запирают, попросивши соседей посмотреть, или оставляют какую-нибудь старуху, говоря по-сибирски: домовничать. Прежде на Ушаковку ездили гулять многие хорошие фамилии; но когда город распространился, то это сделалось народным гуляньем. Многие ездят туда же, но подальше купаться, потому что вода в Ушаковке довольно тепла и, говорят, здорова. На одном берегу Ушаковки, по дороге к деревне Пивоварихе, были прежде дома кое-где, но теперь, говорят, многие там поселились. Верстах в трех от города, по той же дороге, есть архиерейский загородный дом и при нем большой огород, с разными овощами для семинаристов. На другом берегу построено Адмиралтейство с разными принадлежащими к нему строениями; ближе к городу мельница мукомольня и при ней мельница пильная. Деревни Большая и Малая Разводные находятся на берегу Ангары: первая в девяти, а вторая в семи верстах от города; далее по тому же берегу деревни Щукина и Крыжановщина. Около этих мест, начиная от Большой Разводной, есть много островов, покрытых лесом и кустарником; тут родится множество голубицы, и потому летом многие из городских жителей ходят туда за ягодами. Собираются обыкновенно артелями, с тем чтобы ночевать одну или две ночи, называя это: идти на ночеву за ягодами или за грибами. Назад приплывают на лодках с большим запасом ягод. Места, где были прежде винокуренные заводы, называют в Иркутске каштанами; их три: ближний, средний и дальний. Я опишу последний. Туда ездят иногда гулять; но в конце июля и в августе больше ездят, даже из богатых домов, за грибами и особенно за рыжиками. Впрочем, это только предлог для гулянья. Да и в самом деле, место прелестное! Ключ бьет из горы, и вода в нем превосходная; внизу долина, по которой ключ образует ручей; кругом холмы, покрытые лесом. Вообще окрестности Иркутска прелестны, как сельская красавица; одна природа все украшает, но какова эта природа! Местами дремучие леса, где вековые деревья свалились от бури или грома и лежавши истлели так, что прикоснись, и они рассыпаются прахом. В глубоких оврагах ключ нередко образует ручей, опушенный зеленым мохом. Вот узкая тропинка: она ведет вас в густой лес, где коренья дерев высунулись из земли, и, кажется, свидетельствуют о своей древности. При малейшем ветерке в лесу отдается какой-то гул; кажется, что это древние священные леса, жилища друидов. При всем моем неискусстве описывать я не могу воздержаться, чтоб не описать некоторых известных мне окрестностей Иркутска.
Ситниковская заимка. Заимками называют в Иркутске дачи. Она была построена купцом Ситниковым, после смерти которого жена его пожертвовала ее в казну. Эта заимка верстах в двадцати от города. Тут теперь и селение дворов из десяти. Оно на горе, при подошве которой построен дом со всеми принадлежностями; перед ним большой пруд, где выстроена мельница; кругом рисуются горы, покрытые лесом и кустарниками. Тут много голубицы, дикого розмарина и багульника.
Волчья падь, верстах в 20 от Иркутска. Туда ездят за груздями, которых в иные годы родится там множество; также много голубицы. Волчья падь – узкая долина и к концу сходится клином. Кругом ее горы, а в долине бежит узкая, но глубокая речка, обросшая тростником, и струится много прекрасных ключей. Прежде были тут два зимовья, в которых жил угольщик, старик Ельшин. Носился слух, что место это не совсем чисто. Лесной, или леший (его называют в Иркутске лешак) любил тут иногда подшутить. Знакомые приходили к угольщику ночевать и брать ягоды. Однажды набралось к нему довольно девиц и молодиц. Вечером они расшутились во дворе, начали петь песни, хлопать в ладоши. Старик сердится, унимает их, говорит: «Полноте, не накличьте себе беды!» И вот они слышат хохот, хлопанье в ладоши, и все это ближе, ближе. «Вот, не говорил ли я вам? – раздразнили хозяина!» Вся молодежь творит молитвы, убирается в зимовье, и вот мало-помалу шум утихает и удаляется. Но все это можно объяснить самым простым образом: есть такие места, где всякий звук повторяется много раз.
Пивовариха, деревня в десяти верстах от Иркутска Она лежит в таком месте, что кругом нет близко селений: отовсюду непроходимые леса; местами есть болота, но есть и долины со светлыми источниками. Никогда не забуду я одного прелестного местоположения: долина версты на две, и кругом точно искусная рука обсадила ее купами деревьев. Все это пространство покрыто голубицею. Жители Пивоварихи мало сеют хлеба; они жгут уголья и занимаются ловлею дичины и зайцев, стреляют белок и диких коз; женщины прядут мотауз.
В Сибири все деревни обнесены огорожей, которую называют поскотиной; нигде нет соломенных кровель и земляных полов; лесу такое множество, что почитают нужным вырубать его. Верст за 15 от города такой лес, что годится на строение; его позволено рубить всякому. Вид из города через Ангару, по берегу Иркута, очень красив; тут видны, при подошве гор, покрытых лесом, деревни Медведева, Глазкова, Кузьмиха, Жилкина. В Жилкиной есть архиерейский дом, где летом и живет иркутский епископ. Против города, за горою, речка Кая; местоположение прекрасное, особливо весной, когда цветет черемуха, которой тут множество.
Осень во всей Сибири есть время простонародных вечеринок, которые там называют вечёрками. Поводом к ним служит рубленье капусты, что и называют капусткой. Когда капуста срублена, привезена и посуда для нее готова, то назначали день рубить капусту. С вечера ходили к соседям просить сечек и к знакомым звать на капустку. Поутру обыкновенно собирались старухи обсекать капусту; она делилась на разные сорта: белую, серую (которую там квасят, пересыпая ржаной мукой, и называют кислы), пластинную (которую приготовляют для поста и дней постных, оставляя также кочаны на свежую) и шинкованную. Кто приходил на капустку, тех называли капустницами. Приходя, все поздравляли хозяек с капусткой, как с праздником, и в самом деле они к этому дню варили пиво (которое в Сибири вообще очень хорошо). Обед бывал хороший; но лучшее кушанье готовилось к вечеру и было привилегированным блюдом дня: это пирог хлебальный, начиненный капустой с рублеными яйцами. После обеда собирались молодые женщины и девицы; мужчины приходили к вечеру. Рубление сопровождалось песнями, а вечером, когда все кончено, угощали чаем гостей; старух и настоящих работников кормили ужином, потому что в самом деле для молодых это был только предлог поплясать. И что за работницы нарядные молодки, в шелковых перчатках? Для детей это бывал также праздник: им давали маленькие свечки, и, главное, они могли есть сколько угодно кочерыжек. После чаю девицы, молодые женщины и мужчины начинали пляску; но это были не кадрили и мазурки, а национальная наша русская пляска. Очень часто плясали под песни, играли кругами, оленем, боярами, маком, сеяли просо. Все это оканчивалось ужином. Иногда после ужина еще плясали; но вот было счастьем, если могли достать скрипку! Скрипачи обыкновенно бывали самоучки; я слыхала этих самоучек; они играли с голосу разные песни и очень порядочно, верно. Тогда можно было плясать даже осмерку – танец, род горленки или горлицы; плясали его в четыре и восемь пар.
По неимению в Иркутске и во всей Сибири фруктов домашние заготовления на зиму ограничивались огородными овощами, ягодами и разных родов грибами, как-то: рыжиками и груздями. Кроме того что собирали грузди, рыжики и всякие грибы в близких от города местах, из многих домов отправляли служителей довольно далеко, в лодках и на лошадях. Самые известные места, куда ездили за грибами и ягодами: Усть-Балей, Усть-Китой, Шведово зимовье и Ошун, где была прежде мельница. Если был урожайный год, то возвращались с грузами земных произведений. Из ягод заготовляли бруснику и голубицу; их просто сохраняли до заморозов в погребах, а после замораживали. За брусникой отправлялись к Байкалу и на гари: так называют хребет гор около Байкала, где проложена дорога кругом этого моря. Гарями называют их потому, что по причине бывающих часто палов, то есть лесных пожаров, там целые леса обгорают; это случается в Сибири каждую весну: иногда от неосторожности проезжих, которые, готовя себе пищу, оставляют огонь непогашенным, иногда от того, что выжигают траву под пашню без надлежащих предосторожностей. Целые леса горят так, что воздух наполняется дымным запахом; огонь перебегает, как летучие огненные змеи, и клубится в разных видах. Вечером это представляет великолепное зрелище. Гари остаются совершенно необитаемыми. Хотя в Швейцарии и Савои почти такие же места, но там все это обработано; у нас, напротив, еще так мало населена Сибирь, эта прелестная, плодородная страна, что много есть очаровательных и удобных мест не заселенных. На гарях множество чистых источников клубят свои воды; они в этих необитаемых местах обросли кустарниками черной и красной смородины. Там еще много водится медведей и других зверей; но жители Иркутска ездят туда обыкновенно дней на десять за брусникой и вывозят ее каждою артелью по 40 и более ведер.
В Иркутске нет так называемых кондитеров, которые, избавляя хозяев от всех забот, договариваются за прислугу, дают на прокат столовое белье, серебро, хрусталь и все, нужное для пира. В Иркутске, у кого нет всего нужного для угощения, серебра и разной посуды, те просят их у знакомых; и надобно сказать, что все охотно ссужают друг друга. Но всякий, кто может, старается иметь свое. Столы готовят более женщины, которые известны своим поваренным искусством, и тем только живут, что на свадьбах, поминках, именинах гот9Вят столы. Поваров зовут редко и то более когда приглашают на обед чиновников. Официантов есть несколько человек из вольноотпущенных, которые везде прислуживают и тем живут. Музыку обыкновенно нанимают полковую. За 15 лет вольных музыкантов не было порядочных.
ПОЕЗДКА В КЯХТУ
В 1804 году торговым обстоятельствам мужу моему нужно было ехать в Кяхту, но как он располагал прожить там более года, то и решено было ехать нам вместе. Несмотря на разлуку с родными, я очень радовалась этому небольшому путешествию. В Сибири обыкновенно ездят на почтовых лошадях или нанимают переменных (вольных); но мы, не знаю почему, поехали на долгих. Сначала наняли лошадей до Листвяничного. Из Иркутска выехали мы 19 сентября вечером и ночевали в деревне, верст за 25 от города. Рано поутру мы опять пустились в путь, и через несколько часов открылась перед нами великолепная картина взморья (так называется место, где Ангара вытекает из Байкала). Тут находится пристань купеческих судов и деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. Мы не остановились тут потому, что намерены были переправляться через Байкал на казенном гальете; но приехавши к Листвяничному, где тоже находится несколько домов и почтовая станция, прожили неделю за безветрием. Хотя была осень и совершенное уединение от общества, но я не скучала и не могла насмотреться на прекрасное местоположение. С одной стороны обширное пространство вод, с другой высокие горы, покрытые лиственницами; противоположный берег не всегда виден, но в ясную погоду Забайкальские горы белеются, как облака.
Повозки наши были перевезены на гальет; но мы возвращались туда только к ночи и целый день проводили на берегу. Я ходила по горам, окружающим Байкал, и по лесам, где не встретиться с людьми, ибо селений близко нет, а проезжих летом и осенью мало, потому что многие садятся на суда у Никольской пристани. Дней через пять по приезде мы выдержали бурю; с гальету съехать было нельзя, и нас качало двое суток. Матросы и пассажиры все страдали морскою болезнью, которую там называют угаром; но я не испытала этой неприятности: на меня качка судна не произвела никакого действия, и я, сидя в повозке, смотрела на кипящую бездну. Через двое суток море (как там называют Байкал) успокоилось; к ночи подул попутный ветер, и корабль полетел. Какая прелестная картина, когда корабль бежит на всех парусах, в ясную ночь, и звезды горят на небе! Поутру мы были уже в Прорве, куда пристают суда; вышедши на берег, мне долго казалось, что земля качается под ногами.
Мы переехали в Посольский монастырь. Тут, кроме монастыря, большое селение, в котором мы наняли лошадей до Верхнеудинска. Деревни за Байкалом довольно в близком расстоянии одна от другой, и есть большие селения; таковы: деревня Твараговая, Большая Заимка, Кабанск, Троицкий монастырь и проч. Какие прелестные места, какие леса и прекрасные пастбища! Нам часто встречались кочующие семейства бурят, которых все богатство составляют табуны скота. Уложив свои войлочные юрты на быков, они гнали свои стада. Буряты употребляют быков для работы и перевозки, а русские в Сибири никогда не делают этого. Подъезжая к Верхнеудинску, остановились мы ночевать в одной деревне и нашли большое семейство. Убравши хлеб, жители заморья моют свои избы, то есть стены и потолок, и можно сказать, что у них такая чистота, какую найдешь разве в Голландии. Изба хозяев наших была большая, и все семейство пило кирпичный чай; это я видела еще в первый раз, потому что в Иркутске мало пьют кирпичного чаю. Я думаю, многие не знают, что такое кирпичный чай и как приготовляют его. Он вывозится от китайцев, на большие суммы, и его пьют татары, буряты и забайкальские русские. Они так привыкают к нему, что он делается для них необходим. Многие женщины съедают даже листья чаю или выварки, которые называются шара. Кирпичный чай имеет вид доски, длиною вершков семь, шириною пять, а толщиною в вершок. Целый кусок его называется кирпичом; листья его, когда разварятся, такие же, как и у обыкновенного чая, только гораздо больше; но в чае, который известен под именем байхового, одни листья, а в кирпичном целые ветки. Когда надобно употреблять этот чай, то берут кусок его, смотря по количеству, сколько хотят приготовить; ставят чугунку в печь, и когда закипит вода, толкут чай и кладут в кипяток; дают еще кипеть, потом кладут несколько коровьего масла, соли и топленого молока. Когда все это хорошо уварится, разливают чумичкою в небольшие деревянные чашки и пьют с хлебом, шаньгами и пирогами. Говорят, что кирпичный чай очень здоров, и кто к нему привык, те предпочитают его лучшему байховому. В пост варят его с толчеными вместе со скорлупою кедровыми орехами и с толченым конопляным семенем вместо молока.
В Верхнеудинске мы прожили одни сутки. Это хороший городок. Река в нем Уда; несколько каменных церквей; есть каменные дома, и вообще все строения хорошие. Тамошнее купечество торгует в Кяхте и занимается торговлею пушных товаров. Из Верхнеудинска мы наняли лошадей до Кяхты. Погода была прекрасная. Селенгинск проехали мы не останавливаясь. Тут чаще начали нам встречаться кочевья бурят. Остановясь в одной деревне ночевать, я узнала, что близко бурятские юрты. Мне хотелось видеть их домашний быт, и, вошедши в юрту, я нашла разведенный среди ее огонь, а на нем чугунную чашу или, лучше сказать, котел с приготовленным кушаньем. Около огня стояли ребятишки, совершенно нагие; маленький ребенок лежал в зыбке, завернутый в овчины, и сосал кусок баранины; мать его вблизи юрты доила коров. Буряты смирны и работящи; редко случается, чтоб они попадались в преступлениях.
Когда мы подъехали к Кяхте, день был прекрасный. Гуляя, увидела я юрту и нашла в ней несколько женщин. Тут было довольно чисто; в стороне, на небольшом возвышении, стояли маленькие деревянные болваны, а перед ними в медных чашечках пшеница и вода. Одна старуха бурятка вынула листок тонкой бумаги с изображением на нем безобразных фигур и говорила мне что-то; но я, не зная нисколько языка ее, ничего не могла понять, кроме слова Бурхан (так они называют своих идолов). Потом старуха взяла колокольчик и начала звонить. Не знаю, была ли старуха шаманка или принадлежала к поколению лам, но мне не случалось видеть этого в других юртах.
Наконец мы приехали в Троицкую крепость. Там у нас осмотрели сундуки и чемоданы. После этого обряда мы заняли квартиру, где нужно было прожить несколько Дней до переезда в торговую слободу. Нанявши там квартиру, мы переехали на Нижнюю плотину: так называют торговую слободу, где живут купцы и нет иных жителей, кроме пограничного начальства да священника с причетом. Расстояние между Верхнею и Нижнею плотиною 4 версты. Место это совершенно пустое, и на нем не позволяют селиться, чтобы отвратить могущие быть злоупотребления. Вскоре у нас перебывали все торгующие китайцы. Они очень любопытны, и каждый хочет видеть приезжих. Муж мой бывал в Кяхте и прежде, потому нашлись из них знакомые ему. Многие говорят о китайцах более дурного, нежели хорошего, но я не нахожу это справедливым. Конечно, я видела китайцев только торгующих в Кяхте и не могу судить о всей нации; но судя по виденным мною, они вежливы, умны, смешливы, хитры. Одежда китайцев: азям длинный, похожий на татарский, по которому подпоясан кушак; за кушаком у каждого кошелек с табаком, огниво и полотенце; сверху азяма курма, очень похожая на наши кацавейки, только с широкими рукавами; на голове шапочка, зимою с меховым околышем и с красною кистью. Ткани употребляют они по состоянию: у богатых шелковые и суконные; у тех, которые беднее, китайчатые азямы; но курма почти всегда шелковая или суконная. Сапоги у них с толстыми бумажными подошвами; у некоторых башмаки, тоже с толстыми подошвами, и стеганые чулки. Летом они все носят китайчатые длинные платья, подобные дамским блузам, и соломенные шляпы; вечная их принадлежность – трубка, или, как они называют, ганза. Трубки их маленькие; у некоторых довольно длинные чубуки. Китаец вечно курит, идя по улице и пришедши в дом. Несмотря на чинность и церемонии китайцев, они не наблюдают их с русскими. Входя в дом, просто говорят: здравствуй, а некоторые, очень знакомые, берут и жмут руку, потом садятся, курят табак и говорят между собою или с хозяином. Не знаю, правду ли пишут о китайцах, что они придут в гости и по окончании многих церемоний, посидевши, иногда молча расходятся; совсем напротив в Кяхте: там они очень говорливы, даже шутливы и остроумны. Всем русским дают свои имена и редко ошибутся в характере человека. Вот некоторые: железный гром, чертов Капитан и разные другие. С русскими говорят они изломанным русским языком, но, привыкнувши, можно хорошо понимать их.
Очень приятно слышать, что купцы, торгующие в Кяхте, учат ныне детей своих китайскому языку; это должно облегчить торговые сношения. Китайцы с уважением обходятся со старшими. Когда приходит старик, то молодые уступают ему место. Такое уважение, особливо в родстве, простирается даже за пределы жизни. У китайцев траурный цвет белый. Потерявшие отца или мать, носят траур три года, мало-помалу сокращая его; последний год носят серое платье. Если умер дальний родственник, то носят белый пояс и белые чулки. Китайцы очень любят и ласкают маленьких детей; вероятно, это потому более, что они живут в Кяхте без семейств. В Маймачине нет ни одной женщины. Кушанье готовят у них повара. Они не любят неопрятных женщин, говоря: «Она адали маши»,– то есть: она точно кухарка. Им странно, что женщины наши пишут. Однажды увидели они, что я пишу, и сказали: «А! ты еще пичи умеша».
Удивлялись также, что часто заставали меня с книгой и говорили : «Ты всегда книга почитай». У меня было между китайцами несколько человек хорошо знакомых, которые приходили в мою комнату и сиживали там. Особливо два почтенные старика очень любили меня; у обоих из них были замужние дочери, и они говаривали со мной о своих семействах. Один знакомый наш китаец, почтенный человек, был так огорчен, получивши известие о смерти двух детей своих, что долго не выходил никуда, да и спустя долгое время печаль выражалась на лице его.
Живши в Кяхте, мы должны были очень рано вставать, потому что по пробитии утренней зари китайцы выходят из Маймачина и идут ко всем знакомым. Хотя не во всяком доме есть им надобность, но они придут, сидят, говорят, курят табак; их нельзя принимать по выбору. Мелочники их редко ходят по хорошим купеческим домам, кроме нескольких, торгующих мелочами. Эти обыкновенно приносят шелк сученый и шеневой для шитья гладью, картинки, куклы, каменные колечки, будумиловые духи в подушечках, веера, деревянные и фарфоровые чашки, благовонные четки и множество других мелочей, изящных в своем роде.
Я упоминала выше, что в Иркутске 15 лет назад можно было найти все наряды, которые носили наши прабабушки лет за 50 и более; но теперь все истребляется; даже названия нарядов, я думаю, скоро исчезнут, и потому для любопытных прилагаю следующий реестр. Это названия старинных нарядов и употребляемых на них материй:
Роброны.
Фуро.
Сюртучки Шлафроки Круглые платья.
Молдавские платья.
Кунтуши.
Шушуны длинные.
Шушуны с лифом и с маленьким воротником.
Кофты разных фасонов.
Т елогрейки.
Фалборы (это род сарафана).
К телогрейкам, шушунам и кофтам принадлежали: Юбки.
Юбки иногда к верху наставляли другой материей, похуже, потому что под шушуном не видно было этого; такую надставку называли фурмою.
Шубы. Епанча, или мантилия. Они делались на меху,, с широкою опушкою и с круглою пелеринкой.
Шуба гречанка, длинная, тоже с круглою пелеринкою и с длинными, довольно широкими рукавами.
Польки, с рукавами и небольшим воротником; но их не надевали в рукава, а просто накидывали на плечи.
Тулупчик – шуба с длинными рукавами и небольшим воротником; она немного подлиннее колена.
Шубочка коротенькая, как нынешние кацавейки, только с длинными рукавами.
Салопы в старину были немного длиннее колена, с небольшим капюшоном.
Материя для платьев Разные парчи.
Штофы разные.
Штоф китайский по атласу.
Штоф букетовый.
Штоф браже.
Штоф по саржирону.
Штоф французский.
Атласы разные с мушками.
Полосатые, травчатые.
Насыпь, род легонькой парчи.
Бархат с золотом.
Бархат рытый, то есть с узорами.
Бархат гладкий.
Люстрин.
Гризет.
Объяри тисненые и полуобьяри.
Перуан.
Перюсин.
Голи разные, мелкотравчатые и с большими узорами.
Юбки китайские шитые.
Юбки китайские рисованные.
Гургуран.
Гарнитур немецкий и китайский.
Канфы, род атласа – широкая и очень плотная материя.
Канчи, род леваншину; тоже очень прочные.
Лензы, легонький атлас.
Флеры разные.
Флер – свистун.
Флер рисованный.
Фанза – китайская материя, гладкая и черенковая, род тафты, но моется, очень хорошо и удивительно крепка. Ее употребляли на стегание; делают из нее одеяла, юбки стеганые,рубашки мужские и женские.
Урубок – материя, которую китайцы делают из крапивы.
Чанчи, янчи и менчи делаются из шелка не самого лучшего.
Тафты французские и немецкие, волнистые и полосатые.
Китайки разных родов.
Даба – бумажная материя, разных родов. Бедные употребляют ее на рубашки мужские и женские, на юбки, телогрейки и на подкладку.
Еще не так давно в Иркутске угощения совершенно напоминали старую Русь. Для званых обедов готовили множество кушаньев, блюд 30 и более. На стол ставили пиво, квас, мед, вино; наливки обносили после. Порядок блюд был следующий: сначала подавали холодные, потом суп и щи, затем соусы, жаркое и пирожное. Стол уставляли холодными блюдами и пирожными. Чаши с супом и щами подавали на стол, и кто-нибудь из знакомых разливал. Холодные, которые ставили на стол: окорок ветчины целый; кость у него обвита мелко выстриженною бумагою и завязана ленточкою; окорок свежей свинины или буженины, убранный таким же образом; поросенок, обсыпанный яйцами; курицы, тоже обсыпанные яйцами; утки, убранные таким же образом. Дичина, тетерки, глухие тетерева, обложенные лимонами. К холодным блюдам подавали лимонный сок, уксус и горчицу. К супу и щам подавали пирожки, более жаренные в масле; их называли спускными. Соусы подавали сначала кислые, потом сладкие: с говядиной, в виде небольших круглых котлет, с луком красный; с почками тоже красный, кислый; с курицей белый соус. Соусы с гусем, утками и языком делались красные, сладкие, с изюмом, черносливом и миндалем; соусы с дичиной кислые, красные; паштет слоеный. Пшенник, в соуснике запеченный, с яйцами и сахаром. Жаркое всех родов подавали каждое розно. К жаркому огурцы соленые, огурчики в тыкве, грузди и рыжики соленые, капуста свежая шинкованная, летом зеленый салат, арбузы и дыни соленые. Пирожные: пирог сладкий, слоеный; торты разными манерами, слоеные; их называли тарки, вафли, кольца, кудри, стружки, трубочки, розочки, наливашники двух сортов; бисквиты, большой бисквит, испеченный в кастрюле; миндальное разное, в формах печенное, крестиками, с вареньем; желе и бланманже.
В посты также готовили много кушаньев: разная рыба, холодные, жаркие; в соусах порядок соблюдали тот же, лишь с тем различием, что наперед подавалась икра осетровая, потом кулебяка пребольшая, иногда в аршин, с осетриною, подсыпанною визигою. Еще в числе жарких одно составлялось из рыбы. Тело рыбы толкли в тесто, средину начинивали визигой с фаршем и жарили в масле. Это блюдо называлось круглое тельное, и чем больше кулебяка и тельное, тем лучше. Пирожных делалось также множество.
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИРКУТСКЕ
Время неумолимо изглаживает все старинные обычаи и предания. В столицах это не так заметно, как в отдаленных городах, где в продолжение недолгого времени человеческой жизни видим такие изменения, что бывшее за пятьдесят лет кажется иногда баснословным или принадлежащим древней истории. В этом отношении предания города Иркутска, мне кажется, могли бы быть драгоценны для познания старинной Руси. Этот город, хотя и находится в глубине дальней Сибири, хотя окружен полуварварскими азиатскими народами или народцами, и скорее сосед Китая, нежели России; однако с самого основания своего и до нашего времени представлял вид чисто русского города. Он даже более многих городов настоящей России напоминал собою старинный русский быт: могу свидетельствовать о том, потому что знала его в продолжение многих лет и жила потом во многих из главных и древнейших русских городов. Такое явление казалось бы странным, если б причина его не была объяснима очень естественно. Население Иркутска составилось из приезжавших по делам торговым и потом остававшихся там на житье купцов, большею частью уроженцев Северной России–Сольвычегодска, Тотьмы, Вологды и вообще тамошней полосы. Казаки и дети боярские также были чистые русские и, можно сказать, цвет русских искателей приключений. Все это в продолжение времени образовало население превосходное, чисто русское и замечательное умом и способностями. Даже общая первоначальная образованность распространена в Иркутске больше, нежели во многих русских городах. Лучшим доказательством этого служит, что нигде не видела я такой общей страсти читать. В Иркутске издавна были библиотеки почти у всех достаточных людей, и литературные новости получались там постоянно. Чтение – лучший просветитель ума, и соединение его с бытом чисто русским издавна образовало в Иркутске обществе чрезвычайно оригинальное и вместе просвещенное. Там любят литературу, искренно рассуждают о разных ее явлениях и, могу прибавить, не чужды никаких новостей европейских. Азию и Америку – эти части света, всего больше славные своею природою и богатством, знают там многие по сношениям с ними и по рассказам бывалых людей, но знают и из печатных описаний лучше, нежели где-нибудь в России, потому что интересуются ими. Спросите у какого-нибудь коренного купца русских городов об Америке, об Ост-Индии: он едва ли слыхал о них, а многие иркутские жители знают их не хуже родной им России. Самый образ тамошних дел и промышленности, требующий смелости, беспрерывно новых соображений и некоторых сведений, способствовал направлению общества к образованности, ибо известно, что промышленность и торговля, не ограничивающиеся только делами своего города, всего больше способствуют развитию умов и общей образованности. Оттого являлись в Иркутске между торговым сословием люди необыкновенные и множество лиц достопамятных и оригинальных. Не говоря о старинном герое сибирской промышленности Лебедеве-Ласточкине и его товарищах, скажу о нескольких лицах, которых я даже видела в юности своей, а отец мой был в ближайших сношениях с ними, и потому я знаю их довольно подробно. Самый достопамятный из них, конечно, Григорий Иванович Шелехов, человек во всех отношениях необыкновенный, если не назовем его гениальным. Он известен всем как человек, усвоивший своему отечеству русскую Америку, известен и приветствиями за то поэтов. Но немногие в наше время знают, какой силы ума и характера был этот человек! Не столько богатства, сколько славы жаждала его огненная душа, и препятствия в жизни как будто не существовали для него: он все преодолевал своею непреклонною, железною волею, и окружавшие недаром называли его «пламя плящее». Зато это пламя и сожгло его преждевременно: он умер еще не в старых летах, когда придавал новые, огромные размеры своим предприятиям. Учеником школы его был Александр Андреевич Баранов, столько же твердый и строгий, как Шелехов, но не имевший его дарований. В наше время довольно часто пишут о Баранове, как о человеке необыкновенном, но его жизнь и подвиги в сравнении с тем, что был и что сделал Шелехов – идиллия в сравнении с Илиадой. В частых и близких сношениях с обоими был мой отец, о котором уже писал в своей автобиографии покойный брат мой Николай Алексеевич Полевой. Отец мой был также человек необыкновенный умом, силою воли и образованностью. В нем только не было жесткости Шелехова, но в других отношениях он был достойным его противником, долго управляя в Сибири делами своего дяди Ивана Ларионовича Голикова, товарища Шелехова, который вечно ссорился с Голиковым и оттого был также неприятелем отца моего. Только под конец жизни покорителя русской Америки они сблизились и даже были друзьями. Много доброго обещал союз двух таких людей; но неумолимая смерть низвела Шелехова в гроб и была причиной разных огорчении и даже несчастии для моего отца. Тогда-то из обломков дел Шелехова и Голикова составилась нынешняя Российско-Американская компания, основанная по мысли моего отца, который не только обдумал, но даже составил и изложил все уставы, по которым образовалась и первоначально действовала компания. Кто не согласится, что люди, действовавшие в таких размерах, не были похожи на многих из своих собратов, которые только-то и делают, что делывали их праотцы. Напротив, те разливали вокруг себя свет просвещенной деятельности, распространяли промышленность целой страны. Не могли быть они обыкновенными людьми к в общественной и домашней жизни, а оттого вокруг них и вблизи их образовались также люди отличные. Петербург помнит недавнюю утрату, какую понесла Американская компания в почтенном директоре своем Кирилле Тимофеевиче Хлебникове, а он был в молодости своей приказчиком при моем отце, о котором и отзывался с уважением и признательностью в записках своих, напечатанных в прежнем «Сыне Отечества»… Могут уверить, что по крайней мере в прежние годы встреча с такими людьми не была в Иркутске редкостью. До сих пор название сибиряка заключает в себе понятие о человеке проницательном и находчивом очень справедливо. Развязности ума их и, как выражается Батюшков, людкости способствовало, конечно, и то, что в Сибирь, и именно в Иркутск, отправлялось всегда много людей, замечательных по разным отношениям, и они незаметно распространяли вокруг себя образованность, по крайней мере между избраннейшими людьми. Я уже не помню екатерининских вельмож, бывших там генерал-губернаторами и губернаторами, но знаю достоверные рассказы о великолепном Якоби (генерал-губернаторе) и Ламбе (губернаторе). Замечательно, что оба они были британского происхождения и по службе сделались непримиримыми врагами. Ламб, кажется, имел на своей стороне правоту, и большая часть почетнейших жителей присоединилась к нему. Любопытная эта борьба длилась довольно долго, покуда проницательная Екатерина не отозвала Якоби. Эпоху в истории образованности Иркутска составило посольство графа Головкина в Китай. По известным недоразумениям с китайским правительством посол долго оставался в Иркутске – и это не могло не иметь влияния на обычаи и даже образованность граждан, ибо в свите посольства первенствовали люди знатные, богатые, ученые. Тогда вошли в моду даже многие светские обычаи, В числе достопримечательнейших генерал-губернаторов в Иркутске были, на моей памяти – Леццано, Селифонтов и, наконец, Сперанский. Помню, что на Сперанского смотрели как на великого человека и как в великом человеке замечали даже малейшие его поступки. Его образ жизни, его манера обращаться, его мнения, все было наблюдаемо, пересказываемо и служило образцом для многих.
Из числа достопамятных военных помню в детстве моем двух человек, бывших впоследствии героями войн Александра. Это были генералы А. А. Сомов и Казачковский. Жизнь и характер первого из них очень любопытны и вовсе не известны, почему я и скажу, что знаю о нем верного из рассказов моего отца, который был искренним его другом. Андрей Андреевич Сомов, по обычаю дворян в царствование Екатерины, был записан в военную службу с самых молодых лет, имел уже чин капитана, но вовсе не занимался службою и весело проводил свое время в Москве. Он был привлекателен наружностью, обхождением и талантлив. Особенно замечателен был его талант в музыке: он имел прекрасный голос и мастерски играл на мандолине, инструменте, совершенно забытом в наше время, да и в старину не очень употребительном. Это род гитары, и на нем-то Сомов любил аккомпанировать своему приятному голосу. Иногда он много часов один в своей комнате проводил в музыкальных занятиях и как будто забывал в это время целый мир. Вообще он имел голову романическую, задумчивое лицо и чрезвычайно нравился женщинам. Находясь в светском кругу, он переходил от одного успеха к другому, но наконец в сердце его вспыхнула истинная страсть к одной богатой и знатной девице. Он был любим ею взаимно, и, когда высказал ей намерение свое просить ее руку, она решительно отвечала ему, что не пойдет за него, покуда он не будет в генеральских эполетах. Может быть, и у этой девицы была также романическая голова и потому желала, чтоб он как рыцарь доказал ей свою любовь и заслужил ее руку военными подвигами. Напрасно Сомов говорил ей, что это может надолго и даже навсегда отсрочить их счастие, что чины и почести иногда зависят от случайностей, которые не всегда встречаются, словом, он сказал все, что может сказать страстно влюбленный, у которого из рук улетает счастье – своенравная красавица его была неумолима и так умела подстрекнуть его воображение, что он поклялся явиться перед нею не иначе, как генералом, но взял и с нее клятву, что она до тех пор не будет принадлежать никому другому.
Немедленно приехал он в Петербург и вступил в действительную службу. Это было в самом начале царствования императора Павла. Случай, который мог иметь самые неприятные последствия, сделался началом блестящего поприща Сомова. В то время офицеры, бывшие часто в светском круге, худо соблюдали правила дисциплины, которую начал вводить во всей должной точности новый император. Сомов однажды зимою ехал в санях в офицерской форме, но в медвежьей шубе, что было запрещено. Неожиданно навстречу саням его подъехал сам император. Сомов сбросил с себя шубу и стал в санях. Экипаж императора остановился, и по данному знаку Сомов должен был подойти к нему. Вопросы императора сначала были строги, но искренность, откровенность ответов и, может быть, умная, приятная наружность виновного смягчили высокую душу Павла. Он приказал записать имя Сомова и через несколько времени произвел его в следующий чин. Не знаю подробностей, но знаю только, что император обратил на него особенное внимание и вскоре назначил его исполнить важное поручение – устроить и собрать в Иркутске батальон и перевести его в Камчатку. Сомов был тогда уже в чине полковника. Он отправился в Иркутск, занялся данным ему поручением деятельно и с успехом окончил. Возвратившись из Камчатки, он, кажется, еще в Иркутске, где оставался несколько месяцев для каких-то распоряжений, получил чин генерал-майора. Во все это время он жил в доме моего отца и радовался сколько неожиданному своему счастию по службе, столько и тому, что может повергнуть к стопам возлюбленной любовь свою с правом на ее руку. Между тем прошло уже несколько лет после их взаимной клятвы. По приезде в Москву Сомов спешил в дом милой сердцу его и узнал, что она уже замужем!.. Можно представить себе тоску и грусть человека истинно чувствительного… Никогда не мог он утешиться в этом разрушении всех планов своего счастья и едва не впал в меланхолию. К счастью, военная служба и успехи в ней развлекли его. Сомов сделался впоследствии отличным генералом. Имя его встречаем в истории войн 1806, 1807, 1808 и 1809 годов. До начала войны 1812 года он вышел в отставку, и расстроенное здоровье помешало ему участвовать в Отечественной войне. В отставке он женился и кончил свои дни в безвестности. Только знавшие его сохраняют о нем память как о человеке образованном, приятном, истинно благородном.
Кроме лиц исторических, в Иркутске всегда встречались люди, замечательные и в обыкновенном кругу. Бывали также оригиналы, искатели приключений. К числу оригиналов и даже исторических лиц принадлежит известный мореплаватель Хвостов, которого имя неразлучно с именем друга его Давыдова: они жили и умерли вместе. Жизнь их описана официально покойным адмиралом Шишковым и приложена к изданному им сочинению Давыдова «Двукратное путешествие в Америку». Но если б можно было изобразить Хвостова в обыкновенном, домашнем быту – это показало бы в нем лицо чрезвычайно оригинальное и даже поэтическое. Самая мысль его – завоевать Японию, могла родиться только в его пламенной голове. Потом его бегство от охотского начальства в Иркутск, его подвиги во время финляндской войны, самая смерть его – все это необыкновенно. И во всех подвигах и случаях его жизни был неразлучен с ним Давыдов, младший летами, но совершенно противоположный ему степенностью, основательностью, отчетливостью в каждом поступке. Как могли эти два человека сделаться истинными Орестом и Пиладом – непостижимо! Оба они были самыми искренними, ближайшими друзьями моего отца, и потому я знаю о них множество анекдотов. Вот один, который может служить доказательством силы характера или воли Хвостова. Отец мой заведовал тогда делами Российско-Американской компании в Иркутске и Охотске, а Хвостов и Давыдов служили офицерами на кораблях компании. Однажды осенью надобно было им вместе возвращаться из Охотска в Иркутск. Известно, что весь этот путь совершается верхом через непроходимые леса и дебри, где все потребности жизни надобно иметь с собою. Опытный в таких поездках отец мой сказал Хвостову: «Николай Александрович! Что ж ты не запасаешься теплым платьем в дорогу? Ведь знаешь, что нас захватят жестокие морозы и снег?» – «А что ж такое?– отвечал Хвостов.– Я не боюсь ни морозов, ни снегу!» Отец мой напоминал ему еще не раз о теплой одежде, но тот всякой раз беззаботно отговаривался от нее. Без ведома его отец мой велел изготовить ему шубу, теплые сапоги, шапку и все необходимые зимние принадлежности. Он приказал все это взять с собою, и они имеете выехали из Охотска. Вскоре Хвостов начал ощущать якутский холод и дрожать в своей летней одежде. Тогда отец мой с торжеством велел вынуть приготовленную для него теплую одежду. Хвостов вспыхнул, зашумел и отказался от приятельской услуги моего отца. Напрасно тот представлял ему невозможность пробыть на зимнем холоде много дней без теплой одежды. «Не хочу! не надо! – кричал Хвостов.– Разве я ребенок? баба? разве ты умнее меня?» И он до самого Якутска, не слушая несколько раз повторенных ему предложений, доехал в летней шинели, в кожаной фуражке, в обыкновенном сюртуке. Правда, он жестоко страдал и много пил рому – но устоял на своем!
Во время экспедиции в Японию, когда жители защищались от его нападения, стрела, пущенная со стороны неприятелей, вонзилась ему в плечо. Были примеры, что стрелы их, напитанные ядом на острие, причиняли неминуемую смерть. Когда Хвостову напомнили о том, он, не переставая распоряжаться, сбросил с себя мундир, обнажил уязвленное место, велел насыпать на него пороху и зажечь. Рану перевязали, и он даже не упоминал о ней больше.
Таких примеров его присутствия духа известно очень много. Действуя всегда по внушению благородного сердца, он редко бывал виноват в самых бурных своих увлечениях. Несколько раз в жизнь свою бывал он под судом, но всегда оправдывался с честию.
Упомянув об оригиналах и искателях приключений, я приведу несколько черт из жизни одного такого героя, которого видала и помню, потому что он бывал во всех порядочных домах в Иркутске. Умалчивая о настоящей его фамилии, скажу только, что его вообще называли Куликан, вероятно, оттого, что он любил куликан, хотя в обществе являлся всегда самым изысканным щеголем, как объясню я далее. Происхождением он был купец одного города Средней России, где люди его сословия были почти все староверы. Жены и дочери их сидели взаперти, наряды у них оставались прадедовские, и все новые обычаи казались им ненавистными. Можно вообразить, как ужасались они, видя, что молодой согражданин их, г. Куликан, бреет бороду, пудрится, щеголяет во французских кафтанах и ведет знакомство только с барами. Он прослыл язвой и чумой, и все почитали за долг удаляться от его знакомства. На беду, он увидел как-то дочь одного из почтеннейших граждан, влюбился в нее и заставил ее полюбить себя. Вероятно, все это делалось через косяща-тые окошки и посредством услужливых кумушек-старушек. Как бы то ни было, уверившись во взаимной любви своей возлюбленной, г. Куликан отправил сваху по форме к отцу ее. Старик пришел в гнев, в ужас от такого дерзкого предложения, разбранил и прогнал сваху. Тогда Куликан сам отправился к нему и постучался в ворота, вечно запертые. После несколько раз повторенного стука медным кольцом калитки ворот отворилась: в ней стоял сам хозяин.
– Что вам угодно, государь мой? – спросил он, едва удерживая свой гнев.
– Мне нужно поговорить с вами о деле, сердечном для меня и для вас, Иван Борисович, – проговорил Куликан.
– Говори, а я буду слушать,– отвечал гордо старик.
– Дело не такое, чтоб говорить о нем здесь, Иван Борисович. Дело сердечное, касательно вашей дочери.
– Как ты смеешь упоминать о моей дочери, негодяй! – заревел старик всею русскою грудью. – Ты осмелился предлагать себя в женихи ей через сваху, а теперь вздумал еще и сам явиться с тою же наглостью!.. А вот я проучу тебя! – И он замахнулся длинною тростью, которая была в руках у него.
Ловкий щеголь отскочил от него на середину улицы, выпрямился, оперся на свою модную трость и твердо, но хладнокровно сказал:
– Послушай же ты, безумный старик! Я прислал к тебе сваху с честным предложением – ты прогнал ее, я являюсь сам – ты не даешь выговорить слова, ругаешься, готов драться!.. Так знай же, что дочь твоя будет моею женою и без твоего согласия!
– Ах ты, прощелыга! – кричал Борисов.– Стыдно мне срамить себя, а то измолол бы все кости твои! Прочь, и не смей подходить близко к моим воротам.
– Ты непросвещенный гордец, невежда, но ты отец будущей моей жены – и я прощаю тебя – возразил Куликан.– Да знай, что ни замки, ни затворы, ни сторожа, ни запрет твой, ничто не помешает мне жениться на твоей милой Маше.
В самом деле он исполнил свое слово: не щадил ни денег, ни даже жизни своей, вошел в сношения с Марьей Ивановной Борисовой, умел ослепить или подкупить всех окружавших ее и увез ее, а в ближайшем городе обвенчался с нею. Нечего доказывать, что она разделяла его страсть и способствовала своему похищению. Но после этого им уже нельзя было жить в одном городе с отцом и они уехали в Москву. Надобно вспомнить, что это происходило лет восемь-десять назад, и тогда невольно спросишь себя: как мог образоваться такой характер в глуши, посреди староверов, где малейшее отступление от прадедовских обычаев почиталось почти преступлением? Но это было только началом приключений г-на Куликана. В Москве он начал тем, что поместил свою молоденькую жену в пансион учиться танцевать, играть на клавикордах и болтать по-французски. Он выписывал ей и себе наряды из Парижа и наконец так укомплектовал свой гардероб, что у него самого было триста шестьдесят пять кафтанов, а у жены его столько же платьев и пар башмаков, то есть перемена на каждый день года. Белье свое и жены своей посылал он мыть в Голландию. Страсбургские пироги были у него обыкновенным блюдом. Для стола его всегда откармливались индюки и другие птицы – миндалем!.. Может быть, читатели подумают, что я пересказываю сказку из «Тысячи одной ночи», но могу уверить, что все это было точно так. Разумеется, у человека, живущего богато и роскошно, всегда бывает много друзей, и потому у г-на Куликана было в Москве самое избранное общество. Он и жена его переняли и приняли светские манеры. Я знала их, когда они были уже не в молодых летах, и, признаюсь, немного встречала я людей, столько приятных в обхождении. Какая-то особенная вежливость, кротость и непринужденность отличала их. Важный вопрос, откуда брал Куликан деньги для своих огромных расходов,– был и остается загадкою. Известно, однако ж, что иногда он крайне нуждался в деньгах, закладывал и продавал самые необходимые вещи, и опять через несколько времени начинал жить с прежнею роскошью. Вероятно, он вел большую игру, потому что все знаменитые современные игроки были друзья его, и сам он был гений во всех карточных играх, но редко видели его с картами в руках для забавы, для партии в небольшую игру, и до старости казался только добродушным ветреником. Кажется, больше для виду, нежели действительно, он имел и некоторые торговые дела, прожил даже несколько лет в Сибири, отчасти по делам Российско-Американской компании, изумлял Иркутск своими прихотями и роскошью, ездил в Америку и вскоре после этого был поражен параличом. В это бедственное для него время, уже в старых летах, он неожиданно получил наследство: умер отец его жены, который никогда не видал ее после бегства из родительского дома, проклинал похитителя ее и был жестокосерд до последних дней своей жизни. Перед смертью он простил непокорную дочь и не лишил ее наследства, которое оказалось значительным. Замечательно, что Куликан, этот маршал Ришельё в малом виде, испытавший в жизни своей всю роскошь и негу, жил в последние годы таким же старовером, как и другие сограждане его. Возвратившись к ним, разбитый параличом, он отпустил длинную бороду, нарядился в длиннополый сюртук и на костылях ковылял в церковь к каждой службе, а остальное время лежал или читал церковные книги.
Из рассказов моих можно видеть, что жизнь образованного класса в Иркутске была совершенно европейская, что там всегда было общество избранное, где являлись многие люди, достопамятные или замечательные по разным отношениям. Но это не мешало в том же городе сохраняться всем чисто русским обычаям и преданиям. Самый язык и манера выражаться там чисто русские, и если бы не противная интонация, или аксан, каким отличается выговор иркутских жителей, то у них можно было бы искать истинного русского языка. Но эти возвышения и понижения голоса, эти грубые ударения на «о» чрезвычайно неприятны, особенно тому, кто не привык к ним или отвык от них. Надобно прибавить, что таков выговор только простолюдинов. В разговоре других только отзывается областная грубость аксана. В Иркутске, как и в других отдаленных от столиц городах, многие предметы имеют свои областные названия, много сохранилось старинных слов, которые не употребляются больше в языке современном. Для изучающих русский язык учебным образом любопытно было бы узнать их, потому что они, по крайней мере, поясняют другие слова. Целые выражения книжные сделались также как бы пословицами или поговорками. Прежде употребляли много выражений священного писания, и до сих пор остаются из них некоторые в общем употреблении между народом. Например, часто услышите: «Не насытится око зрением, ум богатством»; «Аще не господь созиждет дом, всуе труждается»; «Гордым бог противится»; «Послушание паче поста и молитвы»; «Не останется камень на камени» и много подобных.
Замечательно, что старики, совершенно русские по своему воспитанию и образу жизни, еще не так давно употребляли в обыкновенном разговоре множество старинных слов русских и из церковного языка, употребляли даже целые речения, которые можно было бы вставить в любую летопись. Это ясно показывает, что не только до времен Петра, который ввел в язык наш много слов иностранных и еще больше слов и даже целых фраз, переведенных с иностранного, но и долго после Петра Великого удерживался совсем не тот язык, которым говорят теперь все русские. Кто в наше время употребляет слова: окаянный, красный, присный, око, здравствовать, векую?– а я еще слыхала их в устах стариков. Они употребляли даже целые изречения, составленные в каком-то старинном духе. Один почтенный старец, слыша о победах Суворова, обыкновенно восклицал: «Дай, боже, здравствовать господину Суворову!» Екатерину Великую называл он не иначе, как «Матушка-царица» или: «Матушка-императрица». Из разговоров такого старца можно было бы составить целый словарь старинного русского языка.
Кстати, приведу здесь несколько слов и изречений, которые случалось мне слыхать от старых людей не в одном Иркутске.
Слова: «прекрасно», «превосходно», «изящно», «прелестно» они заменяли, где приходилось кстати, своими словами, например, вместо «прекрасный день», говорили «красный день», так же как говорили: «красная девица», «красное солнышко» или «солнце», «красная жизнь», «красные дети» (когда было двое детей, сын и дочь); «красное крыльцо» значило парадное крыльцо, хорошее лето – «красное лето». Если кто провел жизнь свою счастливо, про того говорили «жил красовался» или «жили золото весили», а кто провел жизнь весело, о том выражались «было попито, поедено, вкрасне, вхороше похожено». Золото называли также красным. Слова «добрый», «добро» также применялись ко многому. Говорили «добрая одежа (одежда)», «добрая шуба», «добрая мука», «доброе пиво». Имущество, пожитки называли «добром».
Хваля, говорили: «как наливное яблочко, как дыня, как мытая репочка, как маков цвет, как лебедь белый». Упоминая о луне или применяя к ней что-нибудь, называли ее не иначе, как «светел месяц»; упоминая о звездах, прибавляли «чистые звезды». Гром называли «милость божия». Если загоралось от молнии, то говорили: «от милости божией».
Многие из старых людей были мастера прибавлять ко всякой речи какую-нибудь поговорку или прибаутку, и здесь-то, мне кажется, надобно искать настоящей игривости русского ума. Если в разговоре встречалось, например, слово о косе, то старик немедленно прибавлял: «русая коса до шелкова пояса». О хозяине и хозяйке «хозяин в дому, как медведь в бору, а хозяюшка в дому, как оладья в меду». Не привожу здесь множества известных всем выражений, каковы: «очи сокольи, брови собольи, грудь лебединая, а походка павлиная»; «милости просим хлеба соли откушать, лебедя порушать». Обращаясь к подчиненным в доме девицам, старик непременно прибавлял: «Ох вы, красные девицы, пирожные мастерицы, горшечные пагубницы!»
Это было обычаем и принадлежностью всех разговорчивых, веселых стариков. Но между ними бывали исключительные сказочники или баюны, которые хотя не сами выдумывали то, что рассказывали, но умели повторять старое со множеством шуток, прибауток, вставных выражений и притом с какою-то веселостью, с каким-то удальством, которые развеселяли и заставляли хохотать слушателей. Вступлением к рассказам их была не одна известная присказка: «На море на океяне, на острове на Буяне» и проч. Таких присказок было множество, и каждый даровитый рассказчик придумывал что-нибудь свое или прибавлял что-нибудь новое к старому. Я приведу несколько примеров.
Вот начало вступления.
«Поместье у меня большое, заведение знатное: деревня в семи кирпичах построена, рогатого скота петух да курица, а медной посуды крест да пуговица. Дедушка мой жил в богатстве, и мы с ним вместе варили пиво к батюшкину рождению, варили семь дней и наварили сорок бочек жижи да жижи, а сорок бочек воды да воды. Хлеба разного пошло семь зерен ячменю да три ростка солоду, а хмель позади избы рос. Проголодался я, добрый молодец, и свинья по двору ходит такая жирная, что идет, а кости стучат как в мешке. Хотел я отрезать от нее жиру кусок, да ножика не нашел, так и спать лег. Встал рано, захотелось жевать пуще прежнего. Пошел, взял кусочек хлебца, хотел помочить в воде, да он в ведро не пролез: сухой и съел».
Такую бестолковщину продолжал рассказчик, покуда ума хватало, а слушатели без умолку смеялись нечаянностям рассказа его, которому придавал он выражение тоном, понижением и повышением голоса, а кстати и движениями. Затем начиналась самая сказка, где также события отличались нелепыми сближениями и перемешивались с разными приговорками и присказками. Почти каждая сказка оканчивалась свадьбою, и рассказчик прибавлял в заключение: «Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Дали мне кафтан, я надел, иду путем-дорогою, а ворона летит да кричит: синь да хорош, а я думал: скинь Да покажь. Скинул, положил под кустик, пришел назавтра, только место знать, а кафтана нет и не видать». Такие окончания, вступления и в средине рассказа беспрестанные вставки, то есть поговорки, прибаутки, нравоучения, присказки, известные поговорки, вроде: «Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается», или «это еще не сказка, а присказка, а сказка все впереди», занимали много места и составляли такую важную часть самого рассказа, что нить или связь излагаемых происшествий была не главное: главное было искусство рассказчика. Я слыхала удивительных в своем роде мастеров этого дела в Иркутске. В доме моих родителей был ночной сторож, или караульщик, как там называют: это был, можно сказать, необыкновенный рассказчик и замечательный по разным отношениям старик. Ему было тогда лет семьдесят, и хотя он был не велик ростом и худощав, но здоров, всегда весел, и притом прожора и рассказчик неутомимый. Когда, вечером, надев на себя охабень, или тулуп, он с длинною дубиною выходил на свою ночную стражу, вокруг него собирались все свободные в доме люди и упрашивали рассказать что-нибудь. Долго он отделывался от них шутками и прибаутками, и наконец за хороший нюх табаку начинал непрерывный рассказ. Окружавшие его рады были слушать его хоть всю ночь, и обыкновенно им уже приказывали разойтись. Случалось, что в летние светлые ночи и отец мой подзывал его к галерее своего дома, где он сиживал по вечерам и заставлял Терентьича рассказывать. Главный интерес его рассказа был в его манере рассказывать, потому что сказки были все известные, кроме отдельных анекдотов, которые он приводил всегда кстати. Например, когда речь доходила до мужика, солдата, дьячка и тому подобных лиц, рассказчик почти всегда делал небольшое отступление, вроде следующего:
– Солдат! А что такое солдат? человек божий и пр. Шла партия солдат по деревне, и досталось одному солдату на квартиру к старой старухе, такой карге, что и ведьмы пугались ее. Солдат вошел к ней в избу, по-христиански помолился, по-русски поклонился и чествовал хозяйку добрым словом:
– Здравствуй, бабушка-старушка, рада не рада гостю, а дай что-нибудь порвать!
– Да что же тебе порвать, родимый мой? – отвечает старуха, будто и недомекает, что он голоден.– Была где-то веревка старая, да и ту ребятишки утащили.
– Ну, так нет ли у тебя чего поклевать?–сказал солдат.
– Да что же, родимый, поклевать! Овса, либо круп я не сею, а с неба они не сыплются.
– Ну, так нет ли у тебя чего-нибудь поесть?– сказал солдат уж напрямки.
– И, родимый,– отвечает старуха,–я и сама третий день сухую ложку лижу да тем и сыта.
– Ну, нет ли у тебя молочка, хлебца, курочки?
– Нету, родимый, и сама давно их не видывала.
«Постой же ты, старая ведьма,– думает про себя солдат.– Научу я тебя царских слуг кормить – вдесятеро поплатишься».
– Так и сварить у тебя нечего?
– Ничего нет, родимый.
– Ну, а вот под лавкой топор лежит.
– Да что ж топор! Ведь его не укусишь, родимый!
– Твоими зубами не укусишь, а наше дело солдатское. Я из него похлебку себе сварю да с похлебкой и съем.
Старуха ухмылилась:
– Посмотрела бы, как ты станешь топор грызть!
– Разварю да и съем!
Старуха уж просто-запросто засмеялась.
– Пожалуй, вари топор, а коли разваришь, так и кушай на здоровье.
– Ну, спасибо и за то, бабушка! Пойду же наберу хворосту да разведу огонь, а ты воды приготовь в чугунке.
Служивый-то смекнул, что топор широкий, новенький, верно, больше рубля стоит.
Вот он вышел из избы, подозвал товарища и говорит:
– Слушай меня: как увидишь, что из трубы в квартире моей сильный дым пойдет, подбеги к окошку, застучи да и зови: сбор, дескать, в поход. А уж зато будет у нас и добрый ужин, и по доброй чарке водки.
Воротился он в избу с охапкой хворосту, а старуха уж и воды в чугунке приготовила, и таганчик на шесток поставила, и трубу открыла.
– Посмотрю, говорит, поучусь, как топоры варят да с похлебкой едят.– А сама со смеху помирает, думает, провела я солдата-то: поварит, поварит топор да так и уйдет. А солдат не унывает, разводит огонь под чугункой да еще соли спрашивает.
– Дай, бабушка, соли – без нее невкусно будет.
– Возьми, родимый, на полице.
Вот он взял соли, посыпал в воду, а как вода стала закипать, так и топор опустил в нее. Старуха сидит да посмеивается, а он кипятит воду, пробует ее да приговаривает: «Нет, все еще сыр и навару не дал!» Вот уж вода давно ключом кипит, а он все только разговаривает со старухой да пробует кипяченую воду. Старуха со смеху помирает, а он и говорит, как будто сам с собой: «Нет, видно, мало огня! Дай еще хворосту прибавлю на огонь». Прибавил, пошла трескотня, и дым повалил из трубы. А товарищ-солдат, как завидел из трубы сильный дым, подскочил к окну, стучит и кричит:
– Семен Семенов! В поход! Живо собираться к капитанской квартире!
– Ахти! – закричал солдат. – Как же быть-то? – Взял железную чумичку, вынул топор из кипятку, держит в рукавице да и пробует: – «Сыр еще, сыренек, говорит, да уж нечего делать: съем дорогой каков есть! Прощай, бабушка-старушка! Дай бог тебе здоровья: видала, как солдаты топоры варят и едят?»
И был таков с топором. А старуха потом рассказывала за диво, что солдатскими зубами и сырой топор разгрызть можно.
К этому прибавлялось несколько нравоучений, в русском духе сказанных, и такая вставка только разнообразила главный рассказ. Разумеется, Терентьич говорил гораздо острее, выразительнее по-русски, нежели я сумела передать его слова. Это только «Фрейшиц, разыгранный перстами робких учениц».
Мне кажется вообще, что занимательность и прелесть русских сказок зависела больше от искусства рассказчиков, нежели от самого содержания их. Сказки русские вообще очень незамысловаты содержанием, а как они сохранились только в изустных рассказах, то теперь даже трудно узнать их в первобытном, оригинальном их виде. Терентьичи встречаются уже редко, а что до сих пор напечатано, то не дает понятия об истинном рассказе русской сказки. Еще лучше издания так называемые лубочные, с картинками, или с панками, как выражаются в Иркутске. В тех, по крайней мере, издатели не мудрствовали, не стирали оригинальности с рассказа; но другие хотели улучшить его и портили тем. Не думаю, чтоб можно было теперь восстановить наши народные сказки в настоящем их виде, ибо, повторяю, что не содержание, а рассказ составлял все их достоинство. Я упомянула, как рассказчики выказывали народное остроумие при словах «солдат, дьячок» и тому подобных. Но они останавливались мимоходом на множестве слов и поясняли их каким-нибудь присловием или рассказом. При словах «ворона», «сова», «непогода», «ночь», «солнце», «месяц» и бесчисленных других бывали прибаутки и присказки. Все это теперь потеряно для нас невозвратно.
В Иркутске были и свои местные предания и поверья. На левом берегу Ангары, против города, есть место, называемое Царь-Девица. Оно замечательно своею дикою красотою, на горном возвышении, замечательно и преданием, поясняющим его название. Лет сто назад приехала туда, неизвестно откуда, девица высокого роста, красивая и, как видно, очень неустрашимая, потому что она одна-одинехонька поселилась на этом месте, построила там себе избушку, обнесенную частым тыном, держала злых собак и не пускала к себе никого. Она сама работала в своем огороде, а для необходимых пособий в работе и для посылок в город прихаживала к ней старуха поселыцица. Она-то рассказывала про нее, какая она умница и разумница, как она то работает в огороде, то сидит за книгами, а как заговорит о чем, то будто сладким медом поит. Никто не смел подходить к ее жилищу, а если кто отваживался на это, то она становилась в своем дворе на какое-то возвышение и показывала рукой, чтоб он удалился. Если же он не слушался, то она выпускала на него своих собак, и дерзкий нарушитель ее приказаний рад был унести ноги. Она провела много лет таким образом и в старости своей допускала к себе некоторых из иркутских жителей, которые являлись просить совета у нее в трудных случаях и возвращались в восторге от ее ума и красноречия. Она умерла, оставшись неизвестною, так что никто не знал ни имени, ни происхождения ее, но за мудрость и чистое поведение прозвали ее Царь-Девицей. Избушка ее наконец истлела, исчезла, но место до сих пор называется Царь-Девицей.
Таких замечательных почему-либо мест вокруг Иркутска есть несколько. Так, например, Шведово Зимовье получило свое название оттого, что в старину жил там в зимовье старик швед, вероятно из пленных, взятых, может быть, Петром Великим. Предание говорило, что там было много кладов. Уже не было ни шведа, ни зимовья, а проходившие вечером или ночью видели там огоньки, видели даже, что сам швед выходил со свечой в руке и гасил ее, оборотив вниз. Но кто решался искать клада, тот обыкновенно заблуждался в лесу и не находил даже самого места Шведова Зимовья. Вообще о кладах и богатствах вокруг Иркутска было довольно преданий и рассказов. Не намекали ль они на золотоносные богатства, открытые в наше время? Мне не раз приходило на память, что верстах в двадцати от Иркутска есть два урочища, называемые Малая и Большая Рудоплавная. Предание говорило, что на месте их когда-то были заводы, где плавили руду, но какую, когда и кто? неизвестно. Гораздо любопытнее тамошняя местность: в рудоплавной есть проток, точно как вырытый канал, шириной не больше сажени, но очень глубокий и идущий, как я слыхала, издалека, из каких-то гор. Почему бы не попытаться исследовать эту местность и предание о руде, может быть, тут открылся бы богатейший золотой прииск? В преданиях бывает иногда смысл.
В заключение рассказов моих об Иркутске упомяну и о тамошней природе. Она имеет там свои прелести, и я, видев после природу лучших областей русских, даже прожив несколько лет на берегах Черного моря, не разлюбила природы иркутской. Особенно местность самого Иркутска, в некоторых отношениях – несравненна. Окруженный с трех сторон живописными, громадными горами, а с четвертой окаймленной величайшею в мире рекою Ангарой, он красиво раскинут на гладкой равнине, пересекаемой еще двумя реками, Иркутом и Ушаковкой. В других местах и эти две, довольно большие реки, почитались бы драгоценными, но, вливаясь в Ангару, они кажутся ручьями. Ангара изумительна своим многоводьем. Вытекая из Байкала, или Святого моря, как называют его иные, она и под Иркутском, уже пробежав около 60 верст, еще имеет более версты ширины, и быстрота ее так сильна, что на поверхности видны всегда волны, погоняющие друг друга. Ангара очень глубока, но вода в ней совершенно прозрачна, и сквозь нее видны все камешки и даже травки на дне. От такой глубины, быстроты и огромности Ангара холодна и в самые палящие жары. О быстроте ее можно судить во время перевоза от одного берега к другому, производимого на больших гребных судах, называемых карбасами, – судно относит на версту и более вниз, так что его всегда тянут после этого бечевою к месту пристани. Рекоставом называется замерзание Ангары, которое бывает редко ранее половины декабря, хотя в то время уже во всех окрестностях господствует настоящая зима. Только после долгих и сильных морозов на реке появляются льдины, которые постепенно делаются больше, идут чаще, гуще, наконец сталкиваются, плывут громадою и производят такой шум и рев, что на берегу реки нельзя расслышать самой громкой речи. Борьба льдин оканчивается тем, что они останавливаются и замерзают в самых неправильных неровностях, так что в иных местах выдвигаются громадами. В это время переезд через реку прекращается на некоторое время, покуда не срубят и не сгладят на ней неуклюжих льдин.
Растительное царство в Иркутске и всей дальней Сибири, довольно бедно, потому что лето там кратковременно, а зимние морозы так сильны, что их не переносит ни одно нежное растение на открытом воздухе. Ранняя зима настает в Иркутске с половины октября, поздняя с половины ноября. Сильные морозы продолжаются постоянно до половины февраля, а иногда и далее. Весна наступает быстро, как в северных климатах, хотя Иркутск находится на одной широте с Киевом. В Европейской России начало весны предвещают жаворонки, но в Иркутске и его округе их не бывает. Там нет ни соловьев, ни даже чижиков. Из певчих птиц есть малиновки, зяблики, скворцы, клесты, щуры, иволги, синицы; есть еще птички, называемые в простом народе соловейками: они меньше соловьев, но похожи на них и поют очень приятно. Когда снег еще несовершенно сошел, первые из отлетных птиц появляются плишки, красивые птички, которые есть почти во всей России, и в книжном языке известны под названием «трясогузок». Гораздо позже прилетают ласточки, что предвещает уже теплую погоду. Вообще говорят: «Ласточки прилетели, тепло будет». Их везде почитают за птиц благодатных, предвестниц счастья. Замечу мимоходом, что мы большею частию смотрим на природу равнодушно, а она всегда и везде представляет множество предметов любопытных, к которым, кажется, трудно привыкнуть до равнодушия. Напротив, я понимаю, что не только ученому, но и самому простому человеку можно и даже естественно пристраститься к созерцанию явлений природы. Живя в Сибири, я много раз наблюдала быт ласточек. Особенно в Иркутске, эта милая и, как почти везде, неразлучная с жилищами человека птичка во многом не походит на ласточек других мест России. Там она гораздо красивее: грудь и брюшко у нее покрыты прелестными перышками цвета неопределенно розового с оранжевым, крылья и головка сизо-черные, на шейке белое пятнышко. Стрижи также род ласточек, но они совсем не так красивы: у них грудь и брюшко белые, крылья и спинка сизо-черные, но без двух раздвоенных перышек в хвосте, которые придают такую оригинальность виду ласточки и, кажется, способствуют быстроте ее полета. Известно, что ласточка летает с быстротою стрелы, оборачивается в воздухе с чрезвычайною ловкостью и большую часть времени проводит в летанье. Она почти лишена способности ходить и, садясь очень редко на землю, едва передвигает свои короткие ножки, но, вспорхнув на воздух, она в своей стихии. Она может быть названа по преимуществу летучею птичкою. Ласточки вьют свои гнезда под крышами, в углах или под окнами. Сперва веселые гостьи как будто все осматривают, потом начинают поправлять старые гнезда или устраивать новые. Они занимаются этим с такою неутомимою деятельностью, что в три-четыре дня оканчивают себе новое гнездо, искусно слепленное из грязи, травок и уложенное внутри мохом и отчасти мягкими перышками. Все это приносят они издалека в своем носике и потому беспрерывно подлетают к гнезду или отлетают от него. Иногда, как бы радуясь успешной работе, они садятся где-нибудь подле и распевают свои веселые песни. Пение их отличается какою-то роскошною, искреннею веселостью, и хотя многие птички поют гораздо лучше их, но ни одна не поет так мило. На полете, рея в воздухе, они также оглашают его своим усладительным щебетанием. Когда гнездо кончено, самка кладет яйца и садится на них, а самец беспрестанно летает, приносит ей пищу, состоящую из разных насекомых, садится иногда возле и утешает свою подругу пением или на несколько времени занимает ее место, давая ей свободу пореять в воздухе. По выводе птенцов самец и самка оба приносят им пищу, беспрестанно подлетая к гнезду. Когда дети их вырастут наконец так, что могут вылететь из гнезда, они сначала перелетают только на крышу того строения, где их гнездо, и там небольшими перелетами как бы испытывают свои силы. Через несколько времени начинают и молоденькие ласточки реять в воздухе и находить сами себе пищу. По окончании лета ласточки готовятся к отлету, собравшись многочисленными стаями, и несколько дней как будто упражняют в том молодых. Усевшись тысячами на каком-нибудь большом здании, они с пением и чириканьем вспархивают, летят в одну сторону и возвращаются на прежнее место. Замечательно, что вообще они прилетают весною и улетают в конце лета не вдруг, а, по замечанию старожилов, в три раза. Ранние выводят детей раньше и раньше отлетают, другие делают то же позже. В Иркутске уверены, что отлет их бывает постоянно 1-го, 6-го и 15-го чисел августа, т. е. в Спасовы дни. Не могу подтвердить, точно ли в эти дни, но я сама много раз видела, как около означенного времени, в срок отбытия их, стая, готовая лететь, усаживается рядами по кровлям и заборам – будто наблюдая старинный русский обычай садиться перед отбытием в путь,– потом поднимаются все, летят и исчезают в отдалении. В Сибири простолюдины говорят, что ласточки улетают на теплые воды. Не знаю также, с чего взяли, будто усталые из них садятся на спину лебедей. В России мне, по крайней мере, не случалось заметить в ласточках такой общежительности и домовитости, какою отличаются они в Сибири, или, лучше сказать, в Иркутской губернии. Любопытно, что описанные мною ласточки, отличные от русских ласточек своим розовооранжевым брюшком и такою же грудью, встречаются только по реке Кан, бывшую границу Иркутской губернии, по другую же сторону реки встречаются уже обыкновенные ласточки. Ловкость и быстрота ласточек всего лучше бывает видна, когда они окружают ястреба, врага своего. Бесчисленное множество слетается их вокруг него, чирикают, вьются вокруг, но никогда не удается ему схватить или зашибить ни одной из них. Какие хитрости употребляет он – и все напрасно! Иногда он бросится в толпу их, вниз, вверх, по всем направлениям, но они мгновенно рассыпаются и тотчас опять окружают его. Иногда, будто утомившись, он тихо полетит от них прочь, и они толпою преследуют его, как вдруг он обернется, молнией кинется на них – и всегда неудачно. Ласточки издревле любимы нашим народом: никогда и нигде не делается им ни малейшего вреда, напротив, почитается добрым предвестием, когда они во множестве поселяются в доме. Желая похвалить женщину или девицу, говорят: ласточка-касаточка. В песнях часто упоминается о ласточках. Дом, хорошо устроенный, называется ласточкиным гнездышком. Державин описал ласточку в особом стихотворении. Но где он встретил ее в России с красно-белою грудью? Не на дальнем ли севере, в Олонецкой или в Архангельской губернии? Может быть, там она похожа на иркутскую.
ИРКУТСК
Сибирь, самая отдаленная и обширная из всех частей Российской империи, все еще мало известна даже русским. Есть сочинения о Сибири, заслуживающие внимания и полное доверие читателей. Таковы: «Историческое обозрение Сибири» Словцова; сочинение Семивского; «Описание Енисейской губернии» Степанова; «Поездка в Якутск» Щукина; «Поездка к Ледовитому морю» Белявского, но все их можно почесть более источниками к составлению истории и географии Сибири. Желательно, чтобы трудолюбивая рука просвещенного писателя составила описание Сибири в историческом, географическом и статистическом отношении. Надеюсь, что такое желание всех посвященных и любящих свое отечество русских исполнится, особливо при содействии просвещенного правительства. Сибирь вполне заслуживает такое описание во всех отношениях. Желание быть полезною, сколько слабыя мои сведения позволяют, заставило меня писать мои Записки и воспоминания о Сибири. То же самое желание побуждает меня и теперь написать еще несколько замечаний, основанных на собственном моем наблюдении во время моего жительства в Иркутске. Мне известно, что г. Корюхов, бывший председателем Иркутской уголовной палаты, урожденец Сибири, человек умный и наблюдательный, вел свои записки о замечательных сибирских событиях и каждодневный журнал о переменах в климате во все времена года, вскрытии и замерзании Ангары, урожае хлеба и других произведений; вероятно, есть в его записках и цены припасов, и очень было бы любопытно видеть журнал г. Корюхова, если он сохранился (он должен быть у зятя его, Н. Н. Веригина). Может быть, есть записки и других старожилов Сибири. Кроме записок о климате и произведениях, Сибирь для изыскателей старины – богатое поле, которым можно еще воспользоваться; первые поселенцы Сибири были, большею частью, из северных областей России, промышленники, заезжие купцы, дети боярские, стрельцы и люди, попавшие под опалу. Они принесли с собою обычаи, поверья, пословицы, сказки, песни, поговорки, предания и домашний быт. Все сохранилось в разных местах Сибири, но невероятно, как все ныне изменяется; пройдет еще несколько десятков лет, и не останется следа старины. Не спорю, что все делается к лучшему, да так и должно быть, но почему не сохранять нам памяти своих родных преданий: событий и быта русского? Мы ищем у иностранцев описаний России и делаем выписки из Олеария и Маржерега, а не пользуемся своими родными источниками. Не мне, женщине без образования, делать ученые изыскания. Руководимая истинною любовью к отечеству, я приношу только ему свой бедный лепет.
Напрасно представляют Сибирь землею бесплодною, покрытою ледяною корою большую часть года и бедною произрастениями. Сибирь по обширности своей имеет разные климаты. Области Якутская, Охотская и Камчатка находятся в суровом климате и мало способны к возделыванию земли, что зависит частию от климата, частию от местоположения и привычек жителей. Зато все места Сибири, неспособные к земледелию и произрастанию огородных овощей, изобилуют рыбой, дичиной, лесами, наполнены зверем, доставляющим жителям пищу и одежду.
Благодетельная природа заменяет одно другим. Люди привыкают ко всякому климату и приживаются до того, что, имея возможность жить в местах более плодородных и обильных, тоскуют о своих лесах, припоминая с наслаждением время рыбной ловли и трудной охоты. Стало быть, не совсем дурно, например, в Камчатке, когда туземцы ее с восторгом рассказывали мне о горящих сопках ее, при свете которых можно читать ночью книгу и к которым так привыкли они, что спокойные духом, когда горит сопка, они заменяют ею барометр и делают по ней свои наблюдения о погоде. Горы, покрытые лесами, источники целебных вод, долины, украшенные густою зеленью, все возбуждает желание, хотя не жить, но взглянуть на дикую природу Камчатки и красоты ее. Я не бывала в тамошних местах, но многое слыхала от людей, проведших жизнь свою в Камчатке, Охотске и Якутске. Климат самый умеренный в Сибири в Томской губернии и в южных частях Енисейской, Тобольской и Иркутской. И тут возьмите, например, Тобольскую губернию – Тюмень, где в цветущем состоянии земледелие, обилие огородных овощей, обширное скотоводство и растут дикие вишни, и Березов – дикая пустыня. Потому видно, как трудно писать вообще о Сибири; каждая из сибирских губерний представляет разницу в произведениях, климате, жителях, их образе жизни. Я жила собственно в Иркутске и хорошо знаю места, составляющие его округ, а потому могу верно говорить о том, что сама видела и наблюдала в продолжение 26-летнего моего жительства. Зима становится в Иркутске обыкновенно около половины или в конце ноября. При мне самая ранняя зима была в 1802 году. Зимний путь установился с половины октября. Зима иркутская обыкновенно бывает постоянна. Не помню, чтобы бывали оттепели или шел дождь зимою, но почитается оттепелью, когда мороз простирается от 5 до 10 градусов. В феврале начинают портиться зимние дороги, но в поле дорога бывает еще хороша. В конце февраля и начале марта отправляют из Иркутска последние обозы с товарами, которые, дойдя до Томска или до Тюмени, отправляются уже на колесах, куда назначены: в Москву или на Нижегородскую ярмарку. В марте снег сходит, а на пасхе, которая, как известно, не бывает ранее 24 марта, все уже ездят в Иркутск в летних экипажах. Временами перепадает еще снег, но так бывает и в южных губерниях России. В апреле наступают ясные и теплые дни, но все еще не весна; ночи холодны, и зелень только что начинает показываться. И вот прилетают плишки, стрижи и ласточки: в мае все уже зеленеет, цветут цветы в поле, и жители садят овощи, но огурцы сажают они в гряды в конце мая. Рассаду, огуречную, капустную, табачную и тыквы сеют в начале мая в теплые грядки, обитые досками и приготовленные, как парники, ибо сверху покрывают их досками, и в конце мая высаживают посаженное в них в гряды. Дыни и арбузы растут только в парниках. Фруктовых деревьев вовсе нет в Иркутске, хотя и делали попытки их разводить. Главные препятствия – холодные ночи и утренние морозы, или инеи, которые продолжаются до половины, а иногда до конца мая. Сенокосы начинаются в начале июля; огурцы поспевают в июле, и их бывает довольно. Жатва хлеба начинается с половины августа. Время в июне, июле, августе по большей части прекрасное и дни жарки, но в августе, с 20-го числа, начинаются уже утренники, хотя дни все еще теплы. Осень сухая и ясная продолжается постоянно до конца сентября, а иногда даже весь октябрь. Самый ранний дождь, какой я помню, был первого числа марта, и то случилось один раз в 26 лет. Реки становятся в ноябре, кроме Ангары, которая, как и озеро Байкал, замерзает в декабре и почти в одно время с Байкалом. Рекостав Ангары представляет разницу от других рек тем, что разлив ее бывает при замерзании, а не при вскрытии. Сначала начинает идти по реке лед, который называют в Иркутске шугою; если стоят морозы, то наводнение бывает небольшое и вода не поднимается выше берегов, но в теплую погоду, т. е. когда морозы не свыше 10° вода выходит из берегов, заливается в улицы города, и силою воды огромные льдины выворачиваются на берег. Два раза в 50 лет были даже от Ангары большие наводнения. Жители, имеющие дома на берегу реки, особливо у кого жилье низко, должны были выбираться из домов; по улицам плавали в лодках; вода доходила до Гостиного двора, выстроенного почти в средине города. Но только река остановилась, вода начала сбывать, оставляя по берегам огромные глыбы льду. Во время рекостава в колодцах вода поднимается и из земли поступает в погреба, особенно в домах близ реки. Ангара становится всегда неровно; льдины, извороченные по всей реке, представляют зрелище, подобное Швейцарскому леднику. Такие льдины называются в Сибири торосьями. Есть замечание в народе, что если много торосьев на реке, то будет хороший урожай хлеба. Проезжая зимою из Кяхты в Иркутск, я видела, что реки Селенга, Уда и озеро Байкал были покрыты такими торосьями. Еще есть замечание у старожилов, что снег, которым иногда зимою кажется опушены деревья, и что в Сибири называют кухтою, обещает плодородный год, если бывает велик. Грозы в Иркутске сильные и более случаются в конце июня и в июле; иногда убивает громом людей и зажигает строения. Лет шестьдесят, или около того, сгорел в Иркутске Гостиный двор, который был деревянный. После пожара выстроили его каменный и против него другой, также каменный, только меньше, который называют Мещанским. Сильных и крупных градов в Иркутске не знают; самый крупный, который мне случалось видать, был величиною в кедровый орех. Вихри бывают почти каждое лето; так называют в Сибири ветер, который, вдруг появляясь, вертится кругом, поднимая сор и щепы на улицах, срывает шляпы с прохожих, и когда человек попадает в такой воздушный тифон, то с трудом из него освобождается, хотя он и не причиняет вреда. Есть, однако ж, басни в народе, будто иногда таким вихрем уносило детей, но при мне никогда такой диковинки не случалось.
Во время моего жительства в Иркутске каждую весну горели леса. Такие лесные пожары могут быть только в Сибири, ибо около Иркутска, верстах в 10 и 15, растут огромные леса. Причины лесных пожаров суть дровосеки и люди, которые рубят лес, жгут уголь и известь; разводят огонь, не берут при том предосторожностей и оставляют уголья и головни непотушенными. Раздуваемые ветром остатки огня зажигают сухую траву; огонь добирается до леса и производит пожар, который продолжается иногда несколько дней, и лес выгорает на обширное пространство. В городе слышен тогда запах дыма и виден огонь. Особенно ночью зрелище великолепно и ужасно. Иркутск окружен горами, покрытыми лесом; огонь, пробираясь по вершинам деревьев, то разливается огненною рекою, то взвивается летучим, огненным змием. Народ привык к такому зрелищу и говорит спокойно: «Палы ходят!» (Палами называют в Сибири лесные пожары.) Несчастий никаких не случается; нет примера, чтобы выгорело при том какое селение. Вообще в деревнях Сибири бывает гораздо менее пожаров, нежели в России. Кровли деревенских домов покрыты тесом и по бедности разве Дранью (так называют тонкие доски): соломенные кровли вовсе не известны в Сибири, и народ по изобилию леса не имеет в них нужды.
В 1811 году около Иркутска горели тундры (так называют там сырое место, заросшее множеством кореньев; еще называют такие места зыбь, или трясина; вероятно, в таких местах бывали прежде болота, но воды в них уже нет, и остается только сырость). Лето было необыкновенно жаркое, что и сделалось причиною возгорания. От таяния тундр воздух был наполнен влажным паром, смешанным с дымом; солнце казалось красным и было как будто подернуто покрывалом. Необыкновенная перемена атмосферы не имела, однако ж, влияния на здоровье жителей, и не было никаких при том особенных повальных болезней.
В том же году, с весны до осени, была видна комета, небесная гостья, предшественница незабвенного 1812 года и великого испытания России, бедствия, возродившего Отечество наше к новому величию, славе и спасению Европы. Народ толковал о чудном явлении. Помню, когда однажды вечером, собравшись на галерее у дома, смотрели мы на комету, величественно простиравшую блестящий свой хвост на север. Мы как будто сдружились тогда с ее явлением; каждый вечер смотрим, бывало, и ждем, будто Луны, явления кометы. Так сдружился потом народ русский сердцем и духом на защиту Отечества.
Вообще можно сказать, что климат в Иркутске здоров. Повальных болезней бывает мало. Желательно и полезно было бы наблюдать, какие именно где бывают повальные болезни. Может быть, и есть подобные записки в журналах и наблюдениях медицинских, но мне не случалось, однако ж, ничего читать о наблюдениях над болезнями в Иркутске и округе его. Не смея взять на себя важных и ученых исследований, упомяну просто, какие болезни повальные замечала в Иркутске в продолжение 26 лет. Я была еще очень мала, когда явилась там так называемая сибирская язва, но от нее умерло токмо несколько человек. Не знаю, свирепствовала ли сия болезнь где-нибудь кроме Иркутска, а сущность ее была следующая: вдруг появлялось на теле небольшое пятно, подобное украшению насекомого, начинало чернеть и увеличиваться, делался жар, и человек умирал. Болезнь приписывали тогда уязвлению вредных мошек; по крайней мере, так говорили в народе, но сколько мне известно, ни прежде и после сей болезни не было. Лечение потребляли против нее следующее: вокруг пятна накалывали острою иглою и примачивали крепким отваром листового табаку; в домах велено было разводить так называемый деревянный огонь (который достают трением двух кусков сухого дерева). Его зажигали в ямах, выкопанных во дворах, подкладывали сухих щеп и заваливали навозом. Помню, что у нас во дворе была такая яма с деревянным огнем, который тщательно сберегали, но вообще бедствие наделало более шума, нежели вреда, и смертью нескольких человек все прекратилось. Думаю, что и теперь еще старушки в Иркутске твердят о страшной моровой язве, хотя жертвой ее было не более 10 человек. Бог знает, что это такое было, но при том не учредили карантинов, не брали и других предосторожностей, и все ограничивалось накалыванием иглою и примачиванием настоя табаку.
Коклюш, бывший в 1807 и 1808 годах, гораздо более причинил смертности. Умирали более дети от 1 года до 7 лет. Редки были примеры смерти людей более совершенного возраста и еще меньше умирало от коклюша совершенно взрослых.
Болезнь, от которой много умирает в Иркутске детей, понос, и он случается каждую весну. Полагаю, можно объяснить появление его тем, что детей кормят коровьим молоком весною, когда коров начинают выгонять в поле и они питаются новою зеленью. Перемена пищи, вероятно, имеет вредное действие на детей. Но иногда бывает в Иркутске и повальный кровавый понос. Он свирепствовал в 1807 и 1816 годах. Умирали более дети, а старые и совершенных лет люди выздоравливали.
Нарывы в горле, или жабу, можно причислить к болезням эпидемическим в Иркутске. Она более бывает периодами. Помню, что она была при мне раза два, но от нее более страдали и умирали дети.
Другие болезни встречаются, как и везде, но гораздо слабее, нежели в других климатах. В мое время в Иркутске не были известны ни скарлатина, ни круп. Холера не была в Сибири. Корь и оспа суть болезни, сделавшиеся общими повсюду, но оспа и ныне еще болезнь в Сибири жестокая, потому более, что не выводится предрассудок, по которому простой народ неохотно прививает оспу детям, несмотря на приказания правительства. Напротив, буряты и якуты сами просят, чтобы прививали детям их оспу. Доктора объезжают их улусы. До прививания оспы она была бич истребительный для полудиких кочующих народов. Буряты и якуты, когда появлялась между ними оспа, оставляли больных и уходили от них в другие места кочевать. Ныне не слышно, чтобы между русскими умирали от оспы. Чахоткой умирают в Иркутске менее чем в других местах. Водяная болезнь также очень редка. Народ вообще в Иркутске здоров и долговечен, и более можно там встретить людей, доживших до 70–80-летнего возраста, нежели в других местах.
Прежде часто бывал в Иркутске падеж рогатого скота, но ныне он случается гораздо реже.
Предоставляя ученым исследование причин землетрясений, бывающих нередко в Иркутске, опишу четыре из них, довольно сильных, которые были чувствуемы в продолжение 25 лет, кроме многих небольших. Первое было в 1804 году. Пасха была тогда в апреле. Обыкновенно перед праздником, особенно где хозяйки – большие хлопотуши, в Иркутске не только все в доме моют и чистят, но прежде мывали даже и домы снаружи. За тридцать пять лет мало было там домов, обитых тесом, и ни одного выкрашенного дома; то и другое заменяли чистота и опрятность, которые и доходили почти до излишества. Все было приготовлено для великого праздника: испечены куличи, сделаны сыры, выкрашены красные и пестрые яйцы, приготовлены пирожные и сахарники. Собирались идти к Христовой заутрене: мы вынули платья и приготовили восковые свечи. Многие не спят всю ночь на Светлое Воскресенье, но я так утомилась домашними приготовлениями и была еще так молода (мне было тогда 14 лет), что попросила разбудить меня, когда услышат первый звон, и легла, надеясь заснуть. Свечу я погасила, но едва успела лечь, как услышала шум, подобный порывам ветра. Вслед за тем кровать моя начала качаться; посуда в шкафе зазвенела, и хотя не было огня в комнате, но слышно было, что вся мебель двигается. Как ни было необычайно для меня такое явление, но я тотчас догадалась, что, должно быть, землетрясение. Оно продолжалось около двух минут, но я не успела еще опомниться, как уже все утихло. Не знаю, что было причиною: моя ли неопытность и молодость или утомление, но я не очень испугалась, хотя и знала очень хорошо об ужасных землетрясениях, разрушавших Лиссабон, Лиму и другие города, но я опять легла и спокойно заснула. Не прошло часа, как пришли будить меня к заутрене. На другой только день узнала я, что было довольно сильное землетрясение, чувствованное во всем городе, но никто из жителей не потерпел и только упал крест с одной церкви.
Второе землетрясение было в 1806 году, также в апреле и почти в тех же числах. В 9 часов вечера, не знаю почему, я легла в постель; из домашних моих никто еще не спал, хотя мы тогда, по-старинному, ложились спать рано. Вдруг дом в основании начал колебаться, и как он был деревянный, то заскрипели перегородки; лампады у образов качались, и все навело на меня неописанный ужас; притом это второе землетрясение было сильнее первого и долее продолжалось; я вскочила и побежала вон из комнаты, но меня не пустили. Я хотела бежать не без размышления, ибо мне тотчас представилось, что дом может разрушиться и улица гораздо безопаснее. Не прошло часа, когда последовал второй удар, но слабее первого. В три часа ночи был третий, только еще слабее двух первых, но однако же все мы не спали почти всю ночь. Я была замужем; отец мой жил тогда за городом, на заимке своей; я поехала на другой день узнать о здоровье родных. Мне рассказывала мать моя подробности землетрясения; они сидели за ужином и вдруг почувствовали сперва дрожание и будто шум ветра, а потом колебание, которое постепенно усиливалось так, что наконец все затрещало; мебели, посуда стучали и падали. Дом, где жил отец мой, был деревянный, двухэтажный. Первым делом его с семейством было бежать и потом перейти в отдельное, низкое строение, где жили служители. Там они ночевали. Еще днем моя мать заметила, и ей странно казалось, что собака, которая обыкновенно ходила в кухню, спряталась там под лавку, и сколько ее ни выгоняли, она приходила и пряталась снова. Во время самого землетрясения коровы жалобно мычали, петухи громко пели, собаки выли; на дворе слышен был серный запах, и все вместе наводило невольный ужас. Это землетрясение навело на меня боязнь и сделало столь сильное впечатление, что оно и потом никогда не проходило. Братья мои так были напуганы, что с наступлением вечера не отходили от матери, и каждый стук приводил их в трепет, пока не прошло впечатление, как известно, в детстве всегда легкое и мимолетное.
Третье землетрясение было в 1814 году 22 августа в 6 часов пополудни. Справедливо говорят, что если быть в поле или ехать, то надобно землетрясению быть очень сильному, чтобы почувствовать его. Так случилось и со мною. Мы были за городом, верст за 20, в лесу, и я слышала и заметила только необыкновенный шум, подобный сильным порывам ветра, но ветра ни малейшего не было; странное явление это было для нас непостижимо, и мы тогда только узнали о землетрясении, когда возвратились в город; потому я знаю это землетрясение только по рассказам, но должно полагать, что оно было весьма сильно, потому что в нескольких домах в городе развалились трубы.
Четвертое землетрясение было, помнится, в 1818 году, зимою, часов в 10 вечера. Нас несколько человек стояли в комнате, когда вдруг услышали мы необыкновенный шум, который обыкновенно предшествует землетрясению: кольцо у ворот застучало (прежде во всяком доме, кроме больших ворот, всегда запертых на ночь засовом, к которому прибивался пробой и замыкался замком, была еще калитка; тут снаружи прибивали железную бляху и кольцо, а внутри защелку, к ней привязывали узенький ремень; иногда, чтобы избавиться хлопот отворять приходящим, продергивали ремень на улицу, и всякий, кто приходил, мог сам отворить калитку, но когда ремень вдергивался внутрь, то входящий стучал кольцом. Наши предки запирали крепко ворота, хотя сердца их не были заперты). Дом начал колебаться; мы все молча стояли, смотрели друг на друга и не могли говорить от изумления; через минуту все кончилось. В 1820 году я выехала из Сибири и не знаю, после меня бывали ли сильные землетрясения или нет. Кажется, писали о большом землетрясении в 1837 году. В России землетрясения редки, и многие знают их только по слуху. Из четырех, описанных мною, два были в апреле, одно в августе, одно зимою. Дни пред землетрясением каждый раз стояли ясные, и всегда перед ударом был слышен шум, который не был свистом ветра и не походил на шум воды, но в нем как будто все слышалось и сливалось вместе. Полагают, что озеро Байкальское–провал, последовавший от землетрясения. Положение его, действительно, показывает сильный переворот стихий. Горы, стоящие около него во многих местах стеной, как будто раздвинуты насильно. Многие, переплывая Байкал днем, в ясную погоду, видят в нем остатки деревьев в глубине и замечают неровности дна.
Я была свидетельницей еще одного необыкновенного явления природы. В 1806 году, в праздник Илии пророка, был ясный, жаркий день, но часа в два пополудни начали собираться тучи со всех сторон; они быстро сходились вместе; загремел гром, засверкала молния, полился дождь с градом, и тучи, сгоняемые ветром, образовали как будто решето, сквозь которое хляби небесные разверзлись в смятение стихий, и проливной дождь при неумолкающем громе заставлял многих думать, что будет потоп, но понемногу начало стихать и к вечеру было уже все тихо. Буря имела гибельные следствия, и много погибло тогда народу вот по какому случаю: день был, как я сказала, ясный и праздничный, Иркутск окружен лесами; все ходят и ездят в них рубить дрова, вязать веники для бань, собирать растения, грибы, ягоды и так привыкли к тому, что ходят в лес за грибами и ягодами за 15 и 20 верст от города и в тот же день возвращаются домой. Так случилось и в этот грозный день. Многие пошли за грибами и ягодами в разные стороны. Когда началась буря, близко не было селений и мест, где укрыться; дождь промочил странников насквозь; желая скорее добраться домой, несчастные бежали в мокрых платьях, выбивались из сил, падали и умирали, под громом, в дичи леса, на потоках воды, стремящейся повсюду ручьями. Из умерших более было старых людей или несовершенного возраста: лет от 12 до 15. Я слышала о тех, которые были тогда в лесу свидетелями смерти товарищей, что погибавшие в немом оцепенении, особенно девочки и люди старые, выбившись из сил, садились под дерево, и сначала делалась у них лихорадочная дрожь, потом клонил их сон, и они засыпали наконец в бесчувствии навеки. Не знаю, верен ли счет, но говорили, что погибших несчастных было около 40 человек. Не знаю также, было ли где о том писано, но в Иркутске живы еще многие самовидцы, которые помнят описанное мною событие и подтвердят мой рассказ.