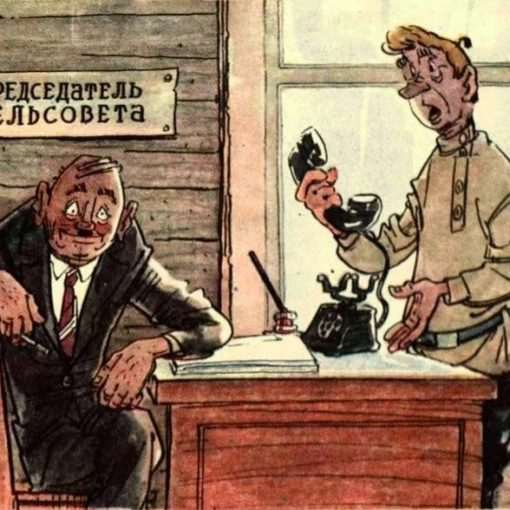Валерий Михайловский
Деревенька, притулившаяся к самому лесу, захирела. Все, кто мог, уехали в город. Остались одни калеки да немощные старики свой век доживать, кому какой даден. Не умирать же где-нибудь на чужой стороне. Дома-то и смерть не так страшна. А то, что старуха с косой уже недалече, сомневаться не приходится: сколь народу перемерло…
Только вот Никифора Панкратовича все чаще и чаще тревожит другое. «Чему бывать, того не миновать, — думал частенько старик, — не страшно помирать, пожил своё, только вот конфуз какой может случиться: а вдруг не найдут скоро, что помер, да проваляюсь в избе… Кому охота потом с тухлятиной возится…»
А старик он был шибко чистоплотный — всё в доме его руку знает, всему своё место имеется. Каждую субботу банный день, уборка в избе, как говорится, генеральная. Как еще старуха завела такой порядок, так его хозяин и блюдет неизменно.
Сын Никифора Панкратовича на Севере основался, видимо, надолго. Сам ведь надоумил сына вернуться сызнова на тот Север после временного передыху, когда там незаладилось, но теперь все выправилось. Оставил отцу сотовый телефон — «мобилу», научил старика премудростям новой техники и укатил на Севера. Теперь вспоминать даже неловко, как путал кнопки на новеньком телефоне, психовал от собственной неуклюжести.
Рядом в соседях один на всю деревню мужик молодой живет, Андрюхой кличут его старики. Бобылем всю жизнь проваландался, согнулся скобой и в свои сорок пять сравнялся по житейским понятиям с престарелыми жителями села. Сам ни пенсии, ни других доходов не имеет, потому живёт тем, что подадут старики немощные в обмен на какую-нибудь услугу: кому дрова наколоть, кому снег почистить в ограде, а кому в магазин в соседнюю деревню сбегать. Да мало ли, каких дел наберется.
— Помирать буду, Андрюха, — глухо говорит Никифор Панкратович, забредшему вечером на огонек соседу, — по всему видать, что смертушка уже рядом.
— Что же вы помирать-то засобирались все враз?
— А кто ишшо?, — навострил уши старик.
— Тетка Матрена намедни собралась. Говорит, слышала, как старая вжикат.
— Чё вжикат? – насторожился Никифор Панкратович. Он тоже слышал вроде…
— Чё, чё… Говорит, старая косу точит…
— И мне вжикала… Сижу на лавочке… вот, как первой-то денек теплый пожаловал. А она – вжик, вжик… Точит косу-то. Да видно не на одного меня. Так-то, соседушко…
— Когда это тебе приблазнилось, дядь Никифор? — спросил Андрюха, наморщив лоб, словно соображать начал, что редко за ним водилось.
— В среду, кажись, — старик почесал лысину.
— И Матрёна в среду слыхала. Понятно… Я же в среду дрова пилил старику Мокееву. Они мороженные, окаянные — под снегом у него всю зиму пролежали. Вот пила и звенит на всю округу, как по железу шоркашь – вжик, вжик…
— Не-е-ет, — протянул старик, — ты меня, соседушко, не утешай. То старуха- смерть вжикала. Так что, Андрюха! Захаживал бы ко мне кажон день — вдруг окочурюсь, хоть сыну позвонишь по «мобиле», — стрик протянул телефон соседу.
— И не проси, не умею я. У меня отродясь никакой техники не бывало, окромя телевизора черно-белого… Нет, нет, и не проси. Телеграмму, если чего, отошлю… Захаживать буду — и мне буде веселей, а то иногда така тоска навалится, что хоть в петлю. И если чё, не дай Бог — похороним. Две могилки-то с осени, как ты велел, я выкопал.
— Это хорошо, а то зимой кто ковырять землю мороженную будет… Так вот, если умру, нажмешь на эту вот кнопку, потом наберешь номер… здесь записано, потом отключишь вот этой кнопкой. Понял? – посмотрел поверх очков старик на Андрюху и сунул ему телефон.
Лицо Андрюхи, всегда небритое, напружинилось, пробил пот такой, что не каждый раз после тяжкой работы случается. Он смахнул ладонью пот с рыжеватой пакли, взял телефон в шершавую ладонь, тыкнул дубовым своим пальцем. Бросил «мобилу» на стол, словно слизь противную стряхнул.
— Не проси, не слажу я с ентой техникой…, — выдавил Андрюха и поспешил к выходу.
Спать стал Андрюха после таких разговоров неспокойно, снились какие-то покойники незнакомые. Ходят-бродят они с закрытыми глазами по деревне, а будто по-зрячему, потому как безошибочно преследуют Андрюху: и дом открывают, и о порог не спотыкаются, и никуда от них не денешься. Утром проснулся в холодном поту. Вроде не догнал ни один, но жуткое ощущение от такой погони еще долго не отпускает его.
Никифору Панкратовичу часто снился луг зелёный. Он молодой косит сочную траву. В тени черемушного куста спит сынок-дошкольник. Жена молодая, полногрудая да крутобёдрая готовит обед. А он после каждой проходки берет в руки свежескошенную траву, протирает косу, вытаскивает из-за голенища оселок и — вжик, вжик.
Проснулся старик, в свое привычное время, но вставать с постели не спешил.
Андрюха тихо постучал в соседскую дверь, никто сразу не открыл. Налег на ручку – подалась дверь, скрипнула. Неуверенно переставил ногу через порог, сердце дернулось противно, охололо за грудиной до дурноты. Вдруг помер?
— Кого там несет в таку рань? – услышал сонный голос Андрюха, и его заколотило.
Потом отлегло. Несмело шагнул в избу.
— Фу ты, — как-то неловко стало, — потер Андрюха грудину, присел на стул.
— Чай будешь? – спросил старик бодро и прошлепал в исподнем через горницу.
— Давай, — глухо отозвался сосед.
— Сможешь позвонить-то? – посмотрел в упор старик на своего соседа.
— Не знаю.
— На – пробуй.
Андрюха нехотя взял мобильный телефон своей шершавой мозолистой рукой. Все кнопки смешались в глазах, и он ткнул какую-нибудь.
— Не эту. Вот кнопка, видишь, трубка нарисована. Потом номер – смотри… Потом вот эту кнопочку, отключить. Ничего сложного…
Покатился пот по окрасившимся румянцем щекам, прилипла рубаха к телу. Даже щетина запылала. Он снова грубо ткнул. Появился гудок, но в наборе сделал ошибку, отключить телефон у Андрюхи не получалось, и он поспешил удалиться, чтоб не терпеть такие мучения.
— Луче куб дров наколоть!, — махнул с досады рукой.
Наутро он уже привычно, но все же робко постучал. Опять его затрясло, как малярийного от тишины гробовой. Вдруг подкинуло от неожиданно скрипнувшей двери, а потом уже от голоса старика, долетевшего где-то из темноты.
Старик распахнул плотные шторы на окне, потянулся.
«Живой» — почему-то подумал Андрюха.
За чаем, старик снова завел разговор:
— Я не просто так тебя прошу, сам знашь…
— Чё я знать должон?
— Ну, что умру…, — и Никифор Панкратович громко потянул чай-кипяток, — ну… скоро умру…, — добавил он, крякнувши от удовольствия.
Андрюха замолчал, покосившись на разрумянившегося соседа. Никифор Панкратович сунул ненавистный телефон:
— Учись.
Скользким обмылком юркнул телефон в руку сконфуженному Андрюхе. Оказалось, что наука не пошла впрок, и он снова допустил досадную ошибку.
Так прошла неделя, другая. По утрам соседи пили чай, как обычно. Андрюха сначала вздрагивал от скрипа двери в тишине, потом вдругорядь от голоса все еще не умершего соседа, потел, чуть не теряя сознание, проходя курс ликбеза. Иногда старик терял самообладание, и Андрюхе приходилось выслушивать нелестные тирады вроде того, что вот я старик и то освоил, а ты молодой, и никак… Андрюха всеми фибрами ненавидел эту, сразу становившуюся скользкой «мобилу». Потом старик заговаривал о своей скорой смерти, возможно завтра. И так каждый день…
Март теплыми днями потянулся по деревне, закапало с крыш. Андрюхе досталось немного работы: кому сгрести с крыши снег, кому картошку достать из подпола, кому еще какую работёнку; досталось и платы, тоже маленько. Ему-то много и не нужно. Старики выползли из своих нор. Естественно совершенно, что и настроение стариковское, как общественное явление, заметно изменилось в весеннюю сторону.
В очередной раз, зайдя как обычно к Никифору Панкратовичу, Андрюха застал его в совершенно замечательном расположении духа, что напугало его чрезвычайно. Оно и понятно…
Дело в том, что Андрюха очень боялся покойников, хоть похоронил, как он говорил полдеревни.
Случилось однажды то, что изменило его отношение к усопшим. Как-то он присел рядом со старым дедом Игнатом, дремавшим, как показалось тогда Андрюхе, на лавочке. Вдруг дед Игнат повалился на Андрюху. Оказалось, что он мертв. С тех пор покойники стали преследовать Андрюху даже в снах.
Так вот, заходит он в избу Никифора Панкратовича сжатый, словно пружина. Дверь скрипнула, в ответ – молчок, на здравицу тоже ответа не последовало. Зашлось сердце в тревоге жуткой, вспотели ладони; глаза в полутьме стали искать телефон на привычном месте, но там его не оказалось.
— Умер, что ли, дядь Никифор? – задал он глупый вопрос в полутемную тишину.
Сделал осторожно шаг, другой… Подходит он на цыпочках к плотной шторе, затенявшей горницу, отодвигает ее дрожащей рукой, а сосед как гаркнет прямо в ухо: «Да, слушаю, сына, слушаю!».
Оказывается, у окна телефон лучше берет, вот он и встал за шторой. Брякнулся Андрюха без признаков, как говорится, жизни на деревянный пол.
Очухавшись, он пролепетал тихо:
— Ты живой, дядь Никифор?
— Живой! Что со мной станется? Дурацкий, однако, вопрос!
— Так ты же вроде как помирать собирался.
— Помрешь тут, с тобой… — в сердцах бросил старик. — Ты ж «мобилу» так и не освоил, бестолочь! – сердито огрел он обидной фразой еще не окрепшего после обморока Андрюху. Потом растянул рот в улыбку: — Поживем ишшо, соседушко… Весной-то помирать неохота!