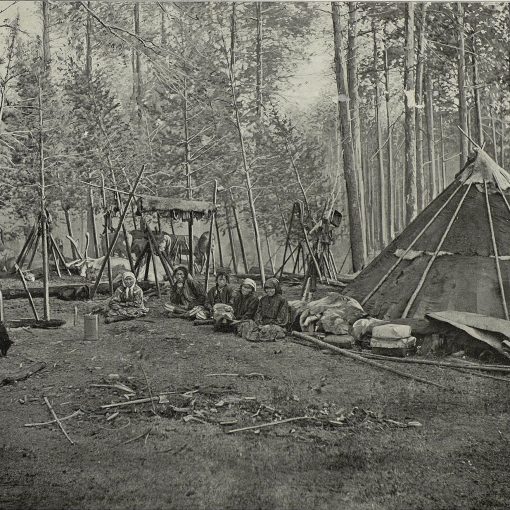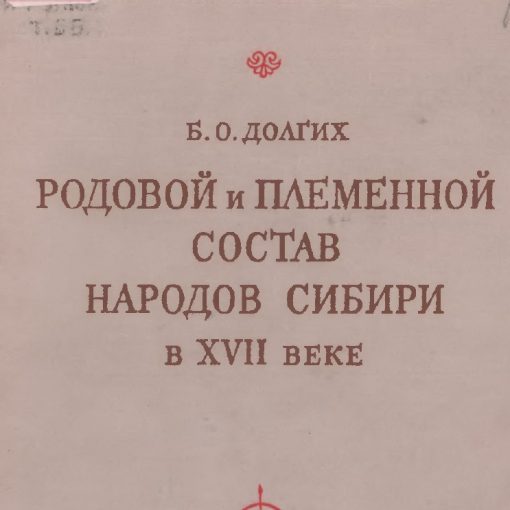Нина Сондыкова
Федор сидел на обледенелом бревне. Внизу, под горой, заснеженная река. А дальше леса, леса… Над всем этим снежным великолепием нереально огромная луна. Федору было холодно, пальцы ног уже пощипывало, но он продолжал сидеть….
— Господи, твоя воля! Эко, куда нас занесло! Наверное, и край света недалеко.
Федор вздохнул и пошевелил ногами. Вот так апрель… Стужа, как в январе. Да, неласкова ты, матушка Сибирь!
Вспомнилось, как на его свадьбе пели «На диком бреге Иртыша, сидел Ермак, объятый думой…» «Вот и накаркали. Сейчас я сижу, объятый думой… На диком бреге Иртыша…», — с сарказмом подумал он про себя.
Посмотрел на луну. Давно еще, в церковно-приходской школе, Батюшка рассказывал детям притчу про Каина и Авеля. Вон Авель лежит, а Каин стоит над его телом. Сейчас Федор хорошо разглядел. Когда это было. А ведь и Каин убил Авеля из зависти. Брата убил, и Господь его наказал. Неужто наших обидчиков-завистников не накажет! Мысленно он вернулся в свою деревню Пестову. Эх, хоть бы все это скорее закончилось! Какая-то ошибка произошла. Разве можно лишать хлебороба земли, дома, и везти куда — то, где и полей в помине нет! Это же разор государству. Коль земельку-кормилицу хлебороб не вспашет, голод в Расее будет! Это же так ясно! Сейчас самое время на поля навоз возить! Упустим время! Потом не проедешь, лошадь тонуть будет, да и поля испортишь, земельку… Карьку бы не испортили: жеребая кобыла. В конце апреля ожеребиться должна… В прошлом году хлеба хорошие были. Сусеки полнехоньки насыпали, продразверстку выполнили, себе муки намололи, и на семена осталось. Перед самой отправкой (еще тогда ничего не знали) провеяли все зерно.
От воспоминаний стало еще тошнее. Вспомнилось, как Кондрат с Меланией — самая деревенская неработь — пришли с комитетчиками выселять их. Елена только отстряпалась. Разгоряченная, румяная, пригласила их за стол, думала: зашли по — соседски. А оно вот как обернулось! Мелания сразу к сундуку, да ну Еленины юбки да жакетки на себя натягивать! Задница, что бочка, а туда же… Стала юбку кашемировую натягивать, а та возьми и лопни! Заплакала Елена — это ее любимая юбка была. А до того стояла, как вкопанная. Растерялась бабенка, не могла в такое поверить, хоть слухи и ходили: один другого страшнее… А в юбке той она только по праздникам в церковь ходила… Тьфу ты! Что это я про юбку вспомнил! Всего, всего в одночасье лишились! Взять разрешили только то, что в дороге понадобится. Хорошо, что был запас крупы да муки дома. Да что впопыхах возьмешь? Так уж, что под руку попало… Елена ребятишек собрала, им одежонки прихватила, свои две шаленки, да пару юбок… Еще самовар взяли, да его, Федора, не одеваные сапоги….
Подвод – видимо-невидимо! Рев стоял по деревне! Родные провожали своих в неизвестность, в страшную и неведомую Сибирь.
Только комитетчики да голытьба радовались: победили мироедов! Митька-комитетчик, в рваном треухе и какой-то бабьей жакетке, стоя на дровнях, хриплым голосом кричал:
— Наша первая задача: уничтожить кулаков как класс! С мироедами и их пособниками Советская власть не будет валандаться! Кого в Сибирь, кого — к стенке!
Его никто не слушал…
Сосед Федора Иван Чанов громко выматерился и плюнул в сторону Митьки:
— Тебя, сука, к стенке бы… Добрых хозяев в Сибирь, а кто тебе пахать будет? Еремей, што ли?
Безрукий инвалид Еремей только потряс пустыми рукавами и ничего не сказал… Митька, конечно, не слыхал этих слов, а то Чанову бы несдобровать!
Наверно, Господь за грехи такое допустил. Молились мало. Все грамотны стали. Кто сейчас пахать поля будет? Зарастут ведь. В прошлом году еще новины припахали. С Мишкой, сыном, все руки вывертели: на три раза вспахали, да картошки насадили. Ох, и картошечка уродилась! Крупная, вкусная! Такое поле…
Пригласили Меланию с Кондратом помочь выкопать картошку. Своей-то у них отродясь не водилось. Они любили к Федору в помочь идти. И картошки заработают, и досыта наедятся… Елена варит вкусно, мяса и прочей снеди не жалела. С одного стола питались! Еще всегда с собой пирогов да шанег завернет. Кондрат с Меланьей оба недомовитые. Весной, только солнышко встало, все добрые хозяева на поля едут. А Кондрат с Меланией на завалинке семечки лузгают. Маланья в грязной юбке и рваном фартуке, Кондрат — в сапогах, подаренных Федором….
— Что, Федор, на поля поехали? На дальние? Че сеять там будете? А мы завтрева поедем. Седне тучки собираются….
Так до вечера сидят, людям косточки перемалывают. Вечером всех снова окликнут, спросят, много ли вспахал, засеял. И дома порядка нету, обед, и тот не сготовят… Одно слово — неработь! Лет десять назад помогали они с жатвой Федору. Елена на сносях была Гринькой. Месяц ездили с Кондратом на поля. Так каждое утро он будил их… За работу решили Федор с Еленой дать телушку. Славная такая телочка… Думали: вырастят, выкормят — вот и свое молочко будет. Только Кондрат с Меланией думали иначе. Не дожидаясь холодов, зарезали ее на мясо… А осень стояла теплая. Часть мяса испортилась, а часть-все таки съели… А зимой опять в работники пошли: есть то нечего дома… И вот такие люди станут хозяевами земли, которую Федор с семьей поливали потом, каждую кочку на своем поле знали… Ой, муторно, тошно ему… Вот совсем уж закоченел, а ноги не идут туда, где Елена с ребятишками. Домом назвать — язык не повернется…
Долго ехали они обозом. Снег, снег, бело. Слепко глазам. Вот какая она — эта самая Сибирь!
Проезжали какие-то городишки, по крыши засыпанные снегом, деревни-с бревенчатыми заплотами, крепкими избами. Волков было много. Те часто шли за обозами. Ждали мертвечинки. Всяко приходилось: и в поле у костров ночевали, и в церкви, и в крестьянских избах… Сколько за эту страшную дорогу видел он смертей. Тяжелее всего было старикам и малышам. Матери, как могли, закутывали малышей. Но зима, холод… Он никого не щадит. Смотришь, утром кормила баба ребенка, а к обеду — замерз уж насмерть. И хоронить не давали. Просто выкладывали покойника на снег, и все… Вот и приманивали волков. Завоют волки — у самого смелого мужика волосы шевелятся… Бабы скрывали, что ребенок умер, чтобы доехать до какой-нибудь деревни и там по-христиански похоронить, а не на корм зверью отдать. Попросят местных, что-нибудь из одежды дадут. А уж похоронят те, или нет — как его совесть позволит. И стариков тоже много умерло. Особенно старух. Федор думает: эти — больше от горя…
Хорошо, что у них с Еленой мальчишки большенькие. Гриньке — десять, а Мишке — четырнадцать. Всю дорогу рядом с матерью шли. Идти трудно, зато не замерзнешь. Наконец-то, дошли до Демьянска. Село на Иртыше. Большое… Крепко, видать, живут здесь хозяева. Обрадовались было: ну, и мы здесь как-нибудь обживемся… Оказалось — нет. Здесь остановились: пароход ждать. Весной по воде дальше повезут!.. Куда? Никто не знал, да и кто будет говорить что-то людям, которых гонят, как скот… Пришлось самому искать жилье. Федору повезло. Пустили их пожить в холодной избе, так здесь называли летнюю избу. Поставили железную печурку, разрешили дровами пользоваться. Взяли за это новые сапоги Федора да Еленину китайскую шаль. Хоть и жаль было вещей, особенно шаль…
Когда- то, еще Гриньки не было, один дружок поехал на Ленские прииски, позвал Федора. Федор подумал-подумал, решил: была не была! Вот и поехали…Соплей много намотали, а золота не намыли…
Вернулись домой худые, обовшивевшие… Только люди все равно считали: у хлеба — да без хлеба? Не может быть! Привезли мол , золотишка… Привезли… Иначе, зачем ездили?
Иногда к ним стали заезжать знакомые китайцы. Переночевать. Привозили разные необычные товары. На ярмарку в Ирбит ездили… Однажды знакомый китаец привез на продажу шелковую шаль, расписанную веселыми драконами и невиданными яркими цветами… Как увидела Елена такую красоту, обмерла. Стоит и молчит. Федор любил Елену. Красавица, рукодельница. И характером — безответная. Только никогда в этом не признавался, сурово с ней обходился, вспоминая наказ своего отца. Тот часто говорил:
— Бабу хвалить — только портить. Забалуется…
А тут понял: надо купить бабе шаль! Иначе сам себе не простит! Поторговался с китайцем. Тот хорошо уступил. С какой благодарностью Елена смотрела на Федора! Радовалась, как Гринька деревянной лошадке… Эту шаль она берегла и одевала ее только на Пасху и в Троицу. Да, не пришлось ему пофорсить в новых сапогах, а Елене — в шелковой шали, зато сносное жилье. Два дня прожили хорошо, а потом встретили своих, деревенских, Лукиных. С ними они в деревне почти не общались. А тут… Оказалось, что еще неделю назад арестовали у них сына, а у снохи умер ребенок. И вот она, снова беременная, день и ночь ревет, убивается по мужу, по ребенку, а старики не знают, что делать. На квартиру их никто не пускает. Две ночи в церкви спали. Пришлось потесниться…
Лукины отдали хозяевам какие-то скатерти и зеркало. Те сразу же приколотили зеркало в переднем углу. Пусть глядятся… Продуктов почти не осталось. Жили впроголодь. Ходили они с Мишкой работу искали. Сметали одному татарину сено в сенник, он дал два ведра картошки — не поскупился, басурман. Вот Елена и варит похлебку из картошки, да мучкой заправляет. А у Лукиных и этого нет. Чуть-чуть крупки в мешочке… А вот крупа закончится, что есть будут? Федор продуктами с односельчанами делиться не собирается. Своя семья есть хочет! Мишка у хозяев дрова колет, так ему рыбы, колючих ершей, за это дают! Все приварок! Нет, надо идти. Ноги окончательно замерзли. Валенки стали тонкие, ткни пальцем — прорвутся. Вон, какую дорогу вытерпели! Подшить бы, да чем? Спрошу у хозяев кожинки. Выменяю на что-нибудь. Ребятишкам тоже подшить надо. Скоро таять начнет, а у нас ни у кого и сапог нет. У Елены только полусапожки… Когда собирались в дорогу, не думали, что она такой длинной окажется! Для некоторых – длиной в жизнь…
У ворот приметил хозяйского парнишку.
— Отец дома?
— Тятя чай пьет.
Федор не стал заходить. Пусть напьется, потом зайду, спрошу. А то подумает, что жрать нечего, вот и пришел к ужину. Все его нутро сопротивлялось унижению, несправедливости.
Елена затеяла какую-то постирушку. В избе было влажно и жарко. Кругом висели подштанники и брюки.
— Ты бы хоть на мороз вывесила. Может, какая вошь сдохла бы…
— Ну, я бы так и сделала, так парнишки ведь без штанов сидеть не будут. Женихи уж…
— Женихи… Ишь, развалились! Ну-ко, подвиньтесь!
И он, не разуваясь, прилег на топчан, на котором лежали сыновья. Младший, Гриня, в стеганной душегреечке и без штанов, сидел, рисуя углем на небольшой доске.
— Чего рисуешь? — спросил отец, чтобы не молчать.
— Я свой дом рисую. Когда вырасту, я такой же, как у нас в Пестовой, дом построю, а может, еще красившее…
Отец взглянул на рисунок сына. На грязной доске едва угадывались очертания дома. Точь-в-точь такого, какой был у них. И крылечко высокое, и балясины… Тоскует парнишка…
— Хороший дом. Нас с матерью потом не забудь к себе взять…
— Не, тятя, я вас поселю в самую лучшую горницу. Не забуду…
К Федору незаметно подкрался сон. Карька везет полную телегу мешков с зерном, а на возу он, Федор. Веселый-веселый! Вдали мельница… Знакомая дорога. А за телегой — Гринька. Бежит и бежит рядом. Вдруг Гринька как закричит:
— Тятя, тятя, не уезжай!
Вздрогнул Федор и проснулся… Вот сон бы в руку. Снова бы вернуть то время, когда все были при деле, и все счастливы.
— Ладно, к хозяину хочу сходить, для починки валенок какую-нибудь кожу спросить. Посмотри в сундуке, что еще можно сменять? У мальчишек валенки-то тоже прохудились…
Елена сняла с шеи ключик и открыла сундук. Порывшись в нем, вытащила белую нарядную рубаху Федора. В ней он венчался когда-то в церкви.
— Вот зачем ее брала? Лучше бы мальчишкам сапоги взяла…, — проворчал Федор. Но опять же пригодилась. Он затолкал ее за пазуху и пошел к хозяину.
Тот сидел возле печки, покуривая козью ножку. Махорка хорошая, душистая. Федор не курил, но был не против, когда мужики дымили.
— Хрисанфий, я вот что хочу тебя спросить. Нет ли у тебя для починки валенок какой-нибудь сыромятной кожи. Валенки-то напрочь сносились, да и сыро уж днем- то в валенках. Подтаивает…
Хрисанфий молча попыхивал огромной козьей ногой и ничего не отвечал, только подвинул поближе к Федору скамейку, как бы приглашая присесть. Хрисанфий был человек немногословный, такой характер, но не злой. Еще помолчав минуту, он почесал в затылке и сказал:
— Дак че, можно посмотреть в амбаре. Там всякого такого полно… Я завтра утром тебе занесу, че найду, а ты сам выберешь… Как вы? Че говорят, куда вас направят? Ниче не слыхать? Вот горе — то…
Федор не стал надоедать хозяевам и ушел на холодную половину. Елена сварила ершей. Вкусно пахло вареной рыбой. Все хлебали уху из котелка, а Федор налил себе в кружку. Так ели уху в старательской бригаде. Так стал делать и он. Хоть ерши и маленькие, и колючие, обсосали каждую косточку. Гриньке, как младшему, икру подкладывали и отец, и мать. Глядя на них, и старший, Михаил, тоже стал подкладывать икру брату. Хотя ой, как хотелось самому съесть эту маленькую, величиной с мизинчик, вкуснотищу….
— Тятя, нас зовут снова сено метать. Соседи тех татар. Пойдем?
— Коли зовут, пойдем. Все что-нибудь заработаем. Еды у нас совсем мало осталось…
Елена встала с чурки, которая использовалась вместо стула, подошла к Мише и погладила его по голове:
— Кормильцы вы наши… Что бы я без вас делала…
Косточки вынесли Боцману, хозяйской собаке. Запас лучин заканчивался, и все улеглись спать. В уголке, где поселились Лукины, слышны были всхлипыванья.
«Опять сноха причитает. Старики с ней замучились…», — подумал Федор и громко сказал:
— Агафья, хватит! Всем уж твой рев надоел! Дай поспать!
Он знал, что иногда строгость бывает полезней уговоров.
В углу стало тихо. Ну, вот еще один день прошел… Слышно было, как Елена читает тихонько молитву на сон грядущий, как возится, примащиваясь четвертой на узком топчане.
Все затихло. Вот уже полтора месяца здесь. Ни дела, ни работы… А дома бы… Мысли спутались, и Федор провалился в сон, больше напоминающий бред больного.
Утро. Еще темно, а Елена уже возится у печки. За ночь изба остыла. Холод собачий. Хорошо, что мальчишки в серединке между родителями спят. Все спали, не снимая одежды. Гринька, почувствовав, что места стало больше, когда мать встала, свернулся калачиком. Добрый уж больно, весь в Елену. Такого заклюют… Вон, Мишка колючий, как еж. Себя в обиду не даст!
Этот — в меня… Федор с гордостью посматривал на своего старшего сына. «Мой характер, моя кровь…» Любил он его, хоть иногда и доставалось Мишке от отца. И кнутиком однажды стегал, и – ложкой по лбу… Ничего, отцова рука, не бьет, а учит… И нас так учили… Федор тоже встал. Разжег самовар.
Самовар был большой, и вскипал долго. Зато пили чай сколько хотели, и Лукины — тоже…
Настрогал на вечер лучины побольше: вчера не хватило — пришлось рано спать ложиться.
«Дома были керосиновые лампы на высоких ножках, а здесь лучиной освещаемся… Хорошо, что лампы не взяли – где керосин брать? А лучина — вот она… Надо Мишку будить. Собирались сено метать. Чаю попьем и пойдем. Чай, конечно, давно закончился, и пили они кипяток, но все-таки горяченькое…»
Стукнула дверь. Вошел Хрисанфий. Перекрестившись на образок, повернулся к Федору:
— Вот, выбирай. Я, что мог, подобрал. Смотри…
Хрисанфий бросил на пол скрученные желтые сыромятины. Резко запахло кожей. Федор взял в руки сверток, помял, постучал по нему костяшками пальцев.
— Хорошая кожа. Крепкая. Сам выделывал, или кто другой?.
Хрисанфий подергал носом, и, как бы смущаясь, сказал:
— Там, под горой, мужик живет, кожевник знатный. Все ему кожи отдают, а он их выделывает. А я в этом деле не мастер. Так что, выбрал? Ну и добро.
Хрисанфий собрал остальные лоскутки и направился к двери. Федор догнал его и протянул рубаху.
— Спаси, Господи, тебя. Выручаешь нас. Возьми рубаху. Она мне вряд ли пригодится. Нам не до праздников. А боле нечем отблагодарить!
Хрисанфий сунул рубаху за пазуху.
— Ладно, возьму. Старшему моему враз будет…
Мишка уже оделся и ждал отца. По темноватым еще улицам прошли они к дому, где ждала их баба с огромным животом. «Беременная. Ох, и раздулась, чисто кадушка. Вот-вот родит», — подумал Федор.
Бабенка бойко, несмотря на огромный живот, провела их в сенник. Показала все, выдала вилы.
— Мой-то мужик ногу сломал. А сено прибрать надо. Хорошо Хамид, сосед, присоветовал вас. Каждого-то и не пустишь на двор: вмиг обчистят! Хамид говорит, хорошо у него потрудились. Если и у нас все ладно поробите, так же заплачу, как он!
Федор с Мишкой принялись за работу. Бабенка вынесла им в кринке молоко и свежий калач. Давненько они молока не пивали. Федор пожалел только о том, что не мог, сколько-нибудь унести Гриньке и Елене… Сено было духовитое. Мята, еще какие-то луговые травы… А в Пестовой разнотравья больше. И осоки почти нет. Но все равно сено хорошее… То-то молочко вкусное.
К обеду управились. Баба, и правда, не поскупилась. Два ведра картошки дала да капустный пирог… Федор долго благодарил щедрую толстуху. Предлагал, если какая работа появится, свои услуги. После обеда занялся — таки починкой валенок. Подшил Гринькины валенки. Тот сразу же побежал на улицу поиграть с Боцманом. Ребенок, что с него возьмешь… Долго ковырялся с валенками Мишки. Этот сносил обувку напрочь. Не за что зацепиться! Но все же осилил. Свои валенки и Еленины решил подшить завтра.
Прилег отдохнуть. Все- таки много сена перекидали. Устал.
Только стал засыпать, пришел комендант и два охранника. Они часто ходили, проверяли, не сбежал ли кто. Пришли так пришли… Федор как будто привык к их визитам и не обращал внимания. Елена — тоже. Как пришли, так и уйдут. Она замешивала в блюде тесто на лепешки. Один из охранников, по прозвищу Косач, потому что у него были яркие рыжие брови, а один глаз косил, подошел к мешку с мукой и заглянул туда.
— Ого! Да у них полмешка муки… А у других — уж не крошечки. Конфискуем половину.
Он подвигал своими красными бровями, несколько раз пошмыгал своим носом, на котором снова повисла капля, и достал откуда-то мешок. Он сам стал небрежно пересыпать муку из одного мешка в другой, просыпая муку на пол, на свои растоптанные валенки… Елена заплакала. Она-то знала, что там муки совсем не пол мешка! От силы на неделю… А дальше голод… Федора захлестнула ярость. Даже дышать стало трудно. Кулаки сами собой сжались. Сколько земли было вспахано этими руками, сколько сена скошено, сметано в стога… Да разве у крестьянина может быть слабая рука? Он встал с топчана. А охранник, уверенный в своем превосходстве, завязывал мешок с мукой, стоя в опасной близости от Федора. Когда то, в парнях, Федор был драчуном. Ни одна драка не обходилась без его участия. Да разве мог охранник об этом знать.
Счастливый, что еще кого-то обобрал, он с улыбкой выпрямился и тут же получил такой удар, от которого не смог устоять на ногах. В этот удар Федор вложил всю ярость, всю ненависть к тем, кто разрушил его мир, так любовно созданный его трудом и трудом его близких. Это был протест раба, над которым долго измывались. Ему неважно было, большой это или маленький винтик адской машины, которая своим катком размяла, раздавила сотни, тысячи человеческих судеб и жизней. Они все — это вселенское зло…
Взбрыкнув сапогами, охранник улетел к столу, опрокинув на себя самовар! Никогда еще Федор не слышал такого крика боли, такого мата! Спасло охранника от страшных ожогов только то, что был он в полушубке. Но лицо, уши, шея — все было обварено.
«Хорошо «попил товарищ чайку», но мало. Получил, что хотел. Вот и все… А мне больше нечего бояться», — подумал Федор. Ему было даже смешно смотреть, как охранник с малиновыми ушами и полосатой малиновой рожей корчится от боли. С ушей клочьями слезает кожа. Его мешок с мукой, залитый водой, валялся на полу.
Второй охранник, опасливо вытащил наган и стоял у двери, ожидая команды коменданта. Комендант, видать, тоже не хотел схлопотать и поэтому стоял поодаль, раздавая команды:
— Собирайся! Ты арестован! Подай мужику лопотину, — обратился он к Елене.
Елена стояла испуганная. Она даже не плакала. Только лицом побелела, и глаза стали, как омуты, темные-темные… Мишка замер. Скулы его ходили ходуном. Он походил на зверя, готового к прыжку. Федор строго посмотрел на него и покачал головой.
— Не вздумай. Мать одну нельзя оставлять. Пропадут…
Миша низко опустил голову, скрывая слезы.
— Дайте хоть попрощаться с семьей. Елена, Гриньку позови. В последний раз посмотреть на парнишек.
Гринька вбежал и бросился к отцу на руки:
— Тятенька! Тятенька! Не уезжай!
— Вот он, сон, А я думал, к добру… Нет, видно, любые сны у нас сейчас – к худу. Ладно, сынок, мамку слушайтесь. Не забижайте ее. А как дом выстроишь, я к тебе приеду…
С Мишкой попрощался по-мужски. Обнял, пожал ему руку.
— Сейчас ты — главный в доме. На тебе — все заботы. Ищи работу… Тогда – не пропадете.
Елена бросилась Федору под ноги и заголосила, только сейчас осознав, что не будет у нее мужа, не будет опоры, что остается она одна с мальчишками… Федор поднял жену, поцеловал и сам направился к двери. Больше не было сил… Охранники вышли за ним, оставив на полу мешок с мукой. Елена, рыдая, подняла самовар, поставила его на стол… Задвинула в дальний угол мешок охранника, а свою часть муки спрятала под топчан, чтобы еще кому-то не пришло на ум забрать последние крохи… Но ни в этот, ни в следующий день за мукой никто не пришел. И когда у семьи закончилась мука, Елена набралась смелости и потихоньку стала оттуда брать, так, по чуть-чуть…
В конце апреля всех погрузили на пароход, и он, шлепая плицами, повез осиротевшую семью, как и сотни других обездоленных, сначала по Иртышу, потом по Оби, в далекий край, где не росла даже картошка… Где-то в трюме, на пустом сундучишке, сидели Елена и ее сыновья. Свой самовар они оставили хозяину избы, который после ареста Федора частенько помогал им, чем мог. На Мишке были старые сапоги Хрисанфия, на Гриньке — обутки их сынишки… Жестокий мир был не без добрых людей.