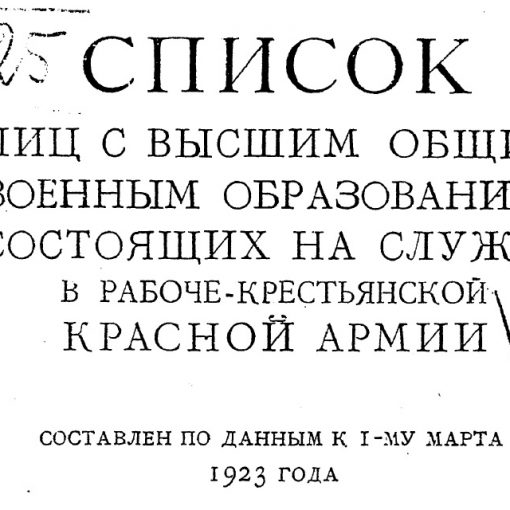Раз во время занятия меня позвали в околоток, со мной пошел лучкинский Разбойников. В околотке меня осмотрели, расспросили и отпустили. Недели через две опять позвали. Я пошел уже один. В околотке было несколько врачей и полков[ник] Ерошевич, полков[ник] меня спрашивал, чем дома занимался, и я ему отвечал, спрашивал также, стрелял ли я дома, я сказал: стрелял и только дробью. Врачи посоветовались и решили написать мне свидетельство на нестроевую должность.
Когда в роте узнали, что я нестроевой, молодые завидовали мне, каждому хотелось быть нестроевым. Мне в роте было несколько прозвищ. Более звали Захарко, а унтер-офицеры и ефрейторы — Венедиктом, а когда стал нестроевым, то звали Нестроевой или Штатный.
А писем все нет и нет, мне казалось, что все забыли меня. Я опять написал всем по письму, а Устинку писал: что с «О» и что с «М»?
Двенадцатого февраля у нас ротный праздник. Нам выдали мундиры. Мундиры были плохо пригнаны и сидели на нас мешками. В праздник утром нас построили в две шеренги вдоль прохода, по бечевке выровняли в ожидании ротного командира; ротным командиром был тогда [нрзб.] Прокофьев…
Пришел ротный ком[андир] и поздравил нас с праздником. Нас построили в столовой кругом иконы Ивер[ской] Б[ожией] М[атери]. Пришел полковой священник и, наконец, командир полка. Отслужили молебен, мне пришла очень горячая охота молиться — так, что навертывались слезы на глаза. Затем кричали «Ура!» за здравие государя, государыни, наследника престола, командира полка, ротного командира и бывшего комроты Богданова, с которым выбыли портреты государя и наследника с собственноручными надписями, затем за здоровье полкового священника и опять командира полка, и за свое здоровье и счастливое окончание службы, и своих родных и знакомых, и благополучное возвращение домой. И грянули же мы за свое здоровье!
Нам раздали по два фунта булки и по полбутылки пива. После обеда пришли музыканты и играли до пяти часов. Я в первый раз слышал [нрзб.] хор полковой музыки, и музыка мне почему-то не понравилась, я отнесся к ней равнодушно.
Вообще, с самого начала рекрутства я на все смотрел равнодушно, и даже дорогой, когда ехали сюда, ничто не интересовало, я смотрел на все, как [на] давно виданное, я удивлялся себе, что меня ничто не интересует.
А писем все нет и нет. Мне казалось, что все меня забыли и я никому не был нужен, и это меня иногда раздражало. Мои письма давно должны быть дома, и адрес мой должны знать.
Ученье шло своим порядком. Когда была словесность, я говорил громко, так, что солдаты смеялись и говорили: а Захарко здорово отвечает. Гимнастика тоже не обходилась без замечаний солдат. Если я подходил к какому-нибудь снаряду, солдаты говорили: вот Захарко сделает, он не [нрзб.], он ефрейтора отхватит и пойдет в нестроевую роту, унтер-офицером будет, ему везет. На турнике и на лестнице я работал хорошо и на брусьях ничего. Изо всей гимнастики я не мог скакать вдоль через кобылу, за что мне и попадало ремнем от подпрапорщика, и как бы я ни скакал, перескочить не мог и всегда растягивался на кобыле. Через кобылу из молодых прыгали немногие, и стрелки многие не могли прыгать.
Иногда после занятия нас собирали и заставляли скакать через кобылу; который перескочит, тот идет оправляется, а который нет — за пирки, и когда все перескачут, нас из-за пирок выпускают по одному. Который выйдет, его возьмут нагнут и стар[ший] обучающий ремнем — раз, раз, и когда отпустят, несешься вприскочку по проходу, а когда скомандуют «За пирками равняйсь!» — выравняешься, «Налево!» — повернешься, «Садись!» — сядешь и пойдешь гусиным шагом, а ст[арший] обучающ[ий] с ремнем встречает каждого. Я всегда попадал за пирки, когда скакали через кобылу, и как бы учитель меня ни подбадривал, я никак не мог перескочить… Все остальное я делал хорошо.
Меня сначала интересовал разговор солдат, который я почему-то избегал. Если говорит солдат солдату: сделай то-то или сходи туда-то, солдат отвечает: «А раньше». Это «раньше» употребляется всегда между стрелками. Или вместо того, чтобы сказать «Ты неладно делаешь», говорят: «Эх ты, качаешь», или «Подкачал». Веселый или хороший стрелок называется «боевой», это введено и между офицерами. Мне часто говорили: «У нас Захарко боевой».
Любимый у солдат разговор — про увольнение, а сколько про него шуток и прибауток — не перечесть. Если молодой что-нибудь делает, ну хоть несет бак с супом, ему говорят: «Сколько тебе таскать-то?». Если увидят жеребенка, то кричат: «Внимание, тринадцато лето!». А если услышат — играет музыка, марш, кричат: «Внимание, одиннадцатый] год!» и начинают притопывать.
При встрече стрелок со стрелком начинают разговор всегда почти с одних слов: «Как живется, письма получаешь?». Письма у солдат — первое удовольствие, а из деревни их так писать скупятся. Солдаты последние гроши собирают и посылают домой письма.
Сойдешься с товарищем, и разговор про своих, про деревню, и первым долгом спрашиваешь: а что, письма не получил, не знаешь, что у них хорошего? Каждый стрелок любит говорить про письма и про увольнение.
В конце февраля мне Никитка принес записку от «О». О, как я обрадовался, читал и перечитывал ее. «О» писала: «Тяжело без тебя этому твоему другу. Дорогой [нрзб.], не забывай нас, и мы тебя не забудем и любим тебя более прежнего. Как невыносимо ждать от тебя письмо с адресом, и вот решила написать в одном конверте с Ник., надеясь, что он тебя увидит и передаст тебе. На меня письма не пиши своей рукой адрес».
Далее писала: «Никто тебя не забыл, и просили писать чаще, каждую неделю». Далее просила помнить советы своей сестренки и сообщила, что крестный и мама жалеют и плачут. «Если тебе нужны деньги, напиши сейчас же, и он тебе вышлет. Веди себя лучше, чтоб все тобой довольны были. Утка женится на Варе, свадьба третьего февраля. Никто тебя не забыл, и не думай этого», — были последние слова в письме. Письмо писано наполовину по-тарабарски.
Как я обрадовался письму, а особенно тому, что «О» пишет «не забыла» и исполняется задуманная мною дружба с целью поддерживать и давать советы на службе и любовь, для которой мне бы хотелось во что бы то ни стало прослужить и снова увидать «О». Мой характер дурной, мне все представляется и думается: почто человек живет, если жизнь не удается ему? Мне часто почему-то было скучно и тяжело, и я думал: к чему жить, коли жизнь несчастлива! И мне хотелось или перемены, или вовсе не жить. Я очень боялся, что придет такая минута, что я решусь сделать с собой что-нибудь дурное. Также очень боялся, что не хватит силы переносить тяжести службы и по своему дурному уму не увижу родных, друзей и свободу.
И когда я почувствовал, что люблю «О», и люблю не так, как любил прочих, которых любить бросить для меня ничего не значило, что «О» лучше и красивее всех, и я ее полюбил невольно, не замечая этого, и сразу понял, что я люблю ее любовью, в которую не стоит шутить. Я понял глубину любви к ней тогда, когда думал, что она меня никогда любить не будет за то, что я хуже и стою на нижней ступени образования. Как я мучился и терзался тогда, думая это. Но желание мое сбылось, хотя я и не верил и сейчас не верю, что «О» любит меня, мне кажется, что из жалости ко мне она говорит и делает вид, что любит. Но пусть не любит, пусть хоть пишет и не забывает меня.
Жизнь солдата скучна и однообразна, никакого удовольствия, кроме писем, недаром солдаты так их любят. Мне как-то сразу бросилось в глаза, что служба сама по себе не так тяжела, как тяжела скука и одиночество, также и неволя.
«О» не забывала, и вскоре я получил другое письмо, уже с моим адресом. Она писала, что получила мое письмо с адресом и спешит ответить. Далее писала, что получила письма из Тобольска и со ст. Толидо, и последнее Утка распечатал. А я писал из Омска, Новоникол[аевска], Толидо, Байкала, Маньчжурии] и Харбина, сейчас не знаю, где они: или затерялись в дороге, или все у Утки. Очень скверно, если они у Утки, я в них писал много такого, что не хотелось бы, чтобы они были у Утки.
Далее «О» писала: «Дорогой [нрзб.], я тебя не забыла и не забуду, и ты не забывай и пиши, да пиши дор[огой] [нрзб.] чаще, ради Бога, чаше, а то меня страшно мучит, что ты мне редко пишешь, мне так тяжело и скучно без тебя, дорогой».
Милая «О», и мне тяжело, но что же мы сделаем, ведь ты недаром сказала, что человек игрушка в руках капризной судьбы, эти слова я никогда не могу забыть.
Далее писала, что Утка написал ей, что я умер или случилось со мной несчастье, и она позвала свою мать и сказала ей, а ученики слышали и рассказали в деревне, а в деревне так не пройдут такие вещи, и получилась сплетня.
Было видно, что Утка начинает игру, и только чем кончит? Когда я был дома, то было видно, что завидует мне, хоть и не знал, какие отношения у нас с «О», но ведь не знать — более подозревать. Должно быть, сейчас вздумал встать на мое место, и если вздумает далее добиваться моего места, то бедной «О» много придется перенести всяких гадостей. А он сумеет устроить все, у него закон не писан, а характер самый подлый. Бедная «О», что тебе будет из-за меня.
Далее «О» описывала, какая была елка, сколько и какие были гости. Ребята отличились на елке на славу. Егор, Колька и Черкашин не отпустили своих ребят, из-за этого пропало много хороших сценок. Пишет, что сильно хворала и чуть не умерла.
Ей не нравится, что пишу «М», ну что ж, не буду писать, мне и так она надоела. Меня только несколько беспокоит ее положение, потому что я считал себя несколько виноватым в теперешнем ее положении.
Но сейчас меня беспокоит положение «О», она находится между врагами, которые могут ей сделать всякие глупости, и только потому, что она мой друг.
Она просит меня писать ей чаще и не пить. Сейчас же писать часто невозможно, потому [что] заставляют все свободное время чем-нибудь заниматься, а пить совсем некогда, разве у закоренелого пьяницы сейчас вино на уме.
Писать, что хотелось, «О» я боялся, потому что письма могут попасть кому-нибудь в руки, и я писал то, что совсем мне не нравилось. Подожди, милая «О», когда я обучусь, у меня много будет свободного времени, и я тебе буду писать часто, часто.
«О» пишет, чтоб я учился и занимался грамматикой, но сейчас не грамматика на уме, а требуют, чтобы занимался гимнастикой.
Вскоре после письма «О» получил письмо от крестного и Утки вместе. Крестный ничего не писал, кроме поклона и что Влас в Петербурге в лейб-гвардии, а Утка писал, что женился на Варе. Учительница живет хорошо. Про «М» не слыхал и не видал. Катушка была хорошая, такой не бывало никогда. Почему не писал мне писем? Учительница получила три письма, а я одно, и то распечатанное отдала учительница. С учительницей живу теперь хорошо, сначала была немного ерунда какая-то, она пытала меня, что ли, а теперь хорошо относится ко мне, как женился, теперь и не то стало со мной и с ней. Жизнь моя совсем другая стала. Я теперь стал пить вино, как ездил в город, взял вина хорошего, коньяку и прочих вин, пил, сколько мне надо было, и тебя поминал. В конце письма писал: «Меня Варя сильно любит. Посоветуй: мне жить или покончить жизнь свою».
Пришел Никитка, я сказал ему, что пишет Утка, а Никитка сказал: «Вот взяли бы в солдаты и потерли, как нас трут, забыл бы просить совета». Оно и верно, ему делать нечего и пишет, что на ум придет.
Я тоже так думал, как был дома. Если что братья скажут — не нравится, и работа тяжелая, кажется, [что] много заставляют работать. А сейчас и рад бы пожить, как жил, но тут командуют: «Эх ты, серая пробка, еще мать со станции не ушла, а ты об увольнении говоришь, завтра не в очередь будешь писарем по взводу!». Вот при такой команде забудешь просить советы: жить или умирать. Служба из дурака сделает умного, а из умного дурака. Можно сказать, что кто на службе не бывал, тот и горя не видал. Я вот только не успел еще носа обогреть в роте, а служба садится на плечи, заставляет жить и оглядываться, чтоб каждый день был на учете.
Мне часто говорят: «Тринадцато лето, Захарку везет, он все знает». А это «везет» нелегко достается. Как подумаешь, что каждая ошибка сулит [нрзб.], тогда поневоле захочешь, чтоб везло. Сейчас, думая, как я жил дома, я каждый раз называю себя дураком, не умел жить и пользоваться жизнью.
«О» писала часто, и письма все были длинные, она описывала, как жила, и все новости, свои и деревенские. Я писал, что мне служба дается, что пока хорошо и даже мало думаю об ней. Это была правда: меня как-то сразу втянула ротная жизнь, и тут занятия, охота не отстать от людей и не нести наказания. Вечерами время проходило незаметно, было шумно, задуматься не давали. Я был охотник [нрзб.] на турнике или пошляться по роте, на месте не сиделось, письма писать мешали, и если писал, то неразборчиво. И время летело незаметно, не успеешь опомниться — поверка, после поверки иногда словесность. Учителя занимались со своими учениками, и занятия были слабые, более говорили о посторонних вещах, а наш Гриценко иногда поручал обучать мне, а сам уходил совсем.
Приходили старослужащие и слушали, как я занимаюсь, и говорили: «Захарко [нрзб.] приехал, а уж обучает, тринадцатый год, на будущий год будет учителем».
Тянули своих учеников учителя Малюгин и Лобачев, а все равно ученики знали еще менее нашего.
Если не было долго письма от «О», я совсем как-то забывал свою деревенскую жизнь и мало беспокоился, но если же приходило письмо, я становился веселым, и «О», и вся жизнь ярко представлялись в уме моем, я как-то становился энергичнее, и мне служба казалась пустяком.
А письма «О» писала длинные, длинные, так что читать их не хватало послеобеденного отдыха. Товарищи дивились, что мне часто пишут и письма длинные. Я говорил им, что у меня в письмах нет ни одного поклона, которые я ненавижу. Товар[ищам] хотелось знать, что пишут, я им давал читать, но они ничего не могли разобрать. Особенно дивились, если письмо писано по-тарабарски.
Мы готовились к большому параду по случаю трехсотлетия дома Романовых. Утром в день юбилея нам выдали новые шароварки защитного цвета, серые папахи, новые ремни поясные, ружейные и подсумки. Мы оделись и построились, нас осмотрели и повели на полковой плац, и когда собрался весь полк, пошли на гарнизонный плац около гражданской тюрьмы.
Все солдаты с нетерпением ожидали трехсотлетия, думая, что сбавится срок службы. На плацу уже построились второй, третий, пятый и двадцать первый полки с батареями и пулеметными командами и кавалерия. Некоторые роты в полках выравнивали по бечевке. Приехал начальник дивизии генерал-майор Сидорин, объезжал полки, потом служили молебен. Я чуть не отморозил уши во время молебна. Солдаты говорили, что после молебна будут читать манифест.
После молебна кричали «ура!» и стреляли из пушек, затем проходили церемониальным маршем мимо начальника дивизии сначала полки по порядку номеров и затем батареи, от батарей был сильный грохот и шум. В первый раз я видел так много войска, офицеров и пушек. <…> Очень много было вольного народа. Особенно хорошо было, когда играли полковые музыки во время приезда начальника дивизии.
По казармам пошли с песнями. Когда шли по прямым улицам, штыков было, как лесу. Сначала шли пехота и конница, взади артиллерия. От песен содрогался воздух, каждая рота пела свою песню. Полк от полка шли на пятьдесят шагов, батальон от батальона — на двадцать пять шагов, а рота от роты — на десять шагов.
В ротах нам дали по полбутылке пива и по фунту хлеба. Солдаты дождались объявления манифеста, но манифест-то был только насчет арестованных.
На другой день ходили в унтер-офицерское собрание на спектакль, играли «Сусанина». И после обеда пошли в городской театр (народный дом). Мне не удалось сходить в город, ходил за обедом.
В марте начали нас приучать к пороховому дыму, водить на стрельбу. Сначала ходили молодые, прибывшие раньше нас, потом и мы; стреляли из тира на двести шагов в поясные мишени. Нам говорили, как надо стрелять, держать ружье, спускать курок и т.д. С нами стреляли еще из каких-то рот молодые. Давали по три патрона. Я попал только две пули.
После стрельбы я вышел из тира, ефрейтор какой-то роты построил «промахов» и занимался укреплением рук. Было холодно, руки у них мерзли, и они чуть не плакали, но ефрейтор командовал беспощадно. Я стоял и смотрел, мне представлялась служба во всем своем блеске. «Если все хорошо, так хвалят, а случится неудача — замучат беспощадно», — думал я.
Сколько я прожил в роте, никогда не видал, чтоб старослужащие наказывали молодых, а вот, говорят одиннадцатый год, что девятый и десятый год были собаки, не давали никогда молодым как следует пообедать, ставили на ложки и требовали, чтобы не ломали ложек, клали на ящики свои спать или стоять на полусогнутых ногах, делать упоры и ходить гусиным шагом.
Стрельба разделялась на приготовительную, упражнительную и боевую. Стреляли на двести в поясные, на триста или четыреста — в головные и на пятьсот и далее до тысячи четыреста — в рост. Я более трех не попадал, и то только один раз попал три, но и промахов не давал, за них ставят под ружье, а я не любил стоять. Я не старался стрелять, ни к чему было нестроевому стараться, а то хорошо будешь стрелять — оставят в роте, а мне хотелось поскорее выкрутиться из роты, и выкрутиться так, чтобы не наказывали.
По праздникам гоняли в церковь. Я ходил каждый раз, если не удавалось спрятаться. После обеда гоняли на беседы в девятую или двенадцатую роты.
…праздник чувствуешь себя, как в кругу самых дорогих близких друзей, а здесь никого знакомого. Хоть и есть, но где они — не увидишь в такой массе солдат.
А как хорошо поет «О» с учениками, как я любил слушать, когда поет она. Милая, дорогая «О», знала бы ты, как тяжело было в ту ночь. А она, может быть, и вспомнила обо мне. Было жарко и тесно. Сначала стояли построенными, а потом разбились, и многие вышли на ограду, где горели костры. Служба была недолгая, по-военному. Вышли из церкви, построились и ждали командира полка. Командир поздравил с праздником и, как всегда, скомандовал по казармам бегом.
В роте построились, взводные и отделенные христосовались с нами и сели разговляться; получили по порции пасхи, сыру, колбасы и по два фунта хлеба, разговелись — и спать. Праздновали три дня. Ходили в солдатский театр и на плацу делали гимнастику… но только вольные движения под музыку, на снарядах не делали, потому что во время упражнения много человек ушиблись. Разведчики показывали свои фокусы на лошадях и убили две лошади, и двое разведчиков сильно ушиблись.
После пасхи мы занимались более на улице и в поле. Пойдем на стрельбу, и старики стреляют, и мы занимаемся: гимнастикой, словесностью и ружейными приемами. На стрельбище приходят торговцы с сайками, булками и кренделями; у кого деньги, те брали и ели, а у кого нет — просили или в глаза смотрели.
На словесности меня спрашивали редко, а если и спросят, так не так, как других, а говорят: «Вот Зах. скажет». И редко бывало, чтоб я не сказал.
Письма «О» писала так же часто, но денег послали только пять рублей.
Когда ходили на полевые занятия, меня отправляли дозором и часто за старшего, а если рассыпались в цепь, я ходил левофланговым дозором. Вообще, мне ничего тяжелого не давали.
Раз после поверки нас выстроили и начали сдваивать ряды и повороты. И с правого, и с левого от меня фланга побили, и заднего, но я остался небитым и даже не получил замечания. Ну и боялся же я, чего никогда не бывало. Подп[рапорщик] [нрзб.\ так был зол, что за самую маленькую ошибку бил по маске.
В апреле уже занимались общим строем, гоняли на полевую гимнастику. Сначала вбегали на горку и скакали вниз, аршина четыре вышины. Наш Урман никак не решался соскочить, и его сталкивали. Раз скакали с коленей с кобылы: станешь на кобылу поперек на колени — и соскочишь. Урман никак не решался, и его заставляли ротный, полуротный и учителя, но он стоял и стоял. Полуротный бил его шашкой и толкали. Столкнут, поставят, и опять стоит, не решается соскочить. И выстоял весь час. Так ему тяжело пришлось, что он вспотел как мокрая курица. А через веревку, хоть на четверть подыми, не перескочит. Мне полуротный поручил его выучить скакать, я увел его за нары и не мог выучить перескочить через аршинный ящик.
С горки соскочишь, потом три кочки, одна от другой на сажень, с кочки на кочку перескочишь — за кочками барьер и барьер с брусом, опрыгаешь между брусья — далее деревянная горка, на горку забежишь и перескочишь через барьер, а от барьера до земли аршин пять, тут же лестницы, веревки и шесты, далее забор, от забора через канаву и потом по кочкам и через вал, за валом бревно. Раз я побежал через бревно и упал. Коленями попал на бревно, а головой на землю, ушиб сильно ногу, и от сапога отлетела подошва. По бревну пробежишь, потом бежишь по канаве и нагибаешься, чтоб неприятель не видал, канава за [нрзб.\, потом опять горка, на нее заскакиваешь с крутой стороны и под горку катишься катком, тоже чтоб неприятель не видал.
Как пойдут в казарму, двое или трое есть хромых. Часто сильно ушибаются, падая с турника или с какого-либо снаряда. Если отдадут в приказ, что в такой-то роте ушибся или убился солдат, то наш подпрапорщик запретит заниматься на снарядах в свободное время, чтоб не случилось несчастия, и потом сам же говорит, что солдаты ленятся упражняться гимнастикой в свободное время.
Взводный второго взвода Верещагин упал с турника на дворе и всю маску своротил, на шинелях унесли в околоток.
Я никогда не берег себя на гимнастике, но и никогда не падал, только раз своротил локти, балуясь на турнике. Если занимались на снарядах гимнастикой и видел, что другие не могут сделать, что задано, у меня тряслись подколенки от нетерпения.
В конце апреля нас подтягивали, потому что готовились к экзамену, говорили, что в первых числах мая будет экзамен.
Раз подпрап[орщик] Лапко стал собирать рыбаков неводить. Я сначала не хотел пойти неводить, но отделенный сказал подпрапорщику] Лапку, что я рыбак, и подп. зачислил меня в команду неводчиков. Вытащили невод, очень интересный, долины сажен десять, стень сажени полторы, и на ухе и на пяте были привязаны разлуки точно такие, какие у нас вяжут на песках. Под[прапорщик] приказал зашить дыры. Из нас нашлись только трое из всей команды, правильно умеющие зашивать — я и двое иртышных.
Чтоб нести невод, накатывали его с обеих сторон на разлуки, я показал, как носят у нас. Лапку понравилось, и невод насдевали на шеи человекам пяти. Вся команда состояла человек из пятнадцати. С нами пошел полуротный с каким-то офицером.
Пришли к озеру, половина стрелков ушла на другую сторону озера. Тянули тягой, как залив, и, протащив сажен пятьдесят, пританивали, чтобы не подавать на другую сторону веревки, когда пританивали, для этого к ушам было привязано две веревки, за одну тащили на другой стороне, а другая была у нас, за которую мы подтягивали ухо во время притони.
Попадали караси, сомы, раки и крабы, которых мы бросали или собирали корейские мальчики. Краб круглый, как две сложенные тарелки, и у него восемь ног, с виду очень некрасивый. Раков очень любит полуротный и чуть не ест их живыми. Рыбы очень много должно быть в озере, наш невод не хватает ни неба, ни земли, и то попадало по пяти-шести карасей и сомы. Сом похож на налима, только некоторые плавники не такие, как у налима. А раки как раки, я их видел в первый раз и не решился брать в руки, были противны.
Чтоб во время притони не уходила рыба, под[прапорщик] Лапко приказывал солдатам снимать шароварки, забредать в воду и прижимать тетиву к земле.
Я рассказывал, как неводят у нас и как ловится рыба. Особенно интересовало их, что мы рыбу пускаем в озера и по зиме выневаживаем. Кажется, они и представить себе не могли, как бы мы ни объясняли с Молоковым и Разбойниковым.
Еще ранее как-то раз на словесно[сти] я рассказывал полуротному, чем у нас занимаются в течение всего года; рассказывал и про речки, про запоры, и как я лазил в воду, и какие у нас местности, и какие звери, и как их ловят и чем, также про самоедов, остяков и казымцев. Их это все очень интересовало, и они называли меня охотником.
У одного конца озера была корейская деревня. Когда мы кончили неводить, вытащили невод на берег и подпр[апорщик] спросил, кто хочет остаться караулить невод, пока приедет Плащик (ротный конюх), я вызвался первый. Мне хотелось побыть на поле и на свободе. Со мной остались еще двое: Костя Солянской и еще один. Когда команда ушла, я пошел посмотреть, что хорошего в деревне. Деревня небольшая, и среди улицы очень грязно и навалены всякие отбросы. Фанзы обмазаны глиной и покрыты соломой. Трубы сделаны из досок и всегда возле фанзы, а не на фанзе, как у нас. У одной фанзы прямо среди улицы жеребилась кобыла. Я заглядывал в фанзы, и меня разил какой-то очень противный запах. Устройство внутри фанзы почти одинаково. Часть фанзы или по обеим сторонам около стен занимает полок (нарки), под нарками печь, и наверху печи вставлен котел (как у ост[яков] калташиха), в котором они варят и пекут хлеб.
Я вернулся к товарищам. Костя стал звать меня искать ханжи. Я согласился, мне убытку не было, потому что не было копейки денег. На конце деревни стояла какая-то большая фанза, огорожена оградой. Мы зашли. Китаец пек лепешки из крупчатки в котле, мы стали просить его продать нам на две копейки, китаец не соглашался, мы вязались и отдавали деньги. Наконец он взял деньги, посмотрел на них, взял лепешку и положил деньги на лепешку, отдал нам. После этого повернулся к двери и, подталкивая нас, говорил: «Ходи, ходи, солдата, ходи». И выпроводил таким образом за ворота. Лепешка вкусная, только без соли.
Было очень холодно, и нас прохватывало в одних гимнастерках, а Плащика все не было. Чтобы согреться, мы залезали в ямы и прятались в солому.
Костя ушел и принес полбутылки ханжи, выпили все вместе. Кислая, вонючая и нисколько не пьяная.
Я был еще в кузнице. Вся кузница была не более квадратной сажени, а ковали кузнеца четыре, все сидели на корточках, и сколько времени я стоял, ни один кузнец не вставал на ноги. Пришел к ним старый кореец и сел. Ему сейчас же подали трубку, чубук, который четверти три; у всех корейцев трубки на длинных чубуках, если идет кореец по улице и курит трубку, то его трубка задевает всех прохожих.
Становилось совсем темно и холодно. Плащика все еще не было. Мы забрались в фанзу к корейцу, и один из нас по очереди караулил.
К корейцу пришел гость. Корейка подала ханжи и в чашке мелко изрезанное мясо. Угощались не по-нашему. Сначала налил ханжи в чашку хозяин и подал гостю. Гость выпил и налил, подал хозяину. Мясо ели двумя палочками. Я никак не мог научиться взять кусочек дерева, а корейцы работали не хуже, чем мы вилкой.
Когда мы приехали в казарму, рыба была уже сварена и дожидались нас. Угощал подпр[апорщик]. Поставили столик среди первого взвода, и ели все, которые неводили, подпр[апорщик] никого не пускал из неучаствовавших в неводьбе.
Перед экзаменом нам говорили: «Как подкачаете на экзамене и скажут подзаняться, тогда могила, зарывайтесь». Отдали приказ, когда каким батальонам будет смотр; нашему батальону смотр приходился первого мая.
Перед экзаменом занимались словесностью, очень многие словесности не знали, и тогда подпр[апорщик] наберет таких господ и поставит [нрзб.\. «Вот, ребята, отдохнем», — говорил я, садясь на словесность. «Хорошо тебе говорить, когда все знаешь. Хорошийотдых, поставят ночными или под ружье», — отвечали мне. Незнаек садили на первые скамейки, к подпр[апорщику]. Я всегда садился на первую скамью с незнающими и все время смотрел подпр[апорщику] или тому, кто с нами занимался, прямо в глаза, и часто приходилось, что так и просидишь, не поднимут.
Ротный мне говорил, что будут спрашивать на экзамене, я старался запомнить, мне страшно не хотелось подкачать, потому что почти все говорили, что я не подкачаю.
Неожиданно разнеслась весть, что первого мая молодые будут принимать присягу, я был рад этому, думая, что лишняя забота об ученье свалится.
Первого мая день был веселый и теплый, нас построили на полковом плацу, собрались все офицеры, принесли знамя, играла музыка. После присяги прошли церемониальным маршем и с песнями по ротам.
Я не пел песен, и вот по какому случаю: в Радоницу весь полк пошел на полковое кладбище, была страшная грязь. Вообще здесь скверное место: если ветер — пыль, песок подымает столбами, а дождь — грязь непролазная. Когда мы шли городом на кладбище, то всю грязь размесили так, что задним приходилось брести, как по воде, а до кладбища версты три будет. На кладбище служили молебен и пошли назад с песнями. Подпр[апорщик] шел сзади роты, потому что был ротный, и когда пели, мне приходилось тоже петь, так как я боялся, что подпр[апорщик] накажет. Подп[рапорщик] схватил меня за плечи и сказал: «Не пой, ты ни черта не умеешь петь». Я назло ему немного помолчал и опять запел. Он поймался за шинель и закричал: «Не пой! Никогда не смей петь!». «Слава Богу, — подумал я, сейчас избавился от песен». После этого, когда дежурный с ремнем сганивал молодых на песни, я сидел себе, как до меня ничего не касается. «Захарко, на песни!» — кричал мне дежурный. «Я не пою, г. подпр[апорщик] запретил», — говорил я, смеясь, и меня оставляли в покое.
Третьего мая был нам экзамен. Все три роты разделили на три взвода. С первым взводом занимался командир полка, со вторым капитан Бобровский-Королько и третьим подполковник Соколовский. Сначала общим строем делали ружейные приемы и рассыпание в цепь, потом развели по взводам и занимались фехтованием, сигнализацией и сигналами, взади — словесностью по ружейной части.
На фехтовании не знали отбивки с переводом, в сигнализации выпутались хорошо, а сигналы нам подсказывал полуротный, тоже сошло ничего. На словесности спросили [нрзб.] жида портного, который мало занимался, а более перешивал мундиры. Соколов[ский] спросил его, показывая на спусковой крючок, что это — [нрзб.] молчал. Ротный сказал, что он портной, тогда Соколов[ский] спросил: «Ну что это?» — «Крючок», — ответил Птак. «А можно его пришить к шинели?» — опять спросил Соколовский]. Птак молчал, и от него ничего не могли добиться.
После обеда были гимнастика, грамотность и словесность. В нашей роте делали плохо. Через кобылу с ручками скакали и падали, на брусьях задачу выполняли немногие. Через кобылу я тоже неудачно скочил. Скочил хорошо, а приседание не вышло, запнулся и слетела фуражка, а ранее скакал хорошо. На брусьях мне не пришлось делать, на турнике тоже задача была нетяжелая, но все делали плохо. Мне удалось на турнике. Соколов-[ский] сказал, когда я соскочил на землю: «Это он хорошо»… На лестнице тоже плохо работал, потому что было очень тяжело, а ранее лазил лучше всех…
…«А ты зачем? Ты нестроевой, в караул не пойдешь. Фурсов поставит его куда-нибудь ночным». Я выскочил из строя и вприскочку убежал в столовую.
Был назначен смотр старослужащим, и их почти не выпускали из-за столов, все время долбили словесность, словесность они знали хуже самого плохого молодого солдата.
Когда молодые сели на повторение обязанностей, мне делать было нечего, и я сел на словесность со старослужащими. Занимался ротный. Стрелки меня спрашивали, что, как, я боялся подсказывать, чтобы не услыхал ротный, и если шепну что-либо, они не расслышат и ответят совсем другое.
Караульные ушли в караул в двенадцать часов, а нас, ночных, повели в караульное помещение в семь вечера. Мы были назначены на две смены. Я был назначен к складу дров и угля (почетный пост). Караульным начальником был взводный Фурсов, ночью нам не давал спокою, то и дело кричал: «Караул, стройся!». Все вскакивали и строились.
В полночь я сменил караульного у дров и простоял до пяти утра. Утром ночные собрались в караульное помещение, и нас отправили в роту. Едва напился чаю и завалился спать.
После этого раза два стоял ночным у казармы на второй смене от двенадцати ночи до пяти утра. Утром, напившись чаю, залезал во второй взвод на верхние нары и спал до обеда, встану — уже обедают. «Ну что, Зах., выспался?» — спрашивает взводный. «Так точно, г. взводный, более некуда», — отвечал я, смеясь.
А во время обученья никогда не был ночным, раза два был дневальным по роте. Молодых дневальных во время смены гоняют на занятия, а я, как сменюсь, меня старослужащие положат спать между матрацы и забросают шинелями, чтобы подпрапорщик] не видал; как в первом, так и в четвертом взводах старослужащих меня любили и никогда в обиду не давали.
После пасхи был в полку большой смотр. Работы было очень много. Шили разные мешочки под чай, сахар, сушеную зелень и так далее, выкладывали в вещевые мешки полную выкладку. Одеяла тюковали и выносили на плац, одевали полную походную амуницию. Одним словом, работы была масса, а меня поставили дневальным у винтовок, и я стоял, как дурачок. Шесть часов стоял и шесть спал. Молодые все мне завидовали, говоря, что ему служба стоит [нрзб.], а тут нет покою день и ночь. Так я стоял дневальным целые трое суток.
Когда отдали в приказ, что молодые солдаты переименовываются в стрелков, после поверки Фурсов нас увел в четвертый взвод и говорил нам, как надо вести себя стрелкам и т.д. В заключение сказал: за обедом будут ходить и старослужащие, и молодые по очереди, это было для меня лучше всего, т.к. приходилось таскать обед через две недели.
В половине мая был назначен смотр молодым стрелкам всего полка корпусным командиром генералом от кавалерии Плешковым. Нас опять начали учить, что будет спрашивать корпусный и т.д.
Для смотра выстроили на плацу во всей новой полковой амуниции и [с] полной выкладкой. Выравнивали по бечевке. Офицеры были все налицо, потом начали собираться и генералы, сначала пришел командир бригады генерал-майор Жуковский, потом начальник дивизии генерал-лейтенант Сидорин, генералы в ожидании корпусного ходили и осматривали стрелков.
Корпусный приехал на автомобиле, заиграла музыка, раздались команды «Смирно!» и «Слушай на краул!». Поздоровавшись, корпусный обходил, осматривал стрелков, мы стояли не шевелясь, только поворачивали за ним головы. Корпусный еще совсем молодой генерал, а глаза такие веселые-веселые; если на него глядеть долго, то никак не удержать улыбки.
Обойдя всех, корпусный поблагодарил нас за отличную стойку. Перестроив роты, пошли церемониальным маршем. После марша построились опять в прежнем порядке. Скомандовали: «Четные роты, налево шагом марш!». Четные роты вышли и стали у летнего театра.
Корпусный зашел [к] первой роте, и ротный начал командовать, сначала ружейные приемы и стрельбу. После проверки каждой роты корпусный говорил: «Хорошо» — и благодарил. Когда корп[усный] обошел все роты, тогда приказали снять амуницию. Мы все с себя поскидали, вышли из-за ружей и построились около гимнастических снарядов.
Началась словесность. Корпус[ный] что спрашивал, для меня было знакомо, и я дожидался, что он спросит меня, мне очень хотелось этого. Корпус[ный] прошел мимо меня и остановился от меня у третьего человека. Если спросит что-либо у кого-нибудь и только что стрелок начнет отвечать, а кор[пусный] уже конец доскажет сам и потом говорит: «Совершенно верно. Совершенно верно».
После словесности нас партиями рассчитали, кого на турник, кого на кобылу и т.д. Партия, в которой стоял я, угодила на лестницу в учебную команду. В команде мы долго ожидали корпусного], и когда он пришел, мы были уже построены по порядку рот, начали лазить. Кор[пусный] благодарил каждую роту по окончании лазки, некоторых стрелков благодарил отдельно, если хорошо пролезали, но мало пролезали хорошо. Залезая, я думал, что пролезу хорошо, но пролез скверно, а кор[пусный] все-таки поблагодарил.
Когда мы вернулись на плац из команды, на плацу никого уже…
Мы были отпущены до шести часов, пора домой, и делать в городе нечего, постояли, поглазели и отправились домой. Мы пришли ранее шести часов, и я с Моисеевым в полковой лавочке выпили еще пива.
Будничные дни проходили незаметно, но праздники были скучные, выйдешь за лагерь с каким-нибудь товарищем, говорить с ним нечего, и если что говоришь, то как-то через неволю, а то лежишь и думается вся прожитая жизнь и вся дорогая теперь воля, которую ранее не замечал и не ценил. Многомного разных невеселых дум передумаешь, а как тяжело, и выхода нет, и невольно миришься со своей участью, не ожидая впереди что-то хорошее. Эх, тяжела и грустна солдатская жизнь. Все что-то не хватает, что-то недостает, как больному человеку, которому болезнь напоминает, что он болен. Редко-редко подвернется счастливая минутка, как искра, вспыхнет и потухнет, и кругом темнота.
Тяжело и скучно, невольно вспоминаешь свою сторону, свободу и друзей. А «О» — к счастью или несчастью я полюбил ее в такое тяжелое для меня время? Что дает эта любовь? Ничего, придет время, и все разлетится, между нами стена, и стена непреодолимая.
Раз вечером я бежал из-за лагерей в палатку, меня кто-то позвал моим домашним именем, я оглянулся и, к своему удивлению, увидал Федюшку. Мне «О» писала, что его увели, но более ничего об нем не слышал… Увидя его, я сразу подумал, что можно узнать, что было после меня, и сразу начал его расспрашивать, что у нас хорошего. Оказалось, что он ничего не знает и я знаю более его из писем. Мне писали, что все говорили про нас с «О», а он сказал, что ничего не слыхал, так я и ничего не добился от него. Он еще обучался и не принял присяги. На другой день я сказал Ник., что Федюшка здесь, он захотел увидать его, и мы все втроем уселись на скамейку, говорили и смеялись. Я говорил Федюшке: «Я серый, а ты еще серее меня».
Двадцать девятого мая вся рота пошла на стрельбу, а меня отправили в сборные лагери рассаживать капусту. Нас было немного, человек пятнадцать: которые боронили, которые загребали и садили. Все были на отбор более российские, приехавшие с новобранцами осенью и прикомандированные в полк. Когда привезли обед, пошел дождь. Есть было на дворе нельзя, и мы, недолго думая, забрались в офицерское собрание, поставили банку среди полу и начали обедать, как обедали [нрзб.\ на постоялом дворе, толкая друг друга.
В сторожке был подп[рапорщик] седьмой роты со своей командой и, услыхав, что мы в собрании, прибежал и закричал: «Господи, да это невозможно!». Мы утащили банку на кухню, [но] и из кухни подп. нас выпроводил, тогда мы ушли с банкой под сарай и на навозе, среди грязи, кончили обед.
После обеда расползлись кто куда на отдых. Я забрался под самую крышу на перекладину и расположился там, как дома. До вечера мне пришлось таскать воду поливать капусту. Я сильно устал. Когда пошли в полк, была грязь, я промочил ноги и стер до мозолей. На поверке я незаметно для себя отставил ногу, когда играли «Коль славен», и отделенный Лобачев [нрзб.] мне за это наряд уборного на кухню.
Поверки в лагере мне очень нравились, когда играла полковая музыка, особенно когда играли «Коль славен». Какое-то приятное чувство охватывает в это время, и какие-то радостные неуловимые мысли вскружают голову. Уходя, музыка играет походный марш, и стрелки дают себе волю, особенно одиннадцатый год, ведь запас всегда провожают с музыкой.
Отделенный всегда заставлял меня сказывать сказки, когда мы ложились спать, а зимой, когда был дневальным, то дежурному никогда не дам уснуть ночью, все время болтаю, болтаю что-либо, когда и сам понятия не имею, что говорю.
Вечером тридцатого мая я пришел с кухни поздно, меня встретил дневальный и тотчас же заявил, что я назначен вестовым к полковому адъютанту. Я немного удивился, что так скоро получил командировку, а потом меня осенила мысль, что вестовой — лакей, и мне стало очень неприятно. Разве я думал быть лакеем? И как-то стало совестно самого себя, значит, я более никуда не годен, и меня всунули в первое попавшее место. Я сел возле палатки и долго, долго думал. Мне представилось, как будет недовольна «О», узнав, что я денщик. Я сначала подумал, что ничего не буду писать об этом, но потом решил написать, а там будь что будет. Если любит, то не разлюбит, а если делает вид, то напишет, что не то от меня ожидала, и все кончено.
В палатке мне отделенный сообщил то же. Тревожные мысли мучили меня всю ночь, и я долго не спал, обдумывая свое положение.
Мне очень хотелось отделиться от строя поскорее, и я знал, что скоро уйду, по намекам своих начальников, но не знал, когда именно — осенью или сейчас, командировки были всегда осенью после стрельбы, и не отпускали ни одного стрелка из роты ранее стрельбы, каков бы он ни был. <…>
Встав утром, я тщательно умылся, подчистился, как полагается солдату, и одел все, что было получше. Дождавшись восьми часов, отправился к адъютанту.
Только что пришел на кухню, денщики, взглянув на меня, захохотали, я не мог понять, чему они смеются. Пришел адъютант и спросил, как зовут, — я сказал. «Готовить умеешь?» — «Никак нет, в[аше] б[лагородие]!» — «А солдатский суп варишь?» — «Так точно, солдатский сварю». — «А думать умеешь?» — «Так точно, умею». Адъютант ушел, денщики опять засмеялись.
Я был, как слепой, и не знал, за что взяться. Денщиков было много, четыре человека, и каждый учил по-своему, какое-нибудь одно дело учили на разные манеры — я запутывался, и голова моя кружилась. Я сразу же возненавидел всю эту суетню, и начинать что-либо делать мне казалось прямо противным, приходилось каждый раз приневоливать себя.
В первый же день вечером привезли уголь и свалили в сарай, мне приказали бросать его в угол. Пришел адъютант и сказал: «Склади дрова, видишь — развалились. Так будешь делать — я тебя буду ставить в учебную команду под ружье».
Меня так это поразило, что я остановился и не знал, что думать. Только пришел и еще ни за что не принимался, а тут сулят под ружье. А мне и в роте почти не говорили, что поставят под ружье.
После адъютанта пришел ко мне денщик, которого я сменял, и стал рассказывать, как ему жилось. По его рассказам выходило, что жить и дня невозможно. Он говорил, что за каждый пустяк барыня рада нахлестать по щекам и жалуется адъютанту, а он ставит под ружье.
Венгерский ушел, и я, убирая уголь, обдумывал свое положение. Надежды на хорошую жизнь не представлялось.
В то время, когда я пришел к адъютанту, на квартире жили четыре офицера: командир нашей роты, п-к Готлибов, подпоручик Линко и адъютант. Наш ротный переходил в роту, а жена его уезжала в Киев с детьми. Ротный, адъютант и Линко помещались в одной половине дома, и готовили обед на одной кухне, а Готлибов помещался в другой половине, и готовили на кухне через коридор.
Денщики смотрели на меня подозрительно и смеялись над моими неудачами. Денщик ротного Зиновьев обращался со мной хорошо и учил меня, как что делать. Спали мы с ним на дворе в сарае, и он мне рассказывал, как жить и вести себя.
На другой день по вступлении в денщики Зиновьев повел меня на базар, дорогой рассказывал, где что покупать и какие цены. Город я не знал и не был в нем, если не считать того, что несколько раз приходил в баню. Торговали китайцы и за все запрашивали втрое, а цены с нашими не сходны. Через два-три дня я уже пошел на базар один.
Ротный перешел в роту, и Зиновьев ушел, а другой его денщик Травкин остался у нас и жил так себе, не зная, за что приняться. Тут же были и денщик Линко Спиридон, и няня адъютанта — девка, как кобыла. Вскоре и Травкин ушел в роту, и я остался со Спирид[оном] и няней.
Готовить учила меня барыня. Я часто, стоя около нее… чуть не называл ее вместо «барыня» «О-й». Спиридон ничего не пособлял готовить и убирать комнаты и, когда нужно, ставил самовар. Няня тоже ничего не кухне не делала, а если придет, то приказывает делать то, что может делать сама, за что я ее невзлюбил, а отказаться было нельзя, служба заставляла повиноваться… Вообще, я чувствовал себя как на иголках, вся работа, вся жизнь моя были мне до безумия противны. Я делал все неохотно, и у меня выходило много ошибок, которые меня еще более злили, а тут еще не было денег и главное — писем.
Я хотел уйти в роту обратно, но меня бы не пустили, а делать так, чтоб прогнали, не хотелось. Наконец, я решил проболтаться до осени и уйти в роту, а когда будет увольняться одиннадцатый год, занять какое-либо нестроевое место. Я думал, что попрошу ротного, чтоб он назначил меня писарем в канцелярию полковую, и, обдумав все это, решил все так и сделать.
Давно пора получить письмо от «О», а письма все нет, и не знаю почему. Несколько раз хотел писать, но не было денег на марку, а потому писать все откладывал.
Заколотил дружбу с готлибовским денщиком Францем, он мне давал суп, хлеб и сахар. Хлеб я брал из роты, и мне не хватало, ела нянька, а отказать не смел, приказывала есть ей барыня. Все время в скверном расположении духа и хвораю. Хвораю не очень, но сильно слаб, устаю и худею, похож на покойника. На сердце неспокойно, стараюсь успокоить себя — не удается, еще хуже делается.
Написал «О» письмо карандашом, не было чернил, конверт дал Спиридон, и стыжусь его содержания, а когда послал, то начал жалеть, что послал, вернуть нельзя, что сделано, то сделано.
Понемногу дурное настроение стало проходить, а здоровье было слабое. В лазарет не ходил,-думал, что все одно, что будет — пусть будет.
У Франца с няней вышло какое-то недоразумение, и его отправили в роту. Я очень жалел, что Франц уходит, он мне много делал хорошего.
Батальон наш ушел на Барановский полигон, и Спиридон ушел со своим офицером. Я остался один. Работы прибавилось, вставать приходилось рано, ложиться поздно, это еще более расстраивало мое здоровье. Болела грудь, тяжело дышать и кашлял. Думал: пойду в лазарет только в крайнем случае. Болели ноги. Едва кончил день. Я думал: [если] сильно разовьется болезнь, пойду в лазарет и или умру, или уволят по слабости здоровья.
Адъютант и барыня посылали в околоток, я отказывался, говоря, [что] это пустяки. Когда приехал Спиридон, барыня после обеда отправляла спать или сам уходил, когда нечего было делать. Наконец, мне надоело хворать, и я пошел в околоток. Меня осмотрели и сказали: «Приходи завтра, положим в лазарет». Я ушел и более не пошел.
Получил от «О» письмо, от которого веяло холодом, и она выговаривала за мое письмо.
Я очень обрадовался письму, и у меня стало спокойнее на душе. Я писал «О», описывал всю свою жизнь и написал между прочим: «Будешь ли ты любить меня денщиком?» Она ответила на это: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит». Дорогая «О», чем я отплачу за твою любовь ко мне?
Покупать я ничего не знал. Покупали много зелени, и я не знал, как ее назвать и путал названья. Раз мне барыня приказала купить десять пучков щавеля, а я купил шпината… Барыня вспыльчива, и от нее мне часто попадало: то пережарю или недожарю, или нечистое что или нехорошее куплю. А китайцы не отдают за ту цену, за которую приказывает купить барыня. Время мало, покупок много, бьешься, бьешься и берешь, что дают, и попадает. Когда так доймет барыня, что хоть беги… запутаешься и не знаешь, за что взяться, за что возьмешься, то и неладно. Но когда ничего, хоть что и наделаю и знаю, что виноват, ничего не говорит.
«О» писала, чтоб я как можно попадал в писаря, и я писал, что осенью уйду в роту и буду проситься у ротного. Одежда вся пришла в ветхость, дали казенную гимнастерку — была большая, и каждый раз, когда пойти на базар, приходилось загибать рукава, чтоб не болтались. Сапоги казенные развалились, починять не было денег, начал носить свои, и тоже скоро должны отказаться, а место чертово, без железок на неделю не хватит, все подошвы изотрешь об камни. Писал братьям, просил денег — ни денег, ни писем от них не было. От «О» письма ходили.
Нянька смеялась надо мной и сердилась, если я отказывался ей делать, Спиридон поддерживал ее, и что бы ни случилось, виноват был я.
Да, положенье было хоть куда, и писать не стоит — и так не
забыть.
Мало-помалу я начал привыкать, сам того не замечая, няня вязаться не стала и смеяться также, а если я на ее осержусь за что-нибудь и мне, конечно, никак нельзя выместить зло, то я делал так: когда она придет на кухню и сядет обедать, я встану перед ней и начну петь, обмажу нос, усы и всю маску, она не вытерпит и убежит.
Я рассказывал Спиридону, как я жил дома и вообще все свои приключения, он не верил и говорил, что так невозможно и никогда он не слыхал, чтоб так жили ребята и девки. Иногда слушала и няня мои рассказы. Я рассказывал про Наташку, как она у меня жила, и про Марфу и т.д. Только одна «О» была у меня себе на уме, и рассказывать про нее было нечего, таких друзей в шутках не поминают.
Иногда на меня приходила веселая минутка или было скучно, и я старался развлечь себя, болтая Спиридону и няне такие рассказы, что они смеялись и приходили в изумление, дивясь моей способности говорить.
Я, пожалуй, бы и не думал ничего, но меня сильно тревожили письма «О». Она настаивала, чтоб я попадал в писаря, но что же я мог сделать? <…> Оказалось, что без помощи адъютанта в писаря попасть нельзя, он был, так сказать, командиром всей писарской команды и заведовал всеми делами полка, как второй командир полка или его помощник. Чтобы попасть в писаря, надо было обратиться к адъютанту. Я сначала обратился к барыне, готовя обед, когда она в веселом духе, и понемногу рассказывал про свою жизнь и свое домашнее положение и с какими мыслями я ехал на службу и жил в роте. Одним словом, я говорил, что за свое слабое здоровье и неспособность к крестьянскому труду очень хотел бы чему-нибудь научиться на службе, чтоб устроить свою жизнь в будущем. Живя в роте, мне очень хотелось поступить в полковую канцелярию писарем, так как я к этому несколько подготовлен. «А сейчас разве нельзя?» — говорила барыня. «Почему же нельзя? Можно. Это дело барина. Если бы он вздумал, то в одну минуту сделал бы меня писарем!» — «Хорошо, я скажу ему», — говорила барыня. Мне только этого и надо было, я думал, что он барыню лучше послушает, чем меня.
Адъютант, узнав, что мне хочется в писаря, сказал мне: «Ты здесь научишься готовить и дома будешь получать хорошее жалованье». Я ему в коротких словах разъяснил свое домашнее положение, и он сказал: «Живи у нас, а там посмотрим».
Адъютант сказал ротному, и ротный мне объяснил, что я слаб здоровьем и потому в писаря негоден и что в писаря берут сильных и здоровых солдат. Что же мне было делать? Просить его и настаивать я боялся, с начальником говорить — как зажженную лучину держать над рассыпанным порохом. Ротный-то был, пожалуй, и ни при чем, тут надо было просить адъютанта, а [он] не отказывал и не подавал надежды. Я часто напоминал барыне, но и она ничего более ему не говорила.
А вот не было у меня денег, так адъютант несколько раз говорил ротному, а когда я ему сказал, что мне посланы из дому деньги, то он справлялся по приказам, не было ли в приказе и не отдает ли их ротный.
Скоро я познакомился с китайцами, и мне стало хватать двух часов сходить на базар.
Бывши еще сначала в дурном расположении духа, я писал «О», что был в городе и узнал все на свете. Эта поговорка «все на свете» — солдатская. А «О» написала: «Что ты узнал в городе все на свете, город, что ли, изучил?» А что ж я мог узнать в городе более, как китайцев и цены на товары? Более ничего.
В одном письме мне «О» писала: «Если девушку берут замуж, то требуют, чтобы она была чиста. Ты мне говорил, что я тебе дороже жизни, возмущался житейской грязью, но изменял своим словам. Даже на шестое декабря, я знаю, где была «Д» в эту ночь. Где у тебя сила воли?».
Я сначала мало обратил внимания на эти слова, потому что не понял их смысла, но потом, перечитывая письмо, я сразу понял смысл этих слов. Что же я мог тогда сделать, когда со всех сторон был запутан, как паутиной, этими делами. Я говорил и возмущался житейской грязью потому, что мне вся та жизнь надоела, а в «О» я видел другую — чистую, светлую жизнь и любовь, но не мог же я все это бросить сразу, так как от меня этого требовали и даже имели право требовать, не все, а Р. Если бы я остался от службы, то все бы это кончил своевременно, а тогда Р. приехала только для этого, не мог же я отказать ей удовлетворить ее желание. Все нити с этой жизнью у меня не были порваны, и время было такое, что бросать было уже не [к] чему. А если бы я остался и «О» так же бы любила, то не пришлось бы ей писать или говорить мне все то, что писала сейчас. Если бы знала мою жизнь сейчас, то едва ли бы укорила меня в этом…
Говорили, что денщики хорошо едят, но у нас не объешься. Чуть ли не каждый день ходил в батальон за супом, на троих едоков совершенно не хватало, а особенно мне, когда я еще был серым и не знал порядка. Покуда убираю со стола, а на кухне все съедят. А потом научился: иду от стола до кухни и что есть на тарелке слопаю. Помучишься — научишься, голод и служба не родные братья.
Адъютант и барыня часто спрашивали, получил ли я деньги от ротного или из дому, и узнав, что нет, адъютант обещал поговорить ротному. Я и сам говорил, но он все говорил «отдам», а время шло и я почти остался без сапог.
Наконец, пятого сентября получил карточку «О» и письмо от «О», из дома пять рублей денег. Письмо не особенно обрадовало, «О» писала, что Варя утонула. Ехали из речки, что ли, домой и вывалились.
Утка не утонул, а Варя утонула. Прочитав письмо, я едва сдерживал слезы, жаль было Вари. Но в письме сверху была приписка: «Про Варю сказала Палаша. Она здесь в Тобольске, и мы поедем в Нялино вместе». Я не разобрал настояще и подумал, что Варя в городе и что Палаша только говорила про смерть Вари напрасно…
Деньги я израсходовал, сразу купил гимнастерку, брюки и починил сапоги. Когда мне сказали, что есть в роте письмо и карточка, я обрадовался, думая, что карточку послала Оля, сейчас же побежал в роту часов в шесть утра. Наш взводный [нрзб.] Зайцев, отдавая мне письмо, сказал: «А ну-ка я посмотрю, что за карточка». И разорвал конверт. «Это кто?» — спросил он, смотря на карточку. «Сестра», — сказал я. «А она много красивее тебя», — сказал Зайцев, отдав мне карточку.
Набежали стрелки и не давали никак положить карточку, выхватили из рук и рассматривали. Всем показалась «О» очень красивой. Я, смотря на них, хохотал, как они дивились карточкой. А потом рассказывали другим стрелкам, что у 3. такая красивая сестра, что такой никогда не видали.
Спиридон со своим барином переселился с нашей квартиры в город, и я остался один и больной. Работы прибавилось, и приходилось топить еще печи, хоть и было тепло. Всех пять печей, топил три-четыре. Сначала ходил музыкант из музыкант[ской] к[оман]ды, так как адъю[тан]т состоит к[омандиро]м музыкантской] к[оман]ды, а потом не стал ходить, и мне приходилось топить печи и готовить обед одновременно. Прямо могила растоплять: много дров не дают, а положишь немного [нрзб.] — угли не горят, а надо скоро, и бегаешь как угорелый, и голова болит, и кашель — хоть зарывайся. А то еще куда-нибудь пошлют, придешь — то все всплывет, то потухнет, а барыня за последнее время так была зла, что не могу описать. Хотел куда-нибудь подаваться, в лазарет или в роту. Барыне хотелось, чтоб приехала ее мать из Петербурга, но мать ее почему-то медлила приездом, и из-за этого барыня была так сердита.
Утром надо на базар, а она посылает за молоком, за которым проходишь до восьми часов, и на базар времени остается только час. Вот и летишь — только дома мелькают, а до базару более версты будет. Нянька тоже ушла, и привели другую, она ничего не знала — еще и за ней ходить надо, и что неладно сделает, я же виноват.
Плохо было, плохо. Ноги болят, устанешь, сядешь отдохнуть — придет барыня и начнет: это надо сделать, то не сделал.
Думаю: [нрзб.\ был бы здоров — сделал. Иногда ругает из-за такого пустяка, что не могу удержаться и хохочу.
С половины сентября оздоровел, и стало лучше. Барыню уговорил оставлять бутылки и заходить за молоком по дороге из города. Позволила. Если не успею, то печи топить после обеда. Позволила.
Няня новая сразу поняла все дело. Она мне не пособляла, а только мешала. Не могла подать самовара…
Хуже всего топить печи. Углями топить хуже, чем дровами, надо часто мешать, а пока затапливаешь две-три печи, время много уходит. Дров на растопку не дают, а положишь немного лучинок — угли не загорятся. Квартира холодная, топить надо много, а если истрачиваешь много угля, барыня говорит, что купишь на свои деньги. Мало топишь — говорят: не умеешь топить. Черт знает как и быть, так беда и так беда.
Первый раз при нарочных получил в конце сентября [деньги] и купил все необходимое: пояс, шароварки, гимнастерки и прочее. Всех денег мне приходилось с жалованьем и крупой шесть и около шести [рублей], смотря какой месяц, со днем или безо дня.
Мне барыня сказала: «Теперь я не буду ругаться, мама выехала». — «Я не верю этому, — сказал я. — С одной барыней беда, а две будет — еще хуже будет». — «Нет, мама не любит ругаться, она будет объяснять тебе все тихо, а я уеду в лазарет». — «Посмотрим. Что-то не верится», — говорил я. Барыня смеялась.
Раз китаец принес полведра раков на кухню, барыня купила и торопила сварить их, так как ад[ъютан]т уже обедал. Приказала мне складывать их в кастрюлю. Я взял ложку. «Клади руками, — говорила барыня. — Скорее». — «Нет, барыня, я не буду брать их руками. Противны». Она ругалась, пришел барин, стал мне пособлять, и ему попало от барыни.
«Что, Зах[аров], если бы барыня была ротным командиром, плохо бы было?» — сказал мне ад[ъютан]т. «Я бы первый убежал из роты, ваше б[лагоро]дие», — ответил я. Барыня сказала, что мне не даст раков. Я и не очень хотел их есть…
На базаре есть крабы морские. Тот прямо на черта похож, и вкус, и запах, когда варишь, такой же, как у рака. У краба едят только ноги, у него, кажется, восемь ног и два щупальца… Интересна камбала: почти круглая, как карась, и тонкая, один бок черный и с чешуей, а другой, каксвареный, — белый и без чешуи… Вообще, много рыбы и птиц, которых у нас нет. Щука похожа на нашу озерную и вся пестрая, по всей — черные пятна с большую горошину. Видел сорожек и, кажется, более никого из наших рыб. Здесь в употреблении более кета соленая, вкусная, тельная и мягкая. Соленой кетой кормят солдат. Свежую очень скоро жарить, только бросишь на сковородку — готова, вся разваливается. Потом сазан — похож на язя, а хвост, как у карася, и большая рыба, чешуя с двухкопеечную монету. Сом, как налим, у него на губе два уса и перья не так устроены, как у налима. У налима от средины тела идут плавники снизу и сверху, а у сома только сверху. Много и других незнакомых рыб, которым названья я не знаю. Спрашивал у китайцев и не понял, как они их называют.
Из птиц фазан похож на тетерю, на голове у него черная полоска, окаймленная красной тесемкой, а хвост длинный, как у сороки, только пестрый. Я жарил фазана [нрзб.], мясо, как у курицы. Бекас — ноги длинные, тонкие и нос — пол-аршина, как зуек, жареный вкусный…
Осенью мне трудно пришлось. Музыканты обивали комнаты и вставляли окна, мне приходилось [нрзб.] пособлять им, часто посылали за чем-либо, и работа моя стояла, а требовали, чтоб у меня все было в порядке.
Четырнадцатого октября отвез барыню на извозчике в местный лазарет. Ад[ъютан]т был на пробной мобилизации в г. Раздольном и к вечеру хотел приехать. Барыня в лазарет уехала в первом часу, из лазарета я пошел в город за покупками.
Я шел через китайский базар в первый раз. Улочки узкие, по обеим сторонам лавчонки, полно китайцев. Запах тяжелый, тут же палят свиней и пекут лепешки. Русских никого нет, видел одного солдата. Из города пришел в три часа, а в четыре позвали к телефону и передали из лазарета, что барыня разрешилась девочкой и благополучно.
Тотчас же барыня Готлибова спросила, где барыня. Я сказал, [что] в лазарете, и рассмеялся. Барыня спрашивала, почему я смеюсь, — я ей сказал, что скажу потом. Мне хотелось сказать первому эту новость барину.
Ад[ъютан]т приехал…
…а остальные командировки все ни к черту, жалованье везде строевое. Здесь все же хоть жалованье хорошее по-солдатски.
Но если бы получал те же семьдесят пять копеек, черт бы заставил здесь жить.
С денщика спрашивается немало, и за всякую пустяковину надо отвечать. Весь дом на денщике, недаром сапог не могу стащить вечером. В роте спят, а ты еще начинаешь самовар ставить, поспать-то более пяти часов не приходится. А в роте спишь себе восемь часов, будят, а ты уже давно валяешься, не спишь.
Со старой барыней пока хорошо, ей мало приходится пособлять, что-то далее будет.
Летом все получше: печей топить не надо, а один обед пустяк готовить, с него никуда не отдергивают. Вот мы были со Спиридоном — утром спишь до той поры только, чтоб успеть к семи часам вычистить сапоги. Самовар ставил Спиридон. Днем тоже делать нечего, я готовлю обед, а он спит. После обеда один спит, а другой дежурит. Часто оба спали, надо — так разбудят. А теперь совсем не то. Вечером можно бы уснуть, а боишься: зазвонит телефон, не услышишь доложить — попадет. Или уснешь — позовут в комнату.
Когда приехала барыня из лазарета, старая барыня настояла купить корову. Купили корову с полугодовалым быком, дали сто рублей и доить нельзя. Целый час доишь — молоко не спускает. Немного подоишь и подпускаешь бычка, пососет, и за уши оттянешь его, опять доишь. Я не дою, барыня старая доит, а я только таскаю быка за уши.
Утрами на базар ходить совсем трудно. Когда барыня поправится, семь часов, а пока доишь, около восьми. Черта ли купишь в час? А вечером доить в пять часов. Если пойти на базар в три, то очень трудно прийти назад к пяти, а в три часа редко приходится выходить. Бегаешь как угорелый по городу.
Когда барыня приехала из лазарета, ей не понравилось, что барыня готовит по-своему. Приказывает, чтобы готовил я по ее вкусу, а старая барыня не любит, чтоб в ее дела вмешивались. Если что подам, барыня говорит: «Почему не так, как я приказала?» Но что я могу сделать, раз старая барыня ничего не дает мне делать, и все я виноват.
Раз старая барыня шила, и обед готовил я. Мол[одая] барыня пришла на кухню и заругалась, что все не так, как надо. Но я знал, что делаю так, как нравится барину, и когда не было барыни, барин всегда хвалил за это блюдо. «Барыня, — сказал я, — вы ругаетесь, и я не могу ничего делать, а когда вас нет на кухне, у меня все лучше выходит». — «Посмотрим, — сказала барыня. — Если мне не понравится, я тогда вздую». И ушла. Когда я подал мясо, барин говорил: «Ты научился хорошее мясо покупать, всегда хорошее мясо. Молодец». — «Рад стараться, ваше благородие!» — крикнул я и убежал на кухню. Все хохотали. Потом нянька говорила мне: «Я спросила барина, почему ты так закричал, а он сказал: молодец, так полагается».
Я убирал со стола. Барыня сказала: «Сегодня битки очень вкусные были и барину понравились». — «Ну вот, барыня, если бы я сделал по-вашему, то ему бы не понравилось. Я без вас так делал, как сейчас, барину очень понравились, вот почему я и говорил, чтоб вы ушли из кухни».
Вот раньше, когда я еще не совсем выучился готовить, спрашиваешь ее, спрашиваешь, что делать, — барыня молчит, ничего не говорит. Или знаешь, что делать, а она не любит, чтоб я делал без ее позволенья, так тянешь-тянешь, придет ад[ъютан]т, и заторопится, забегает, и мне попадет, и барин сердится, что обед не готов.
Много таких пустяков, из-за которых мне часто попадает, и если бы был такой же барин, давно сбежал бы, а то он ни во что не ввязывается.
Начались морозы. Квартира плохая, неустроенная, везде продувает, топить приходится много, чтобы нагреть ее, угля много уходит… Печи холодные. Говорят, не умею топить. Черт знает, как быть. Еще нет больших морозов, будут морозы — придется класть по полторы банки, в месяц выйдет угля пудов сто. Печи любят, чтоб их часто мешать, а когда заболтаешься на кухне, загаснут. И печи устроены плохо: топится — подойти нельзя, а закроешь — холодная…
На той неделе Никитку я встретил в лавке. Мне надо было скоро, и говорить не пришлось. Он мне наказал обязательно прийти в роту в воскресенье вечером (десятого ноября). Я отпросился и пошел. Он встретил меня радушно, послал за булкой (солдатское угощение). Я за чаем написал от него письмо Даше, в котором он благодарил ее за деньги, которые она послала ему. Потом он показал мне письмо от Власка, где Власко писал, что я имел связь с учительницей, и когда Сенька увез меня в Селиярово, я во время вечерки сидел в кошеве и плакал, просился домой, а лошадь у меня запрятали. Кажется, еще что-то было писано, но Никитка изорвал письмо, и я взял обрывки с собой, прочитать не мог, много кусков было утеряно.
Сколько наврано опять, нет-нет и что-нибудь вспыхнет про меня, надоел, что ли, я им. Вот я получил последнее письмо от «О» от восьмого сентября, в Покров, в котором она пишет: «М. на тебя злится, что-то насказал Утка. Но она мне не говорит, в чем дело. Вот она сейчас сидит и говорит: «Черт Утку потащил, я его ругала, что он скрыл, а он говорит: тебя боялся». Варя что-то ей тоже говорила. Напиши, в чем ты перед ней виноват. Утка говорит, что ты говорил ему: «Я подарю учительнице] пять рублей за то, что я ее беспокоил».
Из всего этого видно, что Утка добивается до М., и говорят между собой то, что и не было. Но ведь я был такой, что про меня думали, что я на все способен.
Я ни в чем не виноват перед М. Только разве то думает Устинка, что ему говорила Мотька. И, конечно, потом мы его уверили, но, я думаю, в душе у него осталось подозренье. Мотька и Мар. сказывала, и у той осталось также подозренье, хоть я ее и уверил, что Мот. соврала, потому что сердилась на меня.
И вот Утка и М. сейчас обсуждают это дело, догадываясь по разным приметам, что это была правда. Я сильно боялся, что Мот. расскажет все, когда поедет домой, потому я и захворал, чтобы быть на проводах у Мот.
… в прошедшее воскресенье был у меня Муравенко (?). Мы с ним долго говорили, он мне сообщил, где находится «М.Ш.», я не знал, что он женился…. Мур. сказал, что он в Коневой и женился. Говорили также, что у Торопка в церкви сгорел иконостас. Когда М. ушел, я написал Шаш. открытку.
Был у Зманов. (?). Я ходил к нему за папахой, которую оставил по приезде в полк. Говорили, что, когда приедем в роты, у нас все отберут и все изгниет в цейхгаузе. Я, боясь этого, отдал папаху ему. Он сказал, что ее украли, когда он собирался на пробную мобилизацию. Не знаю, правда ли.
Стало холодно и очень нехорошо. На кухне мороз. Особенно худо вставать, трясет. Когда мороз, топишь печи или готовишь — приходится часто выскакивать на двор, а каждый раз шинель одевать нет времени, а в гимнастерке холодно.
Нет, очень худо сейчас, надо печи топить и пособлять барыне готовить обед. Если топишь утром часов в шесть печи две, то совсем мало придется спать, почти всегда ложусь в [нрзб.].
Может быть, Спиридон опять придет к нам, т.к. Линко едет в отпуск, и ему приходится идти в роту, а в роту ему неохота, и он сказал мне, чтоб я сказал барину, не возьмет ли он его к себе. Барин согласился взять. Если бы он пришел, тогда бы лучше было, он бы печи топил, а я бы только готовил обед. Если не придет, то придется топить две печи в шесть часов.
Что-то долго нет писем, а уже пора. Очень хотелось бы знать, как живется теперь «О». Последнее письмо меня беспокоит. «О» писала, что Никандр хотел послать из Тобольска рублей пятнадцать денег, хорошо бы было, я положил бы их в кассу, и тогда было бы у меня тридцать пять рублей.
Всех денег получил рублей около тридцати, а ничего нет, все размотал. Черт знает, никак не могу, чтоб [не] истратить деньги, надо у ротного взять книжку и класть в кассу, [а] то ничего не выйдет.
Кажется все, более писать нечего. Спросили бы меня, к чему я пишу, и я не сумел бы ответить. Я не знаю, к чему пишу, и дома писал, много ночей не спал, писал, и пришлось бросить книгу, лучше бы не надо ее брать сюда. Оставил бы дома, не пропала бы моя работа даром. Очень жаль мне ту книгу, много было писано того, что бы было сейчас надо.
Вот я рассказывал многим про свою жизнь в деревне, и никто не верил, а одиннадцатый год всему верили, что писано было. Еще летом, когда было свободное время, мне часто хотелось писать, только не на что было купить тетради. Я не знаю, как мне не надоедает писать. Мне почему-то все надоедает, и что начну делать — покажется неинтересным, брошу. Читать тоже, думаю, никогда не брошу, потому что, если я увижу книгу и думаю, что интересная, я не могу оторвать от нее глаз, а когда читаю — все на свете забываю. Чтение не приносит мне пользы, как и записки, часто от братьев мне попадало за чтение. Я не могу писать, как пишут ученые, но почему-то писать охота.
Теперь мне вечерами приходится сидеть, делать нечего, скука страшная. Читать нечего, хоть и можно достать книг, но всякий раз надо ходить и спрашивать. Когда дадут, а когда скажут: некогда. Писать же можно, никого не спрашиваясь.
Что я здесь писал, много не так, как было на деле, потому что многое позабыл…
…После этого я опять принялся читать. Читал в комнате, на кухне холодно и не [к] чему жечь электричество. Книга увлекла, в голове [нрзб.] воздушные замки. Если я буду читать часто, мне когда-нибудь попадет из-за книг, я не могу оторваться от интересной книги, и дело стоит, я даже боюсь их брать читать.
Сейчас ходил в собрание, носил гамаши барыне. Сегодня у них спектакль в унтер-офиц[ерском] собрании, и ужин в собрании. Должно быть, все офицеры, в коридоре много офиц[ерских] пальто и пальто бригадного командира.
Мне почему-то очень тяжело вставать по утрам. Заведу будильник на шесть и поставлю поближе, утром загремит — вскочу, заверну регулятор и опять на подушку головой. Крепко не сплю, а ранее половины, а то и трех четвертей седьмого встать не могу, и холодно к тому же. Старая барыня — настоящий будильник, встает в пять часов. С вечера только лягу, пробужусь — у барыни уже огонь, и не знаю, когда ночь прошла.
Раньше двенадцатого почти не приходится ложиться. Ад[ъютан]т приходит всегда в половине одиннадцатого. Еще ранее дежурный писарь по телефону скажет, чтоб я ставил самовар.
Вот картинка: над нами горит электрическая лампочка. Няня и я пишем. Стучит будильник, за окном шумит буря с первым снегом. Няня от меня сидит только в аршине… На столе миска с моченой соленой кетой, конфорка от самовара, лучины, только что приготовленные мною для самовара. Книжка, сборник солдатских рассказов, которую вечером взял в роте. Я еще хотел переменить книгу, когда в двенадцать часов ходил за хлебом в роту. Соловей играл в пешки и увлекся, не мог дождаться, когда кончит. Мне вместо хлеба дали сухарей… Наклали полную папаху, а сверху положили сахар. Пришел на кухню, барыня говорит: «Я думала, ты пирожное принес».
Эти два дня были очень теплые, но сегодня перед вечером пошел снег, а сейчас буря. Няня очень веселая, и мы с ней живем пока дружно, она меня развлекает вечерами, и вечера проходят незаметно. Без нее мне было бы скучно одному сидеть.
У меня нисколько не осталось военной выправки от роты. Мало-помалу возвращаются все мои деревенские привычки держать себя, то-то солдат из меня будет. Чем погордиться, если придется вернуться домой?
…Эх, и холодно же у меня на кухне, дует во все швы, а мороз-то подходящий. Черт возьми, топить нечем, угля мало, и тот с мусором, а барин сказал, что хватит на три дня. Сто пудов в месяц, а еще не было зимы. Пудов полтораста пойдет, если будут морозы. Прямо могила. Говорят, что много жгу. Положишь меньше — говорят: холодно, а не замечают, что как ветер, так и в доме ветер, во всем винят меня. Что бы ни случилось мимо меня, я виноват, отдуваешься.
Приду в роту — говорят: что ему, живет, булку ест. Повезло. А видели бы, как везет, попали бы на мое место — забыли бы говорить, что везет. Служба везде служба. Где не испытаешь, кажется, там хорошо.
Сейчас пишу, и пальцы не гнутся. Надел мундир, и толку нет, как на улице. С базару пришел, и ноги еще не отогрелись. Ходил, сам вспотел, а ноги замерзли. Строевые мерзнут в карауле, а я на кухне, верно говорят, что зима — зло солдата. Вот меня зима так и на кухне нашла.
Получил жалованье, и нет [ни] копейки. Расплатился с барынями и купил погоны и записную книжку. От этого месяца осталась от всего жалованья одна тройка, и то не знаю, улежит ли она до будущего жалованья. Черт знает, куда деньги идут, в роте семидесяти пяти копеек, теперь шести рублей не хватает. Надо написать братьям, чтоб не посылали денег. Хотел писать сегодня — отдумал, на марку денег нет.
Весь день думал, какой завтра праздник, и только вечером вспомнил, что Введение. У меня нет праздников, и когда праздник, то еще более работы.
Крутился все утро как черт, а хуже нет, как отдергивают. Барыня требует, чтоб я до девяти часов вытапливал печи и пособлял с[тарой] барыне готовить, а сама в то же время посылает то туда, то сюда, за какими-нибудь пустяками, которые можно сделать бы вечером после уборки посуды, когда свободное время. Это для меня хуже самого черта.
Думаю, что писать, записывать интересного ничего нет, и так [нрзб.] скучно. Кое-что бы надо починить, постирать — приниматься неохота, пока не нудит. Постирать еще успею, только седьмой час. Еще, может, горячую воду будет надо — купать девочку, купают ее, как утку, почти каждый вечер.
Думаю сходить в роту переменить книгу. Вчера вечером ходил. Соловей был дежурным и переменить отказался, а у меня такая охота пришла читать, что, когда он сказал, что книгу переменить нельзя, я чуть не всплакал и с горя пошел к себе и лег спать. Господа ушли в иллюзион, я проспал до половины десятого. Сначала мне няня мешала спать, пришла на кухню, говорила со мной… Я все-таки не встал, и она оставила меня в покое, пока не пришли господа.
Вчера… так крутило, что думал, сойду с ума. Утром в восемь часов барыня послала на мельницу за сечкой корове, а я с восьми до девяти топлю печи, и если не успеваю истопить в этот час, то топить приходится в то время, когда готовишь обед. Я ей говорил, что можно сходить вечером, тогда свободное время. С[тарая] барыня уговаривала — ничего не помогло.
Я не чувствовал себя, когда пошел на мельницу, более всего меня раздражало то, что у меня нет углей, а остался один мусор, которым топить трудно и ни черта от него жару нет. Черта ли будет тепло, когда тут сено, земля, осколки от дров и угольная пыль.
Сколько время продержали на мельнице. Не взял своего мешка, не было, управляющий мне сказал, что мешки не на его ответственности, доверенный не дал мешка, я опять ходил в контору, чтоб управляющий] написал ему записку, тут же китайцы принимали пшеницу, и доверенный не решался оставить их одних.
Когда пришел с мельницы, дверь на кухню была заперта. «Холера!» — крикнул я, стукая в дверь…
[На этом дневник обрывается, следующие страницы тетради вырваны]