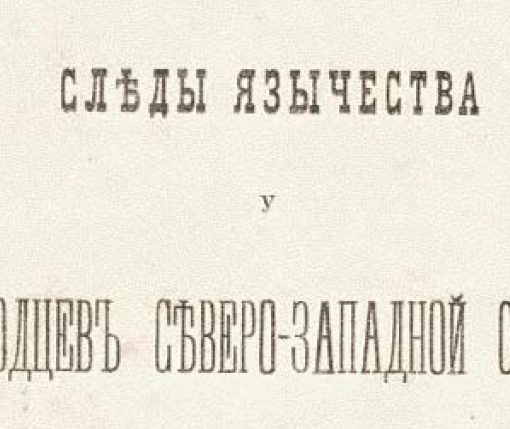Геннадий Николаевич Тимофеев
В 1907 году Кондинский Троицкий монастырь (он располагался на территории нынешнего райцентра Октябрьское) торжественно отметил свое 250-летие. О его великолепии писатель К.Д. Носилов, посетив монастырь в третий и последний раз, рассказывал друзьям: “Я прощался с божьим храмом летом… Вокруг — зеленая трава и сад, а в огородах росли картофель, репа, редька, капуста, огурцы, морковь, возделанные руками монастырских сестер. Я поразился опытным участком земли, на котором сеяли рожь, овес и ячмень. Все это — самое лучшее средство обратить остяков в оседлых жителей…”
Прекрасные воспоминания о Кондинской женской обители остались у Льва Давыдовича Троцкого, который побывал здесь в декабре 1906 года. Путь его лежал в Обдорскую ссылку.
Когда установился санный путь (“веревочка”) от Тобольска до Обдорска, кондинский ямщик Ефим Петрович Паршуков привез Троцкого в свою ямскую избу и пригласил на ночлег ссыльного и охрану из двух служивых людей. Утром следующего дня, осматривая окрестности красивого села, Лев Давыдович, будучи человеком неверующим, посетил местный монастырь из любопытства. Великолепие внутренней части обители поразило его не менее, чем красота строений в соседстве с церквями северной столицы, расположенных вокруг Смольного…
Больше всего Троцкого поразила на этом краю света богатая библиотека. Кроме книг светского и церковного содержания, в библиотеке имелось много рукописей в самодельных твердых переплетах. Среди них хранилось несколько томов писаний здешнего ученого монаха Василия Васильевича Вологодского (одного из родственников будущего премьер-министра Сибирского правительства в Омске). В одном из томов Вологодский записал множество любопытных наблюдений из жизни инородцев, сцены камланий и тексты, песен шеркальского шамана Каксина. Когда Л.Д. Троцкий рассматривал портрет Тобольского митрополита Филофея Лещинского, писанного в полный рост художниками Тобольских иконописных мастерских, и картину “Страшный суд”, подаренную монастырю еще царем Алексеем Михайловичем, дверь за алтарем жалобно заскрипела и, обернувшись, Лев Давыдович увидел вошедшую в игуменском облачении настоятельницу женской обители Серафиму. Сняв пенсне, Лев Давыдович низко поклонился монахине и тихо произнес: “Здравствуйте, я — Троцкий”. В ответ прозвучало: “Я вас знаю”.
Настоятельница обители от неожиданности и полной растерянности помотала головой, не веря своим глазам и ушам, повернулась и быстро скрылась за иконостасом. Она вспомнила Смольный институт и, склонившись к чуть приоткрытым “царским дверям”, через притвор, смотрела на Троцкого, ладонями рук смахивая с лица набегавшие слезы.
А Лев Давыдович, выйдя из храма, всю дорогу усиленно пытался вспомнить: где, когда и при каких обстоятельствах он прежде встречал эту красивую женщину. В момент задумчивости он по давней привычке пощипывал себя за вьющиеся волосы около правого уха, быстрыми движениями рук поглаживал холеную бородку. Но все его усилия вспомнить, где же он встречал настоятельницу, оставались тщетными.
Всю дорогу до Березова Л.Д. Троцкий пытался напрячь свою память, чтобы воскресить в ней столь дивное создание… Наконец, ему удалось признать в участнице мимолетной встречи одну из слушательниц Смольного института благородных девиц. Встреч с ней случилось немного, но они всегда были очень приятными и весьма значительными для обоих. Однако общение было неожиданно прервано по причинам, от них независящим… С тех пор прошло не так уж много времени, но как далеко занесла судьба людей, когда-то познакомившихся в теперь далекой российской столице. Эта красивая женщина по воле злого рока стала настоятельницей Кондинского женского монастыря, затерявшегося в самых глухих дебрях Зауралья. Что привело сюда бывшую слушательницу Смольного института? Об этом монахиня Серафима никогда и никому не рассказывала, а расспрашивать ее об этом никто не смел.
Дорога шла берегом Оби. На высоких песчаных увалах величественно покоились, могучие кедры, обильно осыпанные снегом. Левобережье, покрытое белым саваном, тянулось далеко-далеко к горизонту и там терялось в мареве тусклого зимнего дня. В морозной тишине плыл упоительный звон валдайского колокольчика. Душа и разум опального вождя революции невольно таяли в небытии, теряя себя, пространство и время…
Л.Д. Троцкий в Березово
Участники первой русской революции были жестоко наказаны. Виднейший из ее деятелей, будущий организатор Советского государства и Красной Армии Л.Д. Троцкий был арестован и выслан для отбывания срока ссылки в Заполярье – в Обдорск.
В конце декабря 1907 года он прибыл в Березово, не доезжая до места ссылки 500 верст. Расквартирован был в доме своего будущего спасителя Кузьмы Илларионовича Коровина (партийная кличка “Коровьи ножки”). Мужчина был коренаст, невысокого роста, с походкой человека, долгое время служившего в кавалерии. Взгляд его серых глаз был умным и проницательным. Хотя он был из рабочих, но по внешнему виду был похож на сибирского старообрядца.
Позже революционно настроенный Кузьма Илларионович за участие в большевизации Советов был предан суду, но при вынесении приговора Тобольский комиссар В.Н. Пигнатти добился для него смягчения наказания (будучи сам, по его словам, “народным социалистом”). После установления Советской власти на Обском Севере весной 1918 года, К.И. Коровин был избран председателем Реввоенсовета Березовского ревкома. А в 1923году председатель Реввоенсовета РСФСР Л.Д. Троцкий подписал удостоверение за номером 12380, в котором отмечалось: “Представитель сего… Кузьма Илларионович Коровин (“Коровьи ножки”) – старый друг революционеров, оказавший им неоднократно крайне важные услуги в ссылке… В частности, мой побег из Березова организовал тов. Коровин, который поплатился свободой, а потом, при белых, едва не поплатился и жизнью”.
За побег Троцкого березовекий исправник Иринарх Евсеев был уволен с работы, а его семья была вынуждена уехать в Тобольск. Но все это было позже…
Существенной разницы между Обдорском и Березовом не было. Более того, городок Березово был тем захолустьем, в котором отбывали ссылку опальный друг Петра Великого светлейший князь Александр Данилович Меншиков, канцлер России Остерман с семьей, князья Долгоруковы и другие. Учитывая гостеприимство семьи Коровиных, Лев Давыдович решил отбывать ссылку в Березово.
Засыпанный до самых крыш снегом провинциальный городишко жил своей размеренной, глубоко упрятанной в патриархальное благочестие жизнью. Только перезвон колоколов приходской церкви да шум озорной детворы в ограде уездного училища, открытого здесь в 1820 году, придавали Березову дыхание мирской обители. Отсутствие преступлений в нем не востребовало даже обычного острога, совершенно лишнего и несовместимого с “…доброй нравственностью здешних обывателей”.
В доме Коровиных всегда было чисто. Как и во всех домах поселения, в квартире Кузьмы Илларионовича стены были обиты шпалерами, стол накрыт белой чистой скатертью, в переднем углу несколько икон с горящими перед ними лампадами. Лев Давыдович был атеистом, вместе с тем, весьма веротерпим. При каждой встрече с верующими, или глядя на иконы, он в своем подсознании улавливал сомнения и противоречия, которые сознательно отгонял, не допуская их логического разрешения, из-за боязни победы души над разумом. Преисполненный воинствующим рационализмом, он согласен был с требованиями большевиков об отделении церкви от государства.
Троцкий целыми днями, раскладывая листки исписанной им бумаги, как игорные карты в хитросплетенном пасьянсе, еще и еще раз выверял свои позиции по отношению к теории и практике первой русской революции, проверял свои доводы в спорах с Лениным и большевиками. Троцкий описывал революцию так, как он ее совершал, будучи одним из ее вождей, вопреки тем, кто писал о ней, ее не совершая, кто мешал ее логическому развитию…
А может быть, он ошибался? Может быть, история революции пойдет иным путем? Может быть, большевики правы и видят намного дальше, чем он и его единомышленники? Во всех этих сомнениях не мог Троцкий предвидеть только одного: всего ужаса той трагедии, которую было суждено пережить России после прихода к власти большевиков. И только на склоне своих лет, далеко за пределами родины, “прокручивая” события и свои мысли он обнаружит правоту своих взглядов на единственно верный для России путь, который ей открывался после событий Февральской революции.
Упоительно мирными, по-домашнему уютными были для Троцкого зимние вечера, которые он проводил за чаем в нескончаемых разговорах с Кузьмой Илларионовичем Коровиным. Лев Давыдович знал, что сибирские крестьяне, не знавшие помещичьего давления, были более богаты, чем землепашцы центральной полосы России. Он понимал, что сибирское крестьянство стоит далеко от политики и от революции, был уверен в том, что крестьянство в целом (тем более, — сибирское) на революцию не пойдет. Главное требование крестьян состояло в том, чтобы власти отдали землю тем, кто ее обрабатывает. Большевики же после своего прихода к власти хотели сделать землю общей. Это крестьянам понять было труд. С незапамятных времен смутного периода в России они хотели только одного: получить землю в свои руки. Будет у них земля — будет у них хлеб и свобода.
В разговорах о земле Лев Давыдович и Кузьма Илларионович находили общее мнение. Правда, Троцкий, учитывая пассивность крестьян, с жителями Березова почти не встречался. Да и сами обыватели городка в первые дни поселения Троцкого сторонились не только его, но и Кузьмы Илларионовича, приютившего у себя ссыльного. Но узнав от с Коровина, о чем он разговаривает с Троцким, сельские жители стали маленькими группами навещать квартиру Кузьмы.
Лев Давыдович был одним из самых лучших ораторов своего времени. Рабочие на фабриках и заводах, слушая изумительные по логике выступления, всегда чувствовали высокий слог, глубину мысли, которые, опираясь на реальную жизнь, ни у кого не вызывали сомнений… И сколько бы ни были пассивны революционным преобразованиям сибирские крестьяне, — они по-своему их обсуждали, по-своему оценивали подписанный царем “Манифест 17-го октября”, не исключая домыслов и кривотолков. Беседы о “Манифесте” не были крамольными, и березовские миряне хотели услышать о дарованных свободах от столичного человека. Они интересовались, главным образом, экономическими вопросами, сохраняя традиционную верность царю и Отечеству. Правда, и здесь, в таежном захолустье, жестокость полиции или вымогательства незадачливого священника иногда становились причинами “трений”, но эти скандалы не переходили в осуждение существующей системы в целом.
Троцкий прекрасно понимал, что крестьяне, если и поддерживали социал-демократов или эсеров, то это совсем не означало, что они составляли самостоятельное движение… Часто он приходил к мысли о том, что крестьянство — это сила, склонная к насилию и анархии, как только ослабевает над ней контроль и власть государства.
При свете самодельных лампад беседы Троцкого с крестьянами длились до позднего вечера. Они не утомляли, они успокаивали мятежный дух вождя революции и вселяли четкий алгоритм в его теоретическую схему дальнейших перспектив русской революции. О них он тоже, весьма осторожно, рассказывал гостям, увлеченный не духом пророчества, но глубочайшим знанием истории России ясным представлением пути ее развития с учетом расстановки социальных сил и четким пониманием ошибок политических партий, которые боролись за власть. В подробности своих разногласий с большевиками в разговорах с гостями он не вдавался. Но то, что было интересно крестьянам, рассказывал так, чтобы была понятна сама суть этих разногласий.
Однажды Кузьма Илларионович за поздним чаем, когда все гости разошлись, сказал:
— Лев Давыдович, нельзя вам сидеть здесь, надо бежать в Россию.
— В Россию — нельзя, а за границу — нужно, — ответил Троцкий не задумываясь.
С того памятного дня началась подготовка к побегу из Березова.
Побег Л.Д. Троцкого из Березова
Шел март 1907 года. Однажды поздним вечером Кузьма Илларионович Коровин вывез Троцкого на своей лошаденке за село и в березовой роще, где ждала его оленья упряжка, тепло простившись, отправил Льва Давыдовича в город Ивдель. Время побега было выбрано удачно. Начиналась весенняя распутица. Всякая связь Березова с внешним миром затихала, и это усыпляло бдительность властей, обязанных присматривать за ссыльным поселенцем.
Редко кем езженной просекой, по которой по особой нужде, от паула к паулу, иногда ездили здешние вогулы и решили воспользоваться Троцкий с Коровиным.
Лев Давыдович впервые видел приуральскую тайгу в ее самых отдаленных окраинах. Она произвела на него сильное впечатление. Больше всего поражала величественностью ее кедровых урманов и сосновых боров, которые рассекались широкими болотами, еще сплошь покрытыми снежными завалами. Особенно привлекательными казались таежные перелески в лунные ночи. Погода стояла тихая и теплая. Спокойная езда под звон колокольчиков оленьих упряжек располагала к глубокому раздумью. И перед ним “пролетали” события последних пяти лет, так сильно встряхнувшие Россию и ее многострадальный народ.
Вспоминались эпизоды борьбы различных партий политических группировок, обострившие противоречия между большевиками и меньшевиками.
Но Троцкого больше всего беспокоили пагубность и возможные трагические последствия от позиции большевиков, утопичность и порочность которой так хорошо видели Маркс, Плеханов и Каутский. Все беспокойство это сводилось к тому, что тактика большевиков предусматривала насилие, диктатуру и неизбежность кровопролития
В Няксимволе Троцкий сделал трехдневную остановку. Остановился на квартире у Трапезникова, жившего с семьей в добротном пятистенном доме, расположенном на самом берегу Сосьвы. Далее Льва Давыдовича было решено сначала везти до Николая Кирилловича Самбиндалова, который жил в своем пауле за Усть-Маньей, с тем, чтобы тот на своих оленях отправил его через Бурмантово и Талицу в Ивдель. Этот отрезок пути был самым важным и самым сложным. За Усть-Маньей начиналась мало кому известная дорога по предгорьям Урала. Там заканчивались земли Березовского уезда, там начиналась железная дорога, ведущая в Россию.
К вечеру второго после выезда из Няксимволя дня, не останавливаясь в Усть-Манье, Троцкий проехал в Евтын-сос, где жил Самбиндалов и его сын Николай. Селение состояло из нескольких паулов, в которых жили братья Самбиндаловы с семьями. Почти все они имели по несколько десятков оленей.
Маленький ростом, очень подвижный проводник — вогул Анемгуров (по прозвищу “Худы Костя”) — представил Самбиндалову Льва Давыдовича как ученого изучающего реки Сибири… Он подал записку от Трапезникова. Прочитав, Самбиндалов бросил ее в огонь чувала. Он был грамотным — две зимы учился в Березовском училище, когда там смотрителем был Николай Алексеевич Абрамов.
Николай Кириллович Самбиндалов внешностью был похож на индейца. Глаза его, черные, как спелые смородины, тонкий с горбинкой нос, необычный для манси, выдавали невогульское происхождение. Каково было удивление Троцкого, когда он в переднем углу просторного и чистого дома увидел несколько икон с горящей перед ними лампадой. Еще больше поразило Льва Давыдовича то двоеверие, которое исповедовал Самбиндалов. Он был шаманом. В то же время он, как и его жена, был крещеным. Как все это совмещалось, супруги Самбиндаловы объясняли довольно просто: Бог-един. Троцкий, будучи неверующим, мало интересовался богословием, и такой ответ был для него вполне убедительным.
До Ивделя предстояло преодолеть еще более ста верст. Сын Николая Кирилловича должен был ехать туда к знакомому сапожнику Ивану Ивановичу Шаршину, чтобы договориться о временном жилье для Троцкого и купить ему билет до Екатеринбурга.
Весна не торопилась. Погода, как всегда в этих местах, была крайне неустойчивой. Лев Давыдович, сидя у теплого чувала, делал кое-какие записи в блокнот.
А вечерами, когда Самбиндалов возвращался с охоты или рыбалки, они до поздней ночи вели разговоры о недавних событиях в России. Николаю Кирилловичу оставалось только дивиться тем подробностям, о которых рассказывал гость, не ведая о том, что перед ним сидел один из вождей первой русской революции и председатель Петроградского Совета рабочих депутатов. В целях конспирации Троцкий рассказывал таежному охотнику о событиях революции как один из ее рядовых участников.
Николай Кириллович, не ради простого любопытства спрашивал, гостя о том, ради чего люди поднялись на борьбу друг с другом. Слухи и отрывочные известия об этом доходили на край света в разных толкованиях, разобраться в которых было трудно. Когда же Лев Давыдович рассказал о позиции большевиков по поводу национализации земли, старый охотник никак не мог понять, как же можно добывать пушного зверя, соболя, дикого оленя, если земля будет общей. На миг он представил большую деревню, в которой живут десятки охотников, сообща владеющие капканами, ловушками, сетями, лодками, оленями, собаками и лыжами, имеющими общие угодия: реки, озера, тайгу. Ему было совершенно непонятно, как люди могут так жить и все враз пользоваться одним и тем же. Поэтому он полностью разделял точку зрения Троцкого, который говорил, что общая земля — это ничья земля, что она, как и угодия охотников и рыбаков должна иметь одного постоянного хозяина…
Когда же Троцкий стал однажды рассказывать о равноправии и о национально-культурной автономии как о главной сути, Самбиндалов это быстро и хорошо понял. Он, как бы убеждая себя в правоте своих суждений, сказал: “Все должны быть одинаковы, никто не должен быть ни “над”, ни “под”. Троцкий невольно улыбнулся, услышав столь лаконичное определение права нации на самоопределение, и остался доволен таким пониманием сути национально-культурной автономии.
На второй день после этого разговора стало теплее. Ветер утих, над тайгой поднялось солнце. Троцкий, выйдя из избы, увидел высокие сосны, темный кедрач на другом берегу речки и залюбовался столь дивной красотой приуральской тайги. Слева был слышен отдаленный шум падающей воды.
— Что там за шум? — спросил Лев Давыдович у Самбиндалова, сидевшего на нарте и очищавшего ивовые прутья для гимки.
— Это перекат шумит на речке, — нехотя ответил Николай Кириллович.
— Я пойду посмотрю.
— Иди. Только выше переката не ходи. Гору увидишь, — иди обратно. За горой живет Ворсик-Ойка. Он — лесной дух, я — его хранитель. Туда могут ходить только мужчины нашего рода. Там наше священное место.
Тропинка к перекату шла по самому берегу речки. На открытых местах, где успел сойти снег, были хорошо видны корни могучих деревьев, переплетенные в тугие узлы, похожие на гладкие, почерневшие от времени кости. Минут через пять ходьбы Троцкий подошел к большому перекату. Под обнаженным каменистым увалом, на котором росли стройные сосны с медно-золотистыми стволами, перекатываясь по большим валунам, плескалась вода. С камней скатывалась прозрачная волна и ее пенистые гребни медленно растекались по омуту. Картина эта была таинственной и торжественной. Сглаженность рельефа и каменистый увал, заросший лесом, напоминали о близости Урала. Здесь все реки текут поперек Каменного пояса, образую пороги и перекаты в узких долинах.
Долго стоял Лев Давыдович у шумного переката, очарованный этим чудным уголком дикой природы. Именно в эти минуты он ощутил весь ужас братоубийственных событий на Красной Пресне в декабре 1905 года, когда в грохоте выстрелов совершалось чудовищное кровопролитие. Какое зло творят себе люди и какое умиротворение царит в природе! Троцкий впервые ощутил всю пагубность человеческого зла и доброту философии незримо мыслящей природы. Видимо, прав был великий Жан Жак Руссо, когда звал людей “назад в природу”.
Не удержался Лев Давыдович и заглянул за увал, где находилось священное место, охраняемое Николаем Кирилловичем. Пройдя метров сто по тропинке, обогнув увал Троцкий увидел на самом берегу избушку на высоких столбах-опорах, приставная дверь которой запиралась двумя деревянными поперечинами, вложенными в железные скобы, вбитые в косяки. Чуть виднелись остатки старого столба, обмотанного разноцветными тряпками, и длинное бревно у большого кострища.
Метрах в десяти от столба стоял деревянный идол, грубо вырезанный из толстого кедрового ствола, высотой более метра. Голова у идола занимала третью часть обрубка. С двух сторон лицевой части были сделаны глубокие плоские выемки, образующие глазные впадины и щеки. Широкой поперечиной были обозначены брови и таким же образом вырезаны глазницы, на короткой шее — привязаны полоски белой и красной ткани, которые судорожно “вздрагивали” при каждом движении ветра.
В целом “пейзаж” производил гнетущее впечатление, невольно появлялось чувство какого-то необъяснимого, остро ощутимого мистического страха. Возникал он не от ощущения святости, а от присутствия каких-то, как показалось Троцкому, реальных живых существ. Чтобы освободиться от наваждения Лев Давыдович поспешил уйти от святилища, где, видимо, часто совершались ритуальные варварские обряды.
Подойдя к перекату, Троцкий снова остановился, охваченный восхитительным зрелищем, и, умиротворенный необъяснимым чувством сопричастности с этим великим чистилищем лесной воды, он вернулся в мансийский паул.
Завершение ссылки Л.Д. Троцкого
Троцкий, еще не доходя до дома Самбиндалова, услышал разговор людей и перезвон колокольчиков оленьих упряжек. Выйдя из Леса, он увидел у дома Николая Кирилловича мужчин, которые, взяв за руки лежавшею на нартах человека, внесли его в дом, стоявший рядом с домом шамана. От Трапезникова Лев Давидович слышал, что Самбиндалов был большим шаманом. Он мог угадывать будущее, лечить людей, знал заговоры. В округе ходили разные слухи о чудесах и фокусах, которые шаман искусно демонстрировал зрителям. Выдался случай увидеть камлание, и Лев Давыдович в ответ на пояснение Самбиндалова о том, что привезли больного, попросил разрешения посмотреть, как шаман будет лечить приезжего.
“Камлать буду ночью”, — сказал Самбиндалов. Он взял пучки сухих трав, принесенные с вышки, от которых шел острый запах, и стал растирать их ладонями, рассыпая по долькам на семь маленьких кучек.
Он долго смешивал одни травы с другими, что-то нашептывал, ссыпая их в две большие железные кружки. Оставшиеся смеси трав шаман завязал в отдельные тряпочки и положил их за пазуху своего старенького совика. Затем он сел возле очага, поджав под себя ноги, уперся взглядом в горящие угли чувала и, отрешенный от всего, просидел так не менее часа.
Когда на улице совсем стемнело, Николай Кириллович принес из амбарчика шаманский бубен и кивком головы пригласил Троцкого следовать за ним в соседний дом, где лежал больной. Там было тихо. В левом от входа углу в чувале горели дрова, поставленные вертикально, над ними висел большой медный чайник с кипящей водой. Больной лежал на нарах, накрытый красивой женской малицей. По обе стороны от него сидели мужчины, негромко переговаривавшиеся друг с другом. Николай Кириллович подсел к чувалу, приставил к нему бубен, чтобы нагреть его кожу от огня. Он сидел спиной к мужчинам, смотрел на горящие в чувале поленья и что-то негромко шептал. Затем начал часто стучать в бубен колотушкой. Неожиданно быстро вскочил на ноги, закружился на одном месте, сгорбившись и кривляясь, по-прежнему заглядывая в дымоход чувала. В грохоте бубна и перезвоне подвесок, прикрепленных к внутренней стороне ободка, было слышно, как шаман кого-то звал. Встреча его с вызванными духами застала всех врасплох.
“Пася олэн, здравствуй», — обратился шаман к тому, кто “пришел”. Он произнес эти слова с такой явной откровенностью, при которой незримое ощущение пришедших духов вселяло в присутствующих магический страх. Лев Давыдович, казалось, тоже ощутил присутствие какой-то необъяснимой силы, но не видя собственными глазами, он не хотел верить ощущениям. Однако это было сверх его сил…
Шаман тем временем убедительно просил “пришедших” к нему духов о том, чтобы они показали злого человека, напустившего хворь на больного. “Вот… вот… знаю… вижу. Это казымский остяк… белый старый горбун. Это он”, — сказал шаман и лег на пол возле чувала. Так он лежал минут пять. Жизнь будто покинула его. Он лежал с закрытыми глазами, и бубен, упавший на грудь, “не выдавал” дыхания. Это искусство души “покидать” свое тело, искусство “умирать”, оставаясь живым, было доказательством того, о чем читал Троцкий когда-то, не ведая увидеть это чудо наяву.
Шаман, резко вздрогнув, вскочил снова на ноги и заметался по дому. Положив бубен и колотушку на больного, он, растопырив пальцы рук, стал быстрыми движениями как бы сдирать и выбрасывать в огонь чувала что-то только ему ведомое. Через мгновение он снова дробно застучал колотушкой по бубну, и в каскаде восклицаний можно было только понять, что он, шаман взял на себя всю хворь больного и просит духов вернуть болезнь белому горбатому остяку с Казыма.
“Сам… сам, белый горбун, возьми себе эту хворь. Если сможешь, — лечись”, — восклицал шаман.
— Да, да, да-да, ты, горбун — злой человек, — кричал шаман.
— Да, да … он много людей увел по дорогам в царство мертвых, пусть духи покарают его за это, вторили гости.
Плохая слава ходила за “черным” шаманом с белой головой, который жил в самом верховье Казыма. Тосман-ойка был и седой, и горбатый, имел мрачный и злой характер. Люди замечали, что после встречи с ним приходили беды и неудачи…
Камлавший Самбиндалов, положив у чувала бубен и колотушку, приподнял за веревочку над тлеющими углями нож и стал внимательно наблюдать за вращающимся лезвием. Когда нож стал неподвижным, шаман закричал: “Вижу… вижу… Жить будет Евлашка”. Он подошел к родственнику больного, отдал ему приготовленные травы и рассказал, как готовить из них отвары и настои.
Шаман сел к чувалу, прислонился плечом к стене и, глядя на тлеющие угли, устало стал качать головой. Это было знаком прощания с его духами и знаком окончания камлания. Приезжие взяли больного на руки, вынесли его из избы, уложили на нарту и, покрикивая на оленей, уехали из стойбища…
Троцкий заинтересовался даром пророчества шамана и спросил: “Можешь ли ты предсказать мне судьбу?”.“Да”, — ответил Самбиндалов вполне категорично. Лев Давыдович решил поинтересоваться своим будущим. Шаман взял Троцкого за кисть руки, внимательно посмотрел на бороздки на ладони, стал быстро водить указательным пальцем по мелким морщинкам, приговаривая: “Хороша твоя судьба… Ты будешь большим человеком… Но умрешь ты в старости и умрешь далеко от родины от злобы своих родственников или очень близких людей”.
Чтобы скрыть свои сомнения и растерянность, Троцкий перевел разговор на камлание. “Как ты узнаешь будущее?”, — спросил он, полагая, что такой прямой вопрос заставит шамана признаться в несостоятельности… Однако вопрос не смутил шамана. Он уверенно стал рассказывать о своем методе предсказаний:
“Когда я начинаю предсказывать или шаманить, моя душа теряет свое тело и улетает в верхний мир, в царство духов. Когда начинаю говорить с духами, я могу слышать то, что на земле услышать не могу, вижу то, что на земле никогда не увижу. Когда я спрашиваю духов о том, что было или что будет, они мне говорят об этом, а я передаю людям. Духи знают все…”.
Немало времени рассказывал Николай Кириллович о камлании. Многого из сказанного Троцкий не понимал. Но один вывод был для него бесспорным: в прозрениях детей природы так много слепоты наших атеистов… Долго сидели два человека у потухшего чувала. Каждый из них, потеряв физическую сущность, был в ином мире, растворившись во времени и в пространстве.
К полудню следующего дня из Ивделя вернулся Николай. Все было улажено: куплен билет на поезд до Екатеринбурга, при соблюдении конспирации найдена временная квартира. Простившись со старым шаманом, Троцкий последний раз в жизни отправился в путь на оленьей упряжке.
Последний раз Самбиндалов шаманил перед самой войной. Молодой охотник Констант Константинович Ануфриев из Няксимволя, друг его сына, как-то попросил шамана предсказать судьбу. Николай Кириллович обычно всегда, мрачнел когда “видел” и сообщал просителю получаемую информацию о нескладной судьбе. Но мог скрыть старый шаман от Константина того, что после страшных испытаний и “ходьбы” по дальним странам его ждет трагическая смерть у себя дома.
Перед ледоходом старый шаман, которому должно было скоро исполниться семьдесят шесть лет, занемог и незадолго до рекостава умер. Хоронили его на родовом погосте со всеми почестями знатных людей рода. Все предсказания, сделанные им (особенно в послед годы жизни) сбылись. Но только два из них сбылись после смерти Самбиндалова. Накануне второй мировой войны в далекой Америке был злодейски убит Лев Давыдович Троцкий. Но убит не родственниками, по указанию когда-то близкого соратника, волею судьбы ставшего в России великим человеком. И как предсказывал лесной кудесник, умер Троцкий вдали от родины.
Константин Ануфриев, будучи танкистом, дорогами Великой Отечественной с боями прошел от Москвы до Берлина. Закончил войну старшиной, имел много боевых наград, в том числе — два ордена Славы. Получив назначение в родную школу в Няксимволе преподавателем военного дела, он возвращался домой из Тюмени через Ивдель, чтобы побывать по пути у своих родственников в Талице.
Путь его лежал по дороге, по которой почти сорок лет тому назад проезжал Троцкий, тайком выбираясь из ссылки. Чем ближе подъезжал Константин к родным местам, к родному дому, тем сильнее сжималось его сердце от радости возвращения. Он был счастлив. Но где-то глубоко в подсознании порой все чаще всплывали слова пророчества старого шамана Самбиндалова, к угодьям которого подъезжал Ануфриев.
Погода стояла тихая и теплая. Оленья упряжка быстро неслась по насту, и звон бубенчиков благостно отзывался в душе, которая недавно так благополучно вырвалась из железного грохота пропахшего дымом танка. Радость переполняла его сердце, она счастливыми слезами увлажняла недавно отпущенные усы. Константину казалось, что счастье будет вечным и бесконечным.
Не доезжая до Евтын-сопаула, где раньше жил старый шаман, где дорога по крутизне спускалась к речке и, сильно “виляя” по увалам, делала крутой поворот, олени, оторвавшись от первой нарты, стремительно понеслись вниз. На крутом повороте упряжка, чем-то напуганная, бросилась врассыпную, и нарта уже без оленей понеслась, как будто в какую-то пропасть, ударилась со страшной силой о высокую лиственницу у самой дороги и рассыпалась в щепки. От сильного удара головой о ствол лиственницы Константин потерял сознание…
Хоронили Константина Константиновича в родном Няксимволе. Люди несли его портрет, множество боевых наград, пихтовые венки, перевитые траурными лентами. В дальнейшем еще долгие годы как вечная дань живым и бессмертным душам умерших на его могиле постоянно, зимой и летом, лежали цветы.