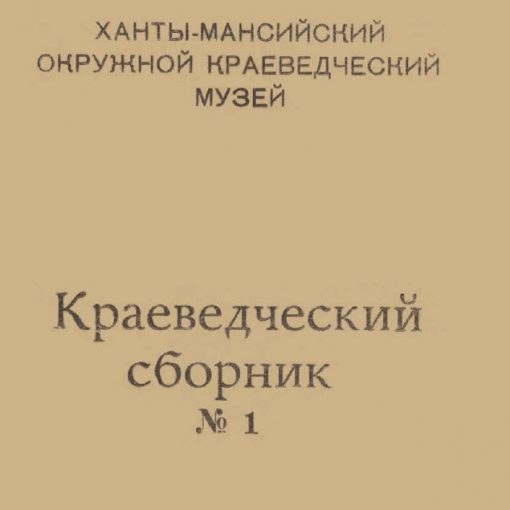Автор: Е.А. Шмелёва
Тюменская геофизическая экспедиция была организована в мае 1948 года в составе Уральского геофизического треста. Ее первым начальником стал опытный уральский геофизик Дмитрий Феодосьевич Уманцев.
Литаш Е.Т.:
С Дмитрием Феодосьевичем Уманцевым я работала еще до Тюмени, в комплексной партии Свердловской геофизической экспедиции на Северной Сосьве в 1947 году.
В Свердловск меня по распределению Киевского геологоразведочного техникума направили. Я ехать не хотела: в войну немцы у нас в деревне дом сожгли, надо было помогать маме строиться, да и страшно в чужие места. Но ведь меня не спрашивали. Добралась до Свердловска со всякими приключениями и слезами, а отсюда еще на какую-то Северную Сосьву посылают. Туда даже пассажирские поезда не ходили, хоть и была железная дорога построена. А товарняки, без всякого расписания, шли. И вот я на таком… Дальше вовсе пешком, одна. Но в деревне первый же встречный признал: «О, к нам пополнение!» — и повел к начальнику партии Уманцеву в дом, где тот квартировал. Дмитрий Феодосьевич жил тут с женой (Валентина Степановна, техник-геофизик, тоже в его партии работала), матерью и тремя детьми. Младшей, Оленьке, всего-то два года было. Они мне сразу очень понравились, и потом я все больше убеждалась, какие это люди хорошие, душевные.
Поставили меня на квартиру с еще тремя девчатами, тоже из Киевского техникума. Работали все в магниторазведке, но врозь, часто в маршруты уходили. Все время голодные. Нам по карточкам хлеб выдавали, на два дня одну булку. Хозяйка в долг молока давала — оно нас спасало. Да еще картошка. Нам и землю выделили, мы сажали. А когда приходилось и ячмень молоть, лепешки печь, ох и плохо от тех лепешек бывало! В маршруты уходили — тоже булка хлеба на два дня и иногда гороховый концентрат. Рабочие рассказывали, что раньше, бывало, и вовсе без продуктов случалось уходить. Так Дмитрий Феодосьевич, как получит хлеб на всю партию, в рюкзак сложит и пешком по всем маршрутам разносит. Заодно и посмотрит, у кого как дело идет. Ведь в войну, да и после еще, в партии у него всё дети работали, школьники. Мы-то уж специалистами считались.
Осенью Дмитрия Феодосьевича вызвали в Свердловск и оставили там главным инженером. За него остался заместитель — Емков. Разницу мы сразу почувствовали! У этого все по-быстрому. С ним мы и натерпелись, и наголодались. Такой человек — не до людей ему было! А зимой я попала в электроразведчики. Приехал Григорий Родионович Горуля — начальник электроразведочной партии, и меня к нему оператором поставили. С Горулей хорошо было работать, спокойно. У него в партии все приговаривали: «Не может быть, — сказал Горуля, — чтоб этот лес мы не прошли!» Но ходьбы тут было гораздо меньше, чем в магниторазведке: пока есть дорога — машина везет и нас, и все оборудование, а по снежной целине — на лыжах. На них я и в школе любила ходить. Холодно? Так одеться потеплее, и, пока есть работа, не замерзнешь. Я только прибор боялась носить: вдруг разобью?!
Как началась распутица, перевели нас в Сухоложскую партию, где начальником была Тамара Андреевна Малышева. Вот тоже хорошая женщина была, умница такая… Этой же весной организовывался Уральский геофизический трест, и экспедиций в нем должно было стать три: Свердловская, Кустанайская и Тюменская. Я в Тюмень ехать не хотела: Сибирь же! Казахстан, мне казалось, как-то поближе к Украине. Начальник треста Меньшиков меня уговаривал: «Сибирь-то — западная, да еще юг, это же природа, понимать надо! А Казахстан — северный. Ну что там — степи, песок…» Но меня больше то убедило, что в Тюмень ехали Уманцевы, Малышева, Горуля. Вот только и Емков туда собирался — с ним в одну экспедицию я ни за что не хотела! Но он девался куда-то.
Мне Уманцев предложил пойти в электроразведочную партию, я согласилась. А перед самым отъездом вызывает и говорит: «Придется, Катюша, в магниторазведочный маршрут сходить — последний. Парня одного обучить надо». А я так не хотела в магнитку! Столько ходить! У меня уже тогда ноги болеть начали. Да если голодом еще! А как комарье нас заедало! Рабочие ветки из рук не выпускали — а мне как? Прибор настраивать — руки уже им заняты. Так понастраиваешь — утром глаз не раскрыть, все лиц распухло. А страху сколько натерпишься! В лесу ночью человека встретить — радость, ни о каких ворах, насильниках не думали, а вот медведей я боялась: бывало, следы совсем свежие, а нам тут работать… «Нет, — говорю, — не пойду в Магнитку ни за что! Не могу! Не хочу! Хоть увольняйте!» Раскричалась, разревелась и убежала. Походила немного, так стыдно мне стало: на Дмитрия Феодосьевича кричала! А он-то со мной говорил так уважительно. Побежала обратно. Вхожу — опять слезы рекой «Простите, Дмитрий Феодосьевич, я пойду в магнитку!» — «Ну, вот и хорошо».
В мае приехала я в Тюмень, к Валентине Степановне. Уманцев остался в Камышлове (они там с Горным институтом новую аппаратуру получали и осваивали — сейсмостанции, гравиметры), а вся его семья уже тут жила, на Советской улице. Неподалеку, на Орловской, мы сняли помещение под контору, нашли комнату под камералку на углу улиц Комсомольской и Орджоникидзе. Рабочими в партии, вычислителями в камералку набирали местных ребят и девчат, учили. В электроразведку вместе с Горулей пришли ребята из уральских партий. Я, как вернулась из своего магниторазведочного маршрута, пошла оператором к нему, а после сама отряд приняла. В это же лето приехали выпускники из нашего техникума Киевского — Лена Каравацкая, Галя Тютюн, Иван Бобровник, Сима Гусак, Юра Слоницкий. Но я с ними мало встречалась: все в поле работала.
Опытные уральские инженеры-геофизики Малышева и Уманцев хорошо знали магнито- и электроразведку. Специалистов по гравике и сейсморазведке на Урале еще не было. Ими должны были стать выпускники Свердловского горного института Анатолий Алексеевич Кузнецов и Владимир Константинович Монастырев.
Кузнецов А.А.:
Мы с Монастыревым и в школе вместе учились, и вместе на завод после 8-го класса пошли. Не потому что учиться надоело, а война шла, всех мальчишек из школы забирали. Да и семьям помогать надо было. Вовка у тетки жил (отца расстреляли как «врага народа», мать сидела), у меня свои трудности. На завод ходили мимо школы, встречали учителей, одноклассников — и так учиться хотелось! Стали заниматься сами и весной сдали экзамены и за 9-й, и за 10-й классы, и вступительные в Свердловский горный институт, на факультет геофизики. Это было в 1943 году. Начинали учиться большой группой, 36 человек, а к выпуску шестеро осталось, причем двое, один из них — Саша Шмелев, начинали еще до войны, отвоевали и к нам пришли позднее, на третий курс. Из тех тридцати шести выдержали четверо. Голод же, условия страшные. На студенческую карточку давали хлеба 400 граммов и так называемые «талоны для одиночек». И родственники мало кому могли помочь — только самые упертые выдерживали. Вот нас по новым экспедициям и распределили еще до дипломов: Шмелева в Кустанай, а нас с Монастыревым, опять вместе, в Тюмень. Я должен был внедрять гравику, а Володька сейсмику. До тех пор мы их изучали чисто теоретически, поскольку соответствующей аппаратуры в институте не было. Но наши институтские преподаватели в 47-м году побывали на специальных курсах в Москве, принимали участие в испытаниях первых советских гравиметров и сейсмостанций. Работать мы начали с помощью и под руководством сотрудников Свердловского горного института. Так, доцент Владислав Антонович Бугайло был научным консультантом экспедиции, Александр Михайлович Буньков — техническим руководителем сейсморазведчиков. Гравиразведочную партию, в которую меня поначалу зачислили оператором, повели супруги Ансимовы, еще совсем молодые, почти наши ровесники, так что мы звали их Костей и Людой. С ними поработать я успел совсем немного, пришлось вернуться в институт защищать диплом. Костя тем временем уплыл на катерах в Ханты-Мансийск. Меня на будущее назначили начальником гравиразведочной партии, а пока определили к электроразведчикам.
Студентов младших курсов на время производственной практики и каникул Уманцев зачислял на должности операторов, интерпретаторов, начальников отрядов. Заодно они тут же обучали азам своего дела принимаемых в экспедицию тюменских ребят из окрестных деревень. Под руководством уральцев-практиков, уже имеющих опыт работы в геофизических партиях, первый профиль Камышлов — Тюмень методами магниторазведки, электроразведки и гравиразведки был пройден в начале лета.
Дальше эти партии пошли осваивать восток и север Западной Сибири.
Пухарев А.И.:
В 48-м году я был под Камышловым на практике после второго курса. Там стояли две новехонькие сейсмостанции (мы вокруг них и практиковались), и наш доцент Бугайло «ходил тенью на косу»: в муках рождался славный «метод преломленных волн». Когда практика кончилась, мы с другом Леней Ялиным пошли к Уманцеву на работу проситься. В сейсмику он нас не взял, но магниторазведку доверил. К этому времени первый магниторазведочный отряд в составе начальника отряда Анатолия Бисерова, «записатора» Саши Санникова и меняющихся возчиков из колхозов, в которых арендовали подводу, уже завершил свой первый профиль Камышлов — Тюмень. Шли они по тракту, наблюдения вели через каждые 250 метров. После Тюмени были организованы уже три отряда: Бисерова, Санникова и наш. Нам Уманцев предложил пройти от Тобольска вверх по Иртышу до Омска — всего 800 километров. Наблюдения через километр, никакой привязки. Выдали нам аппаратуру, три мешка (с мукой пшеничной, мукой ржаной и пшенкой) и бумаги от облисполкомов Тюмени и Омска с распоряжением выделять гужтранспорт и вообще способствовать.
Я стал за начальника, потому как у Леньки штаны дырявые были, и ходить по начальству договариваться о гужтранспорте он в таком виде никак не мог. А у меня штаны хоть и не лучше, зато — плащ, получалось вполне представительно. Ленька заведовал продовольственной частью: кашу варил. Там, где попадались пекарни, мы меняли муку на готовый хлеб. Встречали нас заинтересованно, гужтранспорт предоставляли безоговорочно. Чаще — клячонку, но порой — и рысаков! Один раз выделили пару быков, а к ним живописного татарина с бичом. Ничего, шустрые оказались быки. Только в одном сельсовете председатель, прочтя наши бумаги, достал талмуд, долго листал его и наконец заявил, что о бесплатном гужтранспорте для геофизиков ни в одной инструкции не говорится. Очень он нас удивил таким бюрократическим подходом, возмутил даже: платить нам было совершенно нечем и никто с нас денег и не спрашивал. И на постой уполномоченный от сельсовета нас ставил бесплатно. Эти доводы недоверчивый председатель принял как неоспоримые и лошадь все-таки дал. Но мы все равно запомнили его как бюрократа.
Работа шла хорошо. Вот только к концу маршрута вид мы приобрели такой, что в деревнях нас побаиваться начали. Да еще и продукты кончились, а хозяева не соглашаются даже картошки продать, отговариваются тем, что, мол, цен базарных не знают. Спасибо, местные парни научили: «Вы же дорожные люди, а у нас дорожному человеку картошки на ужин накопать за воровство не считается!» Очень нас этот мудрый обычай выручил! Последняя неприятность уже в Омске приключилась: Леньку по подозрению в бродяжничестве задержали. Но благодаря все тем же бумагам с печатями не только отпустили, но еще и билеты в общий вагон помогли купить.
Уманцев привезенные материалы похвалил. Потом потребовал финансовый отчет. Мы только глазами в ответ хлопаем: что за отчет, какие финансы? Тут и он изумился: оказывается, перед выходом в маршрут надо было деньги получить, платить за постой, за гужтранспорт…
Бисеров А.В.:
На следующее лето мы еще и водную Магнитку внедрили: с использованием водного транспорта. Катер гравиметровой партии забросил нас до среднего течения Туртаса, обратно — по течению, на лодочках, попутно наблюдения выполняем. Потом так же на Демьянку — оттуда вниз по Иртышу до устья Конды. И снова на катере до Шаима — и обратно по течению, до Ханты-Мансийска. Здесь наголодались: продукты кончились, денег нет, шишками питались. До осени успели еще по Югану от села Угута и опять до Ханты-Мансийска маршрут сделать. Доплыли уже по шуге. На этом наземная магниторазведка и кончилась. Со следующего лета на нашей территории начала работать аэромагнитная экспедиция Сибирского геофизического треста, и тюменские магнитчики перешли в другие методы. Санников — в гравиразведку, я — в электроразведку.
Электроразведка — метод более дорогостоящий и сложный в исполнении. Пока экспедиция не обзавелась машинами, каждый электроразведочный отряд арендовал по 5-10 конных повозок. В состав входили 10 — 15 человек рабочих, завхоз, радист, вычислитель, оператор, начальник отряда. Темпами работы электроразведка соперничать с легкой на подъем Магниткой даже близко не могла. Но именно на электроразведку возлагались самые большие надежды. Дело в том, что кроме определения глубины до кристаллического фундамента, электроразведка измеряет сопротивление толщи осадочных пород. Большое сопротивление означает, что воды здесь пресные, толща хорошо промыта, и нефтяная залежь не могла там сохраниться. Когда сопротивление низкое — воды соленые, бассейн, как говорят гидрогеологи, застойный. Если тут образовалось месторождение, то оно не размыто. За такие результаты электроразведку уже начинали называть «электрическим бурением». Все шло хорошо, пока глубина до фундамента, была, как у Камышлова, сто метров. Но сразу на восток от Камышлова фундамент круто погружается. А чем глубже фундамент, тем сложнее проводить ВЭЗ (вертикальные электрозондирования). При глубине до фундамента более двух километров в каждую сторону от центра зондирования надо размотать по 10 километров провода, да чтобы более-менее по прямой. Как ни старались, но порой, обходя болото, «концы» все-таки встречались. А уж более сложные технические проблемы временами казались совсем неразрешимыми. Тем не менее электроразведчики придумывали всяческие приспособления, отлаживали систему и вообще героически боролись с трудностями!
Кузнецов А.А.:
С приключениями работали. Еще и связи не было, ломались часто, сами и ремонтировались в деревенских кузницах — рассчитывать на помощь не приходилось. Раз зимой на профиле вентилятор в моторе оборвался, радиатор греется, ехать нельзя. А ночь уже, ветер, мороз — надо выбираться. Набили ведро снегом, я лег на крыло с этим ведром в обнимку, ребята меня за ноги держат. Машина пошла, а я снег в радиатор пихаю. Замерз, конечно, быстро — сменили. Так до деревни и доехали. А еще по осени в Вагай втроем провалились. Нам его перейти надо было, а мороз ударил градусов в тридцать пять, река встала, паром не ходит. Мы взялись для парома дорогу во льду прорубать, ну и перед самым берегом… Добежали до деревни, обсушились — хоть бы насморк у кого!
Но уже в 1950 году, после разбуривания первых скважин, заданных по результатам ВЭЗ, этот метод на юге перестали применять: при больших глубинах погрешность его стала измеряться сотнями метров. На севере ВЭЗами поневоле приходилось пользоваться, поскольку более точная сейсморазведка требовала или дорог, или тракторов. Под Ханты-Мансийском работал Горуля. А в Приуралье, где глубины до фундамента небольшие, продолжал работу отряд Кати Литаш. Рабочие называли ее атаманшей.
Литаш Е.Т.:
Я в свой отряд старалась женщин не брать. И слабей они, и надо им больше, и свары, то между ними, то из-за них… Не женское это дело — в поле работать! Но без них не обходилось, конечно. Разные были. Была девчоночка одна — до сих пор, как встретит меня на улице, все вспоминает, как мы вместе в поле работали. Другая девица, она у нас недолго проработала, была откуда-то из заключения. Ничего работала, да ни с кем ее мир не брал. Ругалась! У меня в партии никто больше так не ругался. Да и вообще не ругались. И пьянки не было. (Правда, по праздникам появлялось вино, собирались все вместе в какой-нибудь палатке. Я веселья с вином не любила, старалась не ходить. Если уж никак не отговориться, покажусь да и уйду поскорее.) А девица эта потом сбежала. Сначала выпросила полушубок рабочий, а как получила, так на другой день и исчезла. Пришлось мне за этот полушубок рассчитываться. Девчата потом рассказали, что забеременела она, а где — то ли в партии, то ли в поселке — сама не знала толком. Аборты тогда были под запретом, нравы строгие — дикой нам вся эта история казалась. Мальчишечка был, Саша, лет пятнадцати, без родителей. Не помню уже, как он попал к нам, но работал хорошо, старательный такой. Онька взялась его опекать. Питаться все по-разному приспособлялись: кто поодиночке, кто семьями, кто с кем дружит — так она все Сашу кормила. И деньги он все ей отдавал, чтобы не растратить. А когда надо, Онька ему выдаст. Потом она его к сестре проводила.
Был еще «геофизик Мамонов». Он у нас любил в колхоз представляться ездить. Мы, как приедем в какую деревню, надо к председателю идти, лошадей просить, о провизии договариваться, о квартирах. Я этого не любила, а парень сам просился. Ну и как придет: «Здравствуйте, я геофизик Мамонов!» Так его и прозвали.
А самый вредный человек был — Семенов. Такой вредный человек! Он у меня оператором числился. Знаний у него никаких, а, так, работал возле станции, но уж больно ему хотелось начальником стать. Доносы на меня писал, что, мол, я работаю не так, вредительствую. Мне потом шофер Уманцева рассказал. Он одно такое письмо вез в контору, да как увидел, что из моей партии, да от Семенова (того уж знали), взял и вскрыл. Прочитал и порвал. Потом смеялся все, что я — вредитель. А Семенов напрямую к Уманцеву пошел. Но как Дмитрий Феодосьевич дал ему окорот, он сразу и уволился. Так я начальником отряда и осталась.
Гравиразведка, подобно магниторазведке, «легкий» геофизический метод. Гравиметры измеряют гравитационное поле Земли. Тогдашний гравиметр СН-3 представлял собой точнейшие пружинные весы с постоянной гирькой в две десятых грамма — все это заключено в вакуум, термостатировано и весит 20 килограммов. Да еще по стольку же два аккумулятора для питания термостата. Прибору противопоказаны перегревание, переохлаждение, тряска и прочие полевые условия, поэтому главной задачей гравиразведчика было обслуживание гравиметра. Кроме того, как ни береги капризный прибор, кварцевая пружина его «устает», отметка нуля «плывет», поэтому необходимы постоянные поправки «на дрейф нуля» или, говоря по-геофизически, привязки к опорной сети. Данные гравиразведки, не привязанные к этой сети, недостоверны и считаются браком. Гравиметрической опорной сети в Тюменской области, естественно, еще не было, разбить ее собственными силами новоявленные гравики возможностей не имели. Работать начали, рассчитывая на будущее: если полевые измерения выполнить с запасом надежности, то к опорной сети их можно «привязать» и после, когда появятся опорные пункты. Был разработан «метод тройного хода». Впоследствии его несколько упростили, но принцип возврата к первой точке остался. Гравиразведочный отряд мог бы состоять из одного человека, не будь гравиметр столь сложен для транспортировки. Поэтому численность отряда зависела, в основном, от того, насколько труден маршрут и какие средства передвижения по нему избраны.
Как и магнитные измерения, гравиметрические необходимы для общей геофизической характеристики района, но что они могут дать при поиске нефти или газа — долгое время оставалось неясным.
Кузнецов А.А.:
Гравиразведка первую зиму не работала — готовились: получали и осваивали новые гравиметры, обучали операторов и геодезистов, готовили к сезону катера и автомобили. Экспедиция быстро обрастала имуществом. По отчету на 1 января 1949 года в экспедиции имелись: 4 сейсмостанции «Эхо-1», один гравиметр ГКМ-5, один вариометр магнитный, 11 потенциометров, 9 лошадей, 10 катеров и 12 автомашин. К маю получили первый трактор, его послали в сейсмопартию.
Гравиразведка с мая 49-го года стала работать круглогодично 6-10 отрядами. На юге — автомашинами, на севере — катерами по рекам, зимой — на лошадках, оленях, лыжах. Появился в экспедиции и собственный самолет ПО-2, с помощью которого выставляли опорные пункты первого класса. На юге, где были дороги, от этих пунктов с машин отнаблюдали опорные пункты второго класса с интервалом в 30-50 километров — это уже сеть, тут стало возможно работать без тройного хода.
Зато по северу — сплошная романтика! По рекам забирались в такую глушь, где и деревень уже никаких нет. В верховьях Конды так шли, вдруг на берегу какие-то строения, дети бегают. Повернули к ним, а они от нас — в лес, прятаться! Ну, мы пугать не стали, поплыли дальше. А вверху по реке завал. Делать нечего, пришлось обратно возвращаться. Смотрим, там, где поселочек, люди нам машут, зовут. Мы к берегу подошли, говорят: «Давно в гости ждем!» — «А как вы о нас узнали?» — «Дети рассказали, что вы к завалу поплыли, — куда же вам от него деваться?» Накормили нас дичью, еще и с собой мяса дали, а мы им хлеба, сахара оставили. Хант там был старый, увидел, что у одного из нас нога тряпкой замотана, попросил показать рану и замазал ее пихтовой смолой — быстро все затянулось. С тех пор мы все ею лечились, если случалось пораниться. Другой раз — уже самолетом добирались, сели на озеро в глухой тайге, а на берегу люди живут: две семьи, куча ребятишек. Договорились мы им муки привезти, а они нам белок запасти. Прилетаем, — озеро замерзло, сесть некуда. Сбросили муку — и обратно.
В безлюдных местах трудно приходилось. На Туртасе питались карасями и сырыми яйцами. Но хуже то, что на эти районы не то что опорных гравиметрических пунктов — топокарт стотысячного масштаба, по которым мы опознание вели, не было. Опознавались по лоциям и абрисам. Для уточнения географической широты вели астрономические наблюдения. Потом все наши северные речные профили были забракованы из-за плохой геодезической привязки. Для гравиметрии она должна быть очень точной. Но характер аномалий гравитационного поля наши наблюдения дали, и это было учтено при проведении дальнейших работ. Специально для разбивки опорной сети в 50-м году появился у нас гидросамолетик «Шавруха» (ША-2). Летчик у меня был Сережка Кошкин — замечательный! Сколько с нами работали, ни разу вынужденной посадки не было, разве чтоб искупаться. А вылетали на сутки, места для посадки сами выбирали, бывало что и попадали в переделки. Да и сами, честно говоря, хулиганили порой. Летали низко, медленно — скучно ну и устраивали себе развлечения: пикировали на покос или паром, особенно если там девушки были. Однажды над Кондой, над Леушинскими туманами, попали в стадо гусей. Один в крыло врезался, другой по плечу Сережку ударил — обошлось. Как-то в Туринске только оторвались от воды — высоковольтная линия! Вывернулись. Осенью поздно вылетали из Самарово, груженные хорошо. Все взлетают с косы, а мы-то с воды. Взлетели начали обледеневать, но летим дальше. В полете оттаяли. Или к Конде летели, смотрим — отметка бензина на нуле, а не должно бы. Подкачали насосом — опять к нулю пошло. Над Хантами мотор вовсе останавливается — опять качать! Чудом долетели. В 51-м году москвичи у нас работали, среди них — Юрий Дмитриевич Буланже, он по всему Союзу опорную сеть разбивал. Выделили им «Каталину» — летающую лодку, а экипаж слабый — то посадку не разрешают, то низкая видимость — полет отменяется… Но выставили восемь пунктов высшего класса в единой системе СССР, к ней привязали наши пункты первого класса.
У нас народ отчаянный работал. В первый год на катерах было два моториста. Один, Витька Зеленцов (фамилию точно не помню, может, не совсем так), пьяница, хулиган, но — Герой Советского Союза! Его всюду знали, милиция боялась: ну как же Героя к порядку призывать? Другой отсидел десять лет за убийство. Прекрасно работали, на совесть! И пьянок в партии не было, просто не было такой возможности, некогда. А Саша Санников и Павел Гришанов — пацанята совсем, каким маршрутом прошли! Без связи, на оленях, почти тысячу километров! Что материал в брак пошел, так это не их вина была, а наша беда. Мы планировали после их работы опорные пункты там выставить и профиль к ним привязать, ребята и точки для посадки самолетов наметили. А там каторжная зона — та самая, сталинская 501-я стройка — МВД полеты запретило. Теперь на том месте месторождения: Медвежье, Надымское, Уренгойское…
Гришанов П.Л.:
Ну, «пацанята» — это уж… слишком. Санников — тот да — лет семнадцать ему, что ли, было? А я с 42- го воевал, шесть лет в армии, в авиации. Вернулся домой — я из-под Тюмени, с Ярковского района — вроде бы пора на месте осесть, а тянуло на другое почему-то… Романтика! Сначала в аэрогеодезическую партию пошел. Московская здесь временно стояла, съемку делали. Они потом стали перебазироваться на восток, меня с собой звали, но совсем-то уезжать я не захотел. Порекомендовали идти к геофизикам, к Уманцеву.
Сначала в Магнитке вместе с Бисеровым работал. В 1949-м у нас первый маршрут был на север, по рекам. Лето проплавали, осенью возвращаться — в Ханты-Мансийске получаем радиограмму: остаться здесь. Создалась такая группа — партия: мы, магнитчики и гравики, потом одна сейсмостанция пришла (студенты на ней летом работали), потом электроразведка с Горулей, пока не случилось с ним несчастья по пьянке… Тут мы уже с Санниковым начинали — на Конде, где первое месторождение Шаимское открыли. Ну, не мы, конечно, после нас там еще десять лет и геофизики, и геологи топтались — всем работы хватило. Вот там я уже с гравиметром работал. А на следующую зиму нам с Санниковым предложили на север. Маршрут тот помнится, конечно.
Выехали мы в декабре. Семнадцатого были выборы в Верховный Совет, мы проголосовали и полетели. Я с гравиметром СН-3, а Санников с магнитометром. Оба получились начальниками: он — магниторазведочного, я гравиразведочного отрядов. Прилетели в Салехард. Там как раз конференция была окружная, нас поселили с председателями, секретарями, мы и познакомились со всеми. Получили документы на все районы, чтобы нам оказывали помощь, гарантировали оплату оленей и всего такого. Закупили здесь теплую одежду: малицы, кисы и отправились. Сначала на лошадях, потом на оленях. В каждом районе останавливались, заряжали аккумуляторы, получали деньги, что нам переводили из экспедиции, и расплачивались за каждый километр наличными. У нас был чуть не полный спальный мешок денег. К весне каждый километр дороже стоил, до двух с половиной рублей (на старые деньги, конечно), а мы до восьми нарт нанимали. Рабочих не нанимали, каюры были, местные. Народ хороший, дружелюбные такие. Приезжаешь к ним ночью, незваный-негаданный, и они тут же кормить: чай, мясо, вареное, сырое, опять чай — без конца. И памятливые. До сих пор встретишь: «Я тебя знаю!» Работали без опоры, с повторением, чтобы учесть сползание ноль-пункта. Этого они, каюры, не любили очень: куда, зачем, ехали-ехали — и вдруг вертаться? Ну мы их задабривали кое-чем. Я раз так чаем поил…
Едем, он говорит: «Вот тут ночевать будем, мох маленько есть». Ну, ночевать так ночевать. А пока ехали, я заприметил в одном месте чего-то такое темненькое мелькает-колышется. С повтором поехал, прибор выставил и за этим черненьким. А там березка маленькая, с веник. Мне сразу захотелось попить воды. Воды-то нету, снег один. Решил костерчик сделать. Наломал веток, накрошил гудрону — загорело. Я кружечку натаял — хорошо! И огонь еще не кончился. Котелок у нас был, его поставил. Тут гореть-то и перестает. У меня легковая нарта была дранкой отделана, я одну из середины вытащил, сломал — не хватило. Потом хорей свой спалил — маленько закипеть осталось. Каюры спят. Так я у одного хорей взял и тоже с метр обрубил — закипел чай. Потом одного бужу, другого, чай предлагаю, они: «Ой, хорошо, хорошо!» А утром давай ругаться. Они поехали, а у меня олень не идет, вернее — не бежит, они без хорея не бегут. Я километров двадцать, наверное, так тянулся, пока возле речки прутики какие-то не нашел — выломал.
В буран попадали, когда на Самбург шли. Но как раз встретили почтовый чум, при нем оленей стадо небольшое, голов в 20—30. Мы как их догнали, так и остались со стадом и в этом чуме буран пересидели. А до того ночевали в снегу, зарываясь, как куропатки. Потом навалились морозы сильные, продукты кончились, мы оленей брали взаймы, на мясо. Одного пастуха послали за продуктами, привез — дальше пошли на Самбург, потом на Тазовск, на Красноселькупск, на Янов Стан… Тут, оказалось, тоже дорогу строят — 501-я, сталинская стройка. Она еще не железная была, а просто бульдозером валы большие наворочены. Местный народ боялся этой дороги. Ну, и оленей возле нее, ясное дело, нет.
Остались мы без оленей, думаем, как работать дальше. Собрались лететь на Игарку, чтобы с той стороны сюда оленей пригнать. И тут догоняет нас Кузнецов: в экспедиции нас потеряли: рации-то у нас нет. И вот он прилетел нас искать, до Тазовска самолетом, потом на оленях. Замерзший! Мы-то одеты тепло, а он в валеночках, в летной курточке. Велел нам возвращаться обратно, но другим маршрутом. Сам поехал на Уренгой, там был аэродром стройки. А мы на Часилку, потом в Тольку, свернули на Харампур, на Тарко-Сале… Ну и опять до Салехарда.
Тут бойкое место было — лагеря же кругом… Но мы заключенных мало видели. Когда шли по линии, где предполагалось станции, разъезды устроить, встречались избушки. Жили в них связисты (тянули от Норильска три провода) и самоохранники. Уголовники в лагерях, а эти, хоть и сроки большие имели, — нормальные люди. Разговаривал я с одним — попал он в аварию, нарушил технику какую-то, сам едва жив остался — так за это, будто он шпион или вредитель какой — 25 лет! Они просили нас письма отослать (им переписка запрещена была) — мы брали.
Из Салехарда вылетали уже в апреле, когда наледь появилась. Стали Обь переходить — вода по колено. Вернулись, наняли самолет за 800 рублей — в распутицу связь держал. Два дня он нас перекидывал, мы же и оборудование все с собой везли, на месте его списать, как сейчас делается, нельзя было.
Кузнецов А.А.:
Лет десять спустя, когда на Севере были проведены «миллионные» гравиметрические работы, профили, сделанные Гришановым и Санниковым, были нанесены на карту, увязаны, они прекрасно вошли в сеть. В геофизике забракованный материал — не зря пропавший, он обработан, сохранен, информация из него извлечена. Только к оплате он не представлен…
Сейсморазведка. Первые сезоны
Вот уж где «тяжелый» метод! Сейсморазведка слушает эхо, приходящее из недр Земли, и по нему судит о глубине залегания кристаллического фундамента, о расположении, структуре и форме осадочных напластований, которые могут оказаться ловушками для нефти или газа. Но для того чтобы получить эхо, надо произвести удар, да такой, чтобы ударная волна пошла не в воздух, а в глубины Земли, например взрыв в скважине. То есть в составе сейсмопартии должны быть бригады бурильщиков взрывников, естественно, сейсмобригада, обслуживающая сейсмостанцию со всеми ее приборами, топобригада (геодезисты, «топики»), подготавливающая рабочие маршруты или, говоря по-геофизически, разбивающая профиля, водители, хозяйственные рабочие и, конечно, специалисты: операторы, вычислители, радиотехники, интерпретаторы всего до ста человек. Четыре склада: продуктовый, материально-технический, горюче-смазочных материалов, взрывных материалов (с круглосуточной охраной), сейсмостанция, радиостанция, зарядная мастерская и транспорт, достаточно мощный, чтобы перемещали, все это сложное хозяйство по бездорожью. В принципе для сейсморабот нужно более десятка вездеходов и тракторов, но на начало работ первая сейсмопартия располагала только двумя бортовыми машинами: полуторкой ГАЗ-АА и ЗИС-5. Эту «вездеходную» технику дополняли арендованные в колхозах подводы. Естественно, работать приходилось вдоль дорог.
Бобровник И.И.:
Мы, выпускники Киевского геологоразведочного техникума, прибыли в Уральский геофизический трест вчетвером: Лена Каравацкая, Сима Гусак, Нина Подгайко и я. И здесь целую неделю бесстрашно препирались с управляющим трестом Петром Николаевичем Меньшиковым, дядькой, свиреповатым на вид. Он желал использовать нас в отрядах электрокаротажа — ух, как мы были возмущены! Каротаж! Да с какой стати?! Мы соглашались только на сейсморазведку. Сейсмику мы изучили «на зубок», успели свыкнуться и полюбить ее, а девчонки, скажу по секрету, — и ее преподавателя, Всеволода Борисовича Соллогуба, известного ученого Украины. За год до того я участвовал в испытаниях опытного образца первой советской сейсмостанции ЭХО-1 (до этого в Союзе использовались только импортные станции фирмы «Хейланд», которые продавались в oграниченном количестве и стоили бешеных денег), спецглаву в дипломе ей посвятил — и вдруг каротаж?! Пригрозили, что уедем обратно, хотя у нас не то что на дорогу, на телеграмму в Киев денег уже не оставалось. На Урале сейсморазведка до того времени не производилась, и, видимо, управляющий нашего отношения к ней не разделял. Хотя, возможно, ему просто было интересно беседовать с нами совсем еще молодыми, пережившими все ужасы войны, включая фашистскую оккупацию, но выучившимися в таких вот самонадеянных молодых специалистов. Каждый день он раза по два вызывал нас, упрямо сидящих в приемной, и спрашивал: «Ну что, подумали?», а потом задавал вопросы — серьезные и не очень. Препирательства закончились нашей победой: нас признали сейсморазведчиками и направили в Камышлов, где на тот момент базировались сразу две сейсмопартии, Тюменская и Кустанайская.
Здесь уже стояли две новенькие сейсмостанции ЭХО-1 (под серийными номерами 47001 и 47002), в которые нас не пустили. Но на довольствие поставили. Распределили так: Каравацкую и Подгайко в Кустанайскую партию, меня и Симу Гусак — в Тюменскую. Всех девчат в камералку (на обработку полевых материалов), мне предстояло стать оператором. Через две недели в Камышлов приехал инженер-сейсморазведчик — только что защитивший диплом Владимир Константинович Монастырев. Было ему тогда 22 года. Веселый, обаятельный, симпатичный и остроумный, с первых слов располагающий к себе, в нашу компанию он вошел сразу. Уже через несколько часов общения девчонки называли его Вовкой и вообще явно «положили на него глаз». И мы с ним подружились, поселились в одной квартире. Он инженер — оператор, я техник-оператор, его помощник. Получили ключи от сейсмостанции, и с этого момента у нас не было ни минуты, свободной от работы. Разве что на сон. Все остальное время мы изучали сейсмостанцию, взаимодействие ее многочисленных узлов, добивались одинаковой работы (идентичности) сейсмоприемников, обучали только что принятых рабочих элементарным правилам обращения с ними. Нужно было проверить знания и проинструктировать взрывников, буровиков, топографов…
Монастырев В.К.:
Эту сейсмостанцию я второй раз видел. Первый раз — в Свердловске, где проверяли ее аппарат. Это такая внушительная штука была! По техническим- то данным в сравнении с современными, конечно, примитивная, но выглядела страшно внушительно. Там одних ручек — штук этак, наверное, триста! Большинство постоянно были включены, но оставалось еще более десятка, которые надо было каждый раз включать в определенной последовательности. Мне сказали, что в этой сейсмостанции еще никто не смог включить все как следует. Я поспрашивал, что куда, что где — и она у меня тут же заработала. Сам Бобровник удивился страшно: как это человек ни с того ни с сего такую сложную машину сразу включил! Повезло мне с этим. Работать начинали методом преломленных волн (МПВ), тогда это был очень простой метод, даже назывался методом «первых вступлений» — первые волны фиксировались, сравнительно небольшие глубины.
Бобровник И.И.:
Вскоре топографы на арендованной подводе ушли на трассу готовить для нас профили. Весь сезон мы только изредка видели начальника топоотряда Григория Ивановича Нежданова, который привозил в камералку материалы, получал на отряд деньги, продукты и исчезал. Тем временем в партию приехал Леня Глухих, оператор Кустанайской экспедиции, и они, вместе с Леной Каравацкой, наотрез отказавшейся сидеть в камералке, тоже начали готовить аппаратуру к работе на профиле. И вот наконец наступил торжественный день первого выезда на профиль.
Поставили станции рядом, девчата — рабочие сейсмостанции растянули тяжелые косы (по 350 метров полевого кабеля из двенадцати пар проводов — в руку толщиной), растащили сейсмоприемники — по 24 штуки на каждую сейсмостанцию, установили их парами в одни и те же лунки, утрамбовали… Ох и досаждали нам эти сейсмоприемники! Это были большие банки, в которые вставлялись катушки тонкого провода, подвешивались на пружинках довольно тяжелые магниты, и вся эта система заливалась моторным маслом — автолом. Чуть стукнул по такому прибору, как он уже «поплыл», и начинается занудная подгонка его к параметрам других приборов плюс принудительное купание в автоле. А как не стукнуть, если весит он около четырех килограммов, и тащить по профилю девчонке-рабочей приходится по четыре и даже шесть этих штук зараз. Вообще, труд рабочих сейсмостанции оказался очень тяжел физически, хотя еще долгое время считался женским. Зато после установки приборов девчата, ожидая готовности взрывников, могли вдоволь наотдыхаться. Обычно они принимались сочинять частушки.
Для взрывников сначала готовили скважины. Бурили их в то лето ручным способом без каких-либо подъемных приспособлений: просто закрутят в землю сверло-змеевик или ложку, сорвут «на пупа» с места, вытащат наверх, очистят от глины и снова в скважину за следующей порцией породы. И так раз двадцать, пока не получится дырка глубиной 7-10 метров. Вот в эту скважину на шестах взрывник опускал заряд весом 2-3 килограмма, взрывал его, образуя так называемый камуфлет, затем уже в эту полость опускал 20, 30 и больше, сколько скажет оператор, килограммов взрывчатки. Взрыв производился по команде оператора. Сначала шла команда «спокойно на профиле». Девчонки сразу становились серьезными, смотрели, не идет — не едет ли кто, останавливали или предупреждали оператора, что пропустить. Если профиль был разбит вблизи деревни, что в будущем случалось нередко, приходилось, все дворы обходить с просьбой: дрова пока не рубить, швейной машинкой не стучать — любой посторонний шум принимался сейсмоприемниками. Наводили тишину, оператор включал усилители, осциллограф, заводил моторчик отметчика времени (страшно капризный в те времена прибор: то не заводится полчаса, то остановится именно в нужный момент). Убедившись, что блики всех 24 гальванометров стоят неподвижно, посторонних шумов нет, оператор спрашивал взрывника, готов ли он. Если на пункте взрыва все в норме, поступала команда оператора: «Приготовиться!» — «Готов!» — «Внимание!» — «Готов!» — оператор включал мотор протяжки фотобумаги и командовал: «Огонь!» Взрыв. Запись шла несколько секунд. Потом в фотолаборатории ленту проявляли, закрепляли, и получалась сейсмограмма. Но прежде чем передать ее на обработку в камералку, оператор проверял, качественна ли запись. Если не срабатывал один из сейсмоприемников или усилителей, взрыв был слишком сильным или слабым, останавливался маркировщик времени или случался другой подобный сюрприз, взрыв и запись приходилось повторять, устранив причину брака. Если все было хорошо, подавалась команда на второй пункт взрыва. Затем следовал переезд на следующий 690-метровый интервал.
В первый выезд заряд мы взорвали как положено, но сейсмограммы не получилось. Получился первый блин комом, после которого мы еще несколько дней заряжали аккумуляторы, настраивали приборы и усилители, прикидывали, какой величины заряды нужны с ближнего и дальнего пунктов взрыва и тому подобное. Таких выездов, как в первый день, было еще несколько, пока не получилось нечто удобоваримое. Кустанайцы, убедившись в работоспособности аппаратуры, уехали на свой плацдарм, а мы продолжали накапливать опыт путем проб и ошибок. В это время нам на помощь стали прибывать преподаватели и студенты Свердловского горного института. Худо-бедно, общими усилиями и воробьиными шажками, примерно через месяц мы преодолели полтора десятка километров профиля…
Поскольку по сравнению с другими методами двигались мы медленно, у нас была возможность устраиваться поудобнее: жить не в палатках в чистом поле, а становиться на постой в селах. Старались выбирать село так, чтобы работать до него и после. Хорошо, если село оказывалось зажиточным, нужда не выглядывала из каждого угла, еще лучше, если в нем было электричество, и совсем хорошо, когда имелась столовая, всегда именуемая «Чайной», наверное, за то, что там в любое время можно было заказать… сто грамм водки. Обычно в выбранное для базы село заранее выезжал завхоз партии, арендовал помещения под камералку, контору, материальный склад, находил места под стоянку техники и склада взрывчатых материалов, договаривался с населением о квартирах для сотрудников, твердо обещая и потом неукоснительно выплачивая по рублю в сутки за каждого постояльца. Тридцать рублей в месяц были большущими деньгами для колхозников тех времен (и не только для колхозников), поэтому принимали нас на постой охотно, старались устроить получше.
Никольское, в которое мы перебазировались после Камышлова, было зажиточным уральским селом. Меня поразили здешние избы, собранные из сосновых бревен полуметровой толщины. Сто лет простоит такой дом, как минимум! Окошечки маленькие, видимо, из-за лютых сибирских морозов. Дома просторные, на два отделения: горница — с 3-4 окошками, большой кроватью, столом, комодом, лавками, занавесками и цветами на окнах, и прихожая. Главная мебель здесь — русская печь, грандиозное сооружение из кирпича, занимающее треть помещения, еще стол, лавки, обширные антресоли-полати, лежанка- голбчик. Это главная часть дома, здесь проходила вся жизнь семьи. Гостей-постояльцев селили, как правило, в парадных горницах.
База партии разместилась на обширной площади в центре села. Запомнилось, что спали мы на сеновале и частенько опаздывали по утрам на базу. Прибегали, кое-как умытые, вместо завтрака имея, в лучшем случае, буханку хлеба на троих. Владислав Антонович Бугайло, человек уже пожилой, педагог и ученый, наблюдавший за нами, начинающими жить, не вытерпел однажды, собрал нас на профиле возле сейсмостанции и очень серьезно — нет, не пожурил, выругал за халатность к себе. Он убеждал нас, что относящийся халатно к себе, обязательно будет недобросовестным и в работе, и в жизни, а загубленное здоровье никому пользы не принесет. С тех пор мы заказывали хозяйкам некоторое подобие завтрака, брали в поле молоко, яйца, другую сухомятку, какую удавалось раздобыть у хозяйки, ее соседей или на складе партии.
Сюда, в Никольское, прибыла вторая сейсмостанция. Оператором на ней работал Александр Михайлович Буньков, помощником был студент-преддипломник Василий Михайлович Косов — высокий, статный, серьезный, уже повоевавший и повидавший жизнь молодой человек. Приехала также Зоя Михайловна Дудкина, жена Бунькова, ставшая первым инженером-интерпретатором. Эта молодая, красивая и серьезная женщина называла нас по именам: Вася, Саша, Ваня, Сима, во всем старалась помочь нам, предостеречь от неверных решений, подсказать, наставить. Зоя Ивановна окончила Свердловский горный одновременно с мужем, специализировалась по грави- и магниторазведке, практику обработки сейсмограмм ей пришлось постигать в партии. Да и все остальные сейсморазведчики, в том числе Бугайло и Буньков, недалеко от нее ушли, всем приходилось учиться, разгадывая на ходу кроссворды сейсморазведки. Появление большой группы непосед-студентов, сующих везде нос, и второй сейсмостанции внесло сумятицу в уже было наладившийся процесс. Пришлось снова сравнивать и подгонять аппаратуру, нанимать и учить новых рабочих. Как бы то ни было, но наконец выехали на профиль. Сейчас уже каждый взрыв регистрировали одновременно двумя станциями — это называлось спаренный режим. Теоретически производительность работы при таком режиме увеличивается в полтора раза и в два раза уменьшается расход взрывчатки. Но практически, пока притерлись да наловчились, по меньшей мере месяц не то что экономили, работали себе в убыток.
Чем дальше от Урала, тем глубже опускались склоны фундамента, тем больше усложнялась технология работ: увеличивались расстояния между пунктами взрывов, возрастали величины заряда, требовалось больше скважин и времени для подготовки заряда. Так, если под Камышловым начинали с расстояния в полтора километра, то вскоре пришлось его увеличивать вдвое, втрое, в четыре раза. На участке Успенка — Тюмень это расстояние превратилось в 9 километров. Вот тут-то стало ощутимым преимущество работы спаренными станциями. То же и с зарядами-скважинами. Если начинали с заряда в 20- 30 килограммов и одной-двух скважин, то после Никольского заряды были уже 100-200 килограммов, а на участке Гусево — Тюмень требовалось до 600 килограммов взрывчатки. Конечно, после Никольского ждать, пока подготовят заряд, приходилось часами. Запомнился такой случай: ждали звонка с взрывпункта, вечерело, время затягивалось, мы забеспокоились и вдруг услышали гул взрыва. Монастырев звонит: «В чем дело? Почему взорвал без команды?» — «А мне что ваша команда, я подготовил заряд и взорвал», — возмутился в ответ Федюнинский, первый и единственный на то время специалист-взрывник этой сейсмопартии, уже немолодой человек, сибиряк, лет двадцать до того проработавший взрывником на шахте: заложил заряд — взорвал, заложил — взорвал, и так всю смену. Вот и сработал профессиональный автоматизм. За Никольским были базы: Пышма, Чупино, Талица, Тугулым, и в сентябре добрались до Лучинкино. Тоже большое село с вековыми домами, с прудом в центре села и кузницей на берегу пруда. Начинался учебный год, и свердловчане возвратились в свой институт. Сейсмостанцию Буньков передал мне, в результате в партии осталось два оператора, но ни одного помощника. Пересмотрели весь материал и спохватились: а зону-то малых скоростей не стреляли! Ничего не поделаешь, надо исправлять загущенное. Мне и было велено вернуться к Камышлову и отстрелять зоны по всей пройденной трассе. Дали нам одну бортовую машину, на которую погрузили три бочки бензина, спальные мешки, продукты, уселись взрывники и сейсмобригада. Аммонит погрузили в сейсмостанцию, электродетонаторы — на колени оператору в кабину сейсмостанции. Дали под отчет и немного денег, которые на треть растаяли в одной из «чайных» Камышлова в первый день приезда.
Начали стрелять. До Чупино достреляли и на тебе: аккумуляторы сели. Выход из положения, однако, вскоре нашелся: оказалось, что на станции Поклевская такие же, как у нас, аккумуляторы малыми партиями заряжают. Но надо платить, а денег у нас нет. Тогда нам поставили условие: мы заряжаем, а вы два дня на своей машине возите капусту с поля на станцию. Бензин дали. Через два дня пошли дальше, а через две недели догнали партию в деревне Гусево, что под Тюменью.
За время нашего отсутствия Монастырев обзавелся сразу двумя помощниками оператора, вернее, помощницами: в партию прислали мою однокурсницу Галю Тютюн, и вдруг из Казахстана вернулась Лена Каравацкая.
Монастырева Г.С.:
Лена Каравацкая прибыла в партию почти одновременно со мной. И тоже помощником оператора. Она отчаянно любила аппаратуру и была уже почти готовым оператором, работа в станции ей до того нравилась, что мне там уже и места не было. В станции у них с Монастыревым шли непрерывные баталии, а я уходила к рабочим на профиль.
Каравацкая Е.В.:
Лето я проработала в Кустанае в партии Саши Шмелева помощником оператора. Он да еще двое студентов-горняков, что у нас на практике были, уговорили меня поступать в институт. Уговаривать особо и не требовалось, сама об этом мечтала. Еще в детстве я нашла на чердаке нашего дома целую гору журналов «Вокруг света» — оказалось, дед их собирал. Любимое мое чтение было. Потом поразила меня книга «Фонарь Земли». С тех пор не давало мне покоя строение Земли, ее история. Я, видишь, столько об этом говорила, что в школе меня стали дразнить «ископаемым». Но зато я уже тогда твердо знала, кем буду, в техникум шла поступать именно на геофизику. Окончила с отличием, на распределении сама выбирала, куда поеду работать: на Урал — горы, леса! Из Свердловска наших ребят в Тюмень отправляют, в Сибирь, на нефтеразведку — еще интереснее! А меня — в Кустанай… В Свердловский горный институт меня зачислили без экзаменов еще летом. А к сентябрю я вместе со студентами-практикантами поехала учиться. Прилетели первого числа, и ребята сразу повели меня по магазинам: одежда на мне была самая что ни на есть полевая: прожженная, пропыленная, вылинявшая, драная — как такую оборванку в институте показать? До самого вечера одевали. 2 сентября прихожу в институт, а там приказ висит: за прогул первого числа меня отчислили! После всех объяснений учиться разрешили, но ни стипендии, ни общежития. Больше всего я зимы боялась: пальто у меня не было, и понимала, что взять будет негде. Знала бы я тогда о такой замечательной одежде, как фуфайка, осталась бы студенткой, но. Пошла опять в трест к Меньшикову — на работу проситься, только не в Казахстан! И на этот раз меня отправили в Тюмень.
Бобровник И.И.:
Пошли дальше снова двумя станциями. Однако вскоре нас ждал еще один сюрприз-урок. Однажды в холодный осенний день мы не получили записей волн от взрыва 450 килограммов аммонита. Все было по правилам, а записей — тю-тю. Наконец догадались, что моторное масло в сейсмоприемниках загустело на морозце и «задубило» приборы. Выход подсказал шофер сейсмостанции Петр Савиных: нужно развести автол керосином. Посомневались, но попробовали. Неделю искали пропорции, выливали, смешивали, заливали — нашли, получилось неплохо.
С наступлением распутицы навалилась новая беда: чулочно-резиновая изоляция проводов связи и кос за лето очень сильно истрепалась, появилось много связок, скруток, оголений и мест ненадежной, уже повторной изоляции. Девять километров телефонной связи, разложенной по земле, траве, кустам, были сверхуязвимы. Человек, корова, подвода, попавшая под изоляцию вода, грязь в любой момент грозили прервать связь с взрывпунктами. Поиски обрыва могли продолжаться часами. А искать места утечек слабых электрических сигналов в косе из двадцати четырех связанных между собой проводов (а таких кос — четыре) — вообще невозможное дело, требующее адского терпения и выдержки. В конце ноября мы взорвали на окраине Тюмени, невдалеке от какой-то свинофермы, последние 600 килограммов тротила и… закончили маршрут.
Монастырев В.К.:
По-моему, мы тогда чуть ли не тонну рвали. Очень долго готовили этот заряд, наверное, часов шесть, связь постоянно прекращалась, рвалась — очень сложная связь, большие расстояния до станции. Взрыв сделали ближе к вечеру, темнело уже. Ну, а Каравацкая рано выключила станцию: расстояние большое, волны долго идут, а она не привыкла, ждала-ждала, бумага с большой скоростью идет, мотор эту бумагу крутит, нервы у нее и не выдержали. Только выключила — взрыв дошел! Но нормально обошлось: хвостик записался.
Каравацкая Е.В.:
Тюмень мне сразу очень понравилась: городок маленький, тихий, с дощатыми тротуарами и мощеной мостовой. Поразила местная картошка: такая большая и вкусная — с ней одной прожить можно было! На углу улиц Первомайской и Республики нашла я гастроном, где продавались невиданные мною деликатесы: икра, балыки, колбаса, апельсины и яблоки, конфеты… Каждую неделю я приезжала сюда, набивала полный рюкзак и тащила его в общежитие к девчатам — экспедиция для них и для нас, приезжающих, снимала комнату у одной бабуси. Устраивала пир горой, наверстывая за голодовку в Киеве и Казахстане. А в партию прихватывала с собой побольше конфет. Первое время у меня за щекой постоянно была горсть леденцов, за что меня стали дразнить «сладкой пьяницей».
Бобровник И.И.:
Да, замечательный был гастроном, особенно рыбный отдел: муксун, стерлядь, осетры… И все очень дешево, даже черная икра. Щука в те годы шла отдельно, ее за рыбу не считали, хотя, конечно, и ее съедали с удовольствием. А еще там же, неподалеку, на углу улиц Республики и Дзержинского, стоял ресторан «Сибирь» — большой деревянный дом с огромными окнами. Очень уютное, хорошее заведение. Тогда считалось оскорбительным вымогать предлагать «чаевые», просто привечали посетителей и были им рады. Был еще ресторан «Волна».
Добравшись до Тюмени, мы перезнакомились со всей экспедицией и потом старались приезжать сюда при каждом удобном случае. Тюмень стала для нас действительно центром, но городом она тогда не выглядела, не зря ее называли «столицей деревень». Камышлов больше походил на город, чем Тюмень. На 95 процентов это были деревянные одноэтажные домишки, кое-где разнообразили пейзаж купеческие двухэтажные особняки. Улица Республики до самого кладбища была вымощена булыжником, на центральных улицах деревянные тротуары, иногда добротные, сплошные и до метра шириной, ближе к окраинам — с оторванными или прогнившими во многих местах досками. Не ходьба, а эквилибристика. Если судить по качеству тротуаров, то окраина начиналась сразу за станкостроительным заводом. Отсюда и почти до улицы Холодильной стояли два ряда почти сплошь ветхих покосившихся домишек с неизменной геранью на маленьких окошках. На каждой второй калитке висела табличка: «Осторожно, злая собака!» Ниже часто было дописано: «Хозяйка». По булыжной мостовой машины ездили крайне редко. Чаще подводы. Два раза в день в сторону Войновки и обратно, громыхая по булыжникам телегами, проезжал караван бочек золотарей. Знакомый с детства запах выветривался очень медленно. Центральная площадь, где сейчас губернаторство, являла собой пустырь, а где само здание правительства, было болото, рос камыш и тростник. Напротив пустыря, где Дом Советов, раскинулся базар (именно «базар», а не «рынок» — такого слова в обиходе не было). Здесь тебе и «чайные», и парикмахерские, и разные ларьки-магазинчики, бабушки с незатейливой стряпней, солеными огурчиками, яичками, творогом, молоком… На Новый год на Центральной площади мы застали две огромные, сколоченные из брусьев и досок горки. Народ веселился на них до полночи, с шумом, смехом, бывало — с ссорой и дракой. Но дрались тоже весело и только кулаками — лежачего не бьют.
Тюменская геофизическая экспедиция арендовала под контору и камералку покосившийся от времени полутораэтажный домик на углу улиц Орджоникидзе и Комсомольская, вернее, его верхний этаж. Бухгалтерия и плановый отдел разместились неподалеку, на улице Ванцетти в совсем маленьком домишке. База экспедиции — небольшой участок голого поля, огороженный забором с воротами, с будкой для сторожей и кладовщика Уманца, добродушного пожилого сибиряка, помнившего наизусть, где у нёго лежит даже самая малая мелочь, — разместилась на далекой окраине города, за Текутьевским кладбищем, где сейчас Дворец геологов.
Но мы на базу экспедиции не поехали и в Тюмени не задержались. У геологов исстари закон: лето в поле, зима в камералке, но нам этот закон не подходил. Четыре машины мы могли бы поставить под охрану на базе экспедиции — а куда девать аппаратуру? Чем занять людей, где им жить? В магнитном или гравиотряде, где один-два сезонных рабочих и три инженерно-технических работника, а полученных за лето материалов хватит для обработки этим ИТР на всю зиму — там нет проблем. А у нас уйма народу, квалифицированных рабочих — сегодня уволишь, а завтра снова искать, набирать, учить. Вот поэтому мы получили команду перебазироваться на зимние квартиры в Тураево.
В экспедиции была создана специальная комиссия, осуществившая приемку материалов за летний полевой сезон. Из 469 сейсмограмм 244 получили хорошую оценку и только 17 были забракованы. Прострелено методом преломленных волн 200 километров профиля. Неплохо для первого сезона? Уже первые полевые построения показали, что фундамент, полого опускаясь от Урала на восток, образует ряд довольно крутых ступеней, наиболее крупные из которых: Тугулымская и Успенская. На этих ступенях предполагались выклинивания юрских отложений, нефтеперспективность которых оценивалась в то время, да и в наши дни, очень высоко. Последующее бурение подтвердило выклинивание пород верхней юры на Успенско-Каменской ступени. Выявлен перегиб в районе деревни Лучинкино, амплитудой 100 — 150 метров. Работы на последнем, Тюменском, участке профиля показали, что глубины до фундамента достигли полутора километров и будут возрастать далее, что сплошная разведка методом преломленных волн на этих глубинах не даст быстрых и хороших результатов, что необходимо изучать не только глубины залегания фундамента, но и внутреннее строение разреза: поведение пластов, их выклинивания, протяженность границ и многое другое. Короче, нужно было переходить на разведку недр методом отраженных волн — МОВ.
Тураево от Тюмени всего в 23 километрах. Хотя попадать в город можно было, в основном, пешим порядком, близость к нему помогала в решении многих проблем с питанием, отдыхом. Новый год, например, мы встречали в городе, с новыми знакомыми из экспедиции. Но и в селе разместились неплохо. База расположилась в одном из обширных дворов. Очень скоро и дом этого двора превратился в наш клуб — место сбора, отдыха, обогрева. Как ни странно, хозяевам такое положение скорее нравилось, чем вызывало неудовольствие.
Каравацкая Е.В.:
Работать тоже было хорошо. В партии одна молодежь, всем лет по двадцать, всё нам было весело, интересно. «Стариком» (хотя ему, наверное, и сорока не было) считали только начальника партии Ильясова. Но он скоро уехал в Москву, и за него остался Володя Монастырев. Тут уж смех стоял! Нашли «Книгу приказов» отбывшего начальства, а он там подробнейшим образом отражал все наши ежедневные «события», по каждому — приказ и принятые меры. По вечерам мы устраивали громкие читки этой книги и помирали со смеху. Потом разнесли все по листочкам на память.
Бобровник И.И.:
Да нет, когда Ильясов вернулся, Монастырев ему эту книгу вернул, и она была продолжена… Наше не слишком уважительное отношение к начальнику партии объяснялось по меньшей мере двумя причинами: во-первых, юношеским максимализмом, во- вторых, особенностями личности этого человека. Владимир Яковлевич Ильясов мало интересовался техническими вопросами сейсморазведки, целиком полагаясь на инженеров-сейсморазведчиков, операторов: Бунькова, Монастырева, Бугайло. Зато ни один производственный или бытовой случай не оставался без его внимания. Запомнился он и некоторыми чудачествами: одевался всегда в сапоги, военный плащ, форменную фуражку, на плече полевая сумка, на груди бинокль. Районное и местное начальство он в этом одеянии посещал верхом на арендованной партией лошади. Ильясов в декабре поехал в Москву на курсы повышения квалификации. Партию у него принял Монастырев, передав в свою очередь сейсмостанцию Лене Каравацкой. А в моей сейсмостанции появился новый шофер: Миша Бабанов — бывший военный радист, веселый, начитанный, покладистый молодой человек. Он примкнул к нам с Монастыревым. Его забавные рассказы о службе скрасили долгие зимние вечера.
Монастырева Г.С.:
После ресторанов ребята очень быстро переходили на полуголодное существование. Иногда мы их подкармливали, готовили что-нибудь, приглашали в гости. Я любила стряпать. Я же с Украины, у нас еде больше внимания уделяется, чем в Сибири. Теперь вспоминала, что и как делала мама. Память у меня оказалась хорошая, ну и задатки, наверное. Получалось вкусно! Ребята стеснялись, но, оказавшись за столом, не могли удержаться и сметали все до крошечки. В благодарность иногда пытались поцеловать. Но вообще относились очень уважительно, бережно. Никогда никто при нас не матерился. С ними было и надежно, и весело. Пожалуй, только лучший друг Монастырева Толя Кузнецов был с девушками слишком… настойчив. Со всеми остальными у нас получалась очень хорошая дружба. Так по крайней мере мне казалось. Ваню Бобровника я считала почти что братом. С Володей Монастыревым было как-то напряженно, но он был такой веселый, остроумный…
Бобровник И.И.:
Про него иногда говорили, что для красного словца не пожалеет ни мать, ни отца. Очень он любил меткие остроумные выражения, анекдоты, словечки, знал их немало, копил в памяти, сочинял экспромтом, всегда к месту вставляя в разговор. Был доволен, если удавалось рассмешить, и сам смеялся заразительно и с удовольствием, умел разрядить напряженную обстановку.
Где-то в конце зимы, уже к вечеру, к нам на квартиру в Тураево заявился веселый, худощавый, и оттого казавшийся длинным, молодой человек. Заявился шумно, как дорогой, хоть и нежданный гость. Вовка кинулся его обнимать, представил нам: Анатолий Алексеевич Кузнецов, старый друг по школе, заводу, институту. С тех пор и мы стали друзьями. Анатолий Алексеевич Кузнецов в 52-м году вернулся в Свердловск, работал там в Уральском филиале Академии наук. Я позже учился заочно в Свердловском горном институте, там же готовил и защищал диссертацию. И если в какой-то из приездов я не останавливался у Кузнецовых или Буньковых, была мне головомойка великая. Это счастье — иметь таких хороших, добрых и заботливых друзей.
Каравацкая Е.В.:
Приходили новые люди, но никого не надо было подгонять, упрашивать. Порой, наоборот, с работы приходилось гнать самых усердных. Так вот Будникова гоняла. Он радиомехаником был, отлаживал станцию после рабочего дня и очень старался. Уж ночь кончается, глазищи красные на лоб лезут, а я знаю, что там ерунда, мелочь, и сама бы днем наладила. Гоню его, а он не идет, злится. Кончилось тем, что поженились.
Бобровник И.И.:
С первых же дней приезда в село потянулась череда проблем, связанных с морозами и переходом на работу методом отраженных волн (МОВ). Прежде всего начали замерзать аппаратура, фоторастворы. Поставили в станцию керосинку, потом к ней приставили круглосуточного дежурного, потом добавили примус — вроде лучше, успокоились.
Монастырева Г.С.:
Конечно, это было очень опасно. Мы с Леной Каравацкой в первую же ночь в Тураево едва не угорели. Приехали поздно, решили никого не поднимать и ночевать забрались в сейсмостанцию. Тогда еще ночью ее не отапливали, но было холодно, и мы с Леной время от времени разжигали примус, грелись, потом открывали дверь и проветривали. Спали по очереди, но к утру задремали обе. Проснулись с трудом от грохота: Монастырев в дверь колотил. Когда мы открыли, он закричал, ужасно довольный: «Они не только живы, но еще и пахнут хорошо!» А мы за неимением воды руки протирали одеколоном.
Бобровник И.И.:
Угореть никто не угорел, но однажды утром прибежала девчонка с криком: «Станция горит!» Мы выскочили из дому в чем были, мчались по селу полуодетые, пугая прохожих, но к нашему прибытию станцию потушили. А было вот что: примус погас, дежурная побежала за спичками, а в это время станция наполнилась парами бензина. После этого доверять керосинкам перестали. Сконструировали маленькие «буржуечки» с двойными стенками и с песком между ними для тепловой инерции. Эти «буржуйки» потом заказывались для других сейсмопартий хозслужбой экспедиции. Дежурить рядом с такой печкой приходилось, конечно, круглосуточно.
Каравацкая Е.В.:
Но с такой печечкой и поспать можно было, свернувшись на столике, — очень хорошо чувствовалось, когда пора дров подбросить!
Бобровник И.И.:
Второй проблемой стало бурение достаточно глубоких скважин с обсадкой их стенок трубами. Дело в том, что на участке Гусево — Тюмень в скважинах начал попадаться так называемый напорный плывун. Это взвешенный в воде песок, который не оседает на дно, сколько ни держи его в банке — он плавает. Если его раскупорят на глубине, скажем, 10 метров, он поднимется на 3-4 метра вверх и будет стоять на этом уровне, сколько его ни черпай желонкой. Пройти его можно, только обсадив стенки трубами. Но трубы приходится каждый раз извлекать из скважин — тут технология «на пупа» бессильна. Нужны копры. Копер — это сооружение из нескольких отесанных бревен, скрепленных наверху толстым железным шкворнем, к которому подвешен блок с перекинутым через него тросом. Один конец троса опускается в скважину, другой наматывается на ворот, вставленный между двух ног копра. Гениальное в своей простоте сооружение. Если к нему приставить четырех дюжих мужиков, можно поднимать 10 и более тонн груза. Руководил постройкой копров недавно нанятый первый прораб буровых работ Н.А. Гутенев, прозванный «кожаным клапаном» за всем порядком надоевшую мечту поставить в желонку кожаный клапан. Очень спокойный, весьма пожилой человек, он каждый день выезжал на профиль, часами стоял у копра, наблюдал за работой, потом говорил: «Ну вы работайте, а я…», поворачивался и уходил. Бригада хором доканчивала: «Пойду!» Эта добродушная шутка повторялась много раз, неизменно поднимая настроение в бригаде. Сделали три копра. Залатали косы. «Вылизали» аппаратуру. Проштудировали конспекты Лены Каравацкой.
Каравацкая Е.В.:
Я все свои записи из техникума с собой возила — целый чемодан! Как они тут пригодились! (Потом Бобровник по ним еще лекции на курсах читал — так и не отдал.) И в феврале мы с Бобровником на двух сейсмостанциях взялись опытничать.
Бобровник И.И.:
Первую взрывную скважину пробурили вблизи ограды Парфеновского кладбища, следующую — через полтора километра, третью — через три и так далее вдоль по Тобольскому тракту. Промежуток между скважинами заполнялся косами двух сейсмостанций (48 сейсмоприемников). Первую спаренную стоянку стреляли не меньше недели, вторую тоже. Пробовали заряды разного веса, разные глубины их заложения, различные режимы аппаратуры. Наконец получили вполне приличные записи отраженных волн.
Монастырев В.К.:
Там ведь разница небольшая, в принципе: немножко система наблюдений другая, аппаратурные наблюдения другие — ничего особо сложного, еще в 20-е годы Воюцкий этот метод разработал, но им почти не пользовались, единственным производственным методом считался метод преломленных волн.
Бобровник И.И.:
Нужно сказать, что отличные записи отраженных волн — это не только и не столько наша заслуга, но и исключительно благодатное для образования отраженных волн строение разреза и Притюменья, и всей Западной Сибири в целом. Чего только стоит выдержанный на огромной территории опорный «горизонт Б», основа всех геологических построений. Скольких серьезных ошибок удалось избежать и геофизикам, и геологам благодаря тому, что он есть. Постепенно мы приловчились и стали стрелять по две, по три стоянки в день. Буровики не успевали бурить новые скважины. Потребовалась четвертая буровая бригада. Заряды теперь опускались в скважину на грузилах, трубы затем поднимали на один-два метра. После взрыва трубы садились на забой, скважина чистилась, опускался следующий заряд. В общем, зимний полевой сезон пошел.
Каравацкая Е.В.:
А какая снежная была зима! Снег сыпал и сыпал. Однажды утром наша сейсмостанция, пробираясь по дороге после ночного снегопада, наехала на машину, занесенную накануне. Уйти с дороги мы теперь и вовсе не могли, а работали под самой Тюменью, машин много. К записи начинаем готовиться — останавливаем движение, и тут же в обе стороны станции колонны выстраиваются. Холодно, водители боятся моторы глушить, а нам-то надо, чтоб тишина была. Ходим, уговариваем. Левую колонну уговорили — правая шумит. Пока с правой договоришься, левые опять моторы повключали!
Бобровник И.И.:
Как-то так установилось, что мне пришлось быть и старшим оператором (позже эта должность стала официально называться начальник отряда), и оператором, и помощником оператора. Хорошо, Миша Бабанов проявил самый серьезный интерес к работе сейсмостанции и на профиле предложил мне своего рода сделку: я его учу сейсморазведке, он меня — шоферскому мастерству. Уже осенью, в другой партии, я передал ему сейсмостанцию вместе с официальным назначением его оператором. А пока он добровольно взвалил на себя почти все обязанности помощника оператора.
Тем временем в экспедицию отозвали Монастырева, а оттуда командировали на курсы повышения квалификации в Москву. Партия осталась без единого инженера-сейсморазведчика. Экспедиция тоже. А у нас в камералке начали накапливаться материалы, требующие срочной обработки. Волей-неволей вопросы выбора методики для обработки сейсмограмм MOB и построения разрезов пришлось решать нам, выпускникникам Киевского техникума. Мы, правда, нисколько не испугались, а снова достали конспекты, восхваляя усердие и предусмотрительность Лены Каравацкой, почитали, подумали, вспомнили, как строго теоретические палетки для определения скоростей по годографам отраженных волн. Сима и Галя настроили палеток по методике Ю.В. Ризниченко и В.А. Бупегайло (того самого), вместе посмотрели сходимость результатов, попробовали строить разрезы методом засечек и методом эллипсов, выбрали лучший. Нынешние выпускники вузов если и знают об этих способах, то только понаслышке, хотя в основе современной цифровой обработки сейсмограмм лежит теоретическая база именно этих методик. Первые десятки километров разреза к востоку от Тюмени вызвали у корифеев геологии некоторое недоверие: по сложившимся на то время воззрениям здесь предполагался подъем, вал, а получалось погружение, впадина. Верь не верь, а материалы-факты налицо. В экспедиции дипломатично решили продублировать часть профиля методом преломленных волн. А время уже подпирало, шагала весна. Пригнали в партию третью сейсмостанцию, ту, которая прошлой весной ушла в Кустанай. Радостно было встретить Лёню Глухих и его жену Нину Подгайко. Дело пошло чуть быстрее: каждый взрыв регистрировался одновременно тремя станциями (72 канала). Чтобы еще больше сэкономить время, на прямолинейных участках делали разрывы в 3-4,5 километра. Простреляли, увидели, что все правильно: от Тюмени на восток фундамент погружается. Погружение потом назвали Тюменский прогиб. Лёня с Ниной уехали. Вернулся в партию Ильясов. Появилась у нас первая радиостанция — наладилась связь с экспедицией. Прибыл и радист Иван Константинович Плахин — военный бортрадист, с женой Шурой, энергичной, способной, все на лету схватывающей женщиной, она потом быстро выдвинулась в старшие рабочие.
…Борки, Сазоново, Дубровное, Усалка — прошли на едином дыхании, «только кустики мелькали», как потом шутили рабочие. Совсем развезло. Вот-вот переправы через Тобол и Иртыш закроются. Все — закончился зимний полевой сезон, первый в жизни, первый в практике сейсморазведки.
Симу и Галю отправили на курсы в Свердловск, а мы получили приказ срочно перебазироваться в Защитино, что в шести километрах за Тобольском (ныне Менделеево — спутник Тобольска). В партию прибыл первый трактор — С-80, большая, тяжелая, сильная машина. Его тотчас погнали вперед. Сами же в пожарном порядке собрались, привели аппаратуру в походное состояние, написали хозяйкам расписки (никаких денег партия не видела уже четыре месяца, так что все мы были кругом должны и за постой, и за продукты) и табором, выталкивая то одну, то другую засевшую в грязи машину, к утру следующего дня прибыли в Защитино.
Высоко взлетело Защитино над могучим Иртышом. Высокая круча, кругом лес. В центре села пруд и большая площадь. Здесь и расположилась база, хорошо видная из окошек квартиры Ильясова. Кстати сказать, все базы, во всех селах устраивали именно перед окошками его квартиры. Снег растаял, грязища в селе непролазная. И тут мы получаем радиограмму: экспедиция перевела деньги! К трактору прицепили двухосный прицеп, начальник сел в кабину, поехали за деньгами. А денег банк нам не дал, ссылаясь на всякие обстоятельства. На следующий день — то же самое. Тогда Ильясов поставил трактор под окна банка и велел трактористу газовать. Через час явился в банк с ультиматумом: трактор будет греметь, пока не выдадут деньги. Банковские служащие пытались жаловаться в милицию, но это им не помогло, деньги пришлось выдать. Отпраздновали событие в лучшем ресторане Тобольска. Вернулись домой к рассвету. Начали относиться к начальнику лучше, и он как-то оттаял, стал более домашним.
В тот год праздник Первомая совпал с Пасхой. Гулянье было двойное, в лесу между деревней и берегом-кручей не смолкали песни и смех. Деревенские слились с приезжими и вместе «гудели» все праздники. После праздников трактор вывез буровые копры и взрывпункты за деревню, вытащил станции. Подготовились, стрельнули раз, стрельнули два — ни намека на отражения. Какая-то муть на сейсмограммах, и больше ничего. Не может быть, чтобы обе станции разом вышли из строя, чтобы все приборы забастовали. Заказали заряды в пять раз большие, чем те, которые были на маршруте Тюмень — Усалка, простреляли снова — получилось еще хуже. Предположили, что виновата гора над Иртышом: ее рыхлые безводные породы так поглощают отражения, как подушка глушит звук.
Это был последний мой выезд в поле в этой партии. Вернувшийся из Москвы Монастырев начал формировать партию в городе Называевске для региональных работ по маршруту Называевка — Колосовка — Тара — Тевриз. Предстояло делить кадры. Пришла радиограмма Ильясову откомандировать в экспедицию Бобровника, Бабанова, некоторых буровиков, взрывника. Все уехали, а требование откомандировать Бобровника Ильясов от меня скрыл. Но не тут-то было. Для радиста Плахина мы были роднее Ильясова и потому читали все, касающиеся нас радиограммы. Как только заработали паромы, я с первой же машиной, которую Ильясов послал в Тюмень, сбежал-уехал без благословения начальника партии.
Монастырева Г.С.:
Мы с Симой Гусак вернулись после свердловских курсов в экспедицию, и тут Уманцев нам объявляет, что Симе нужно в Тобольскую партию, а меня Монастырев требует в свою Называевскую — интерпретатором! Я перепугалась: «Не поеду! Я не справлюсь — интерпретатором!» — «Придется ехать. Справишься». Три дня я сидела-переживала в Тюмени, скрываясь от Уманцева. На третий вечер пошла с девчатами в кино и тут с ним столкнулась. Он был изумлен, сказал, что в партии ждут и «чтобы завтра же, безо всяких разговоров!». Пришлось ехать. И там очень скоро мы с Монастыревым поженились.
Шмелев А.К.:
После отъезда Бобровника из Тобольской сейсмопартии станцию принял Плахин, работал на ней оператором в паре с Леной Каравацкой. Вскоре уволился начальник партии Ильясов. Я принимал у него партию. Пришел с утра на базу, осмотрел сейсмостанцию, машины, хозяйство буровиков, взрывников, разговариваю с рабочими — подходит Ильясов и говорит: «Был у вас командир, а теперь будет колхозный бригадир!» Махнул сокрушенно рукой и ушел. Рабочие посмеялись и давай рассказывать, как он командовал. С партией в поле не выезжал, а где-нибудь в полдень появлялся на возвышенности верхом на коне и вел наблюдения в бинокль. Вечером, когда партия возвращалась на ночлег, из избы, где квартировал командир, вылетал вестовой: «Оператора на разбор дня! Топографов! Взрывников!» До полуночи разбор шел, а потом командир писал свои приказы и пил горькую.
После Тобольска Ильясов уехал в Свердловск, принял Полярную партию, проводившую магнитометрическую съемку «в пределах Саранпаульского сельсовета», как записано в составленном им отчете. Дальнейший его след затерялся, говорили, что вскоре он трагически погиб на железнодорожной станции города Свердловска.
Бобровник И.И.:
Закончился первый год сейсморазведочных работ в Тюменской области. Не грех и похвалиться, если есть чем. Во-первых, освоили сейсмостанции, научились работать на профиле, с аппаратурой и людьми. Приобрели опыт сами и с нами многие рабочие разных профессий. Научились возбуждать и регистрировать отраженные и преломленные волны, научились обрабатывать их. Короче — освоили два основных метода сейсморазведки: МОВ и МПВ. Впервые в Союзе показали возможность ведения сейсмических работ по круглогодичному циклу, зимой и летом. Отработали свыше 200 километров профилей МПВ и более 100 километров МОВ. Выявили ряд структурных перегибов, в том числе наметили крупную структуру в районе села Покровка. Создали условия для работы в летний полевой сезон 49-го года трех сейсмопартий (пять сейсмостанций).
Кадры решают все!
Шмелев А.К.:
К весне 49-го года в Тюменской геофизической экспедиции осталось три инженера: мои однокурсники — «вундеркинды» Монастырев и Кузнецов и сам Уманцев. Главный инженер экспедиции Тамара Андреевна Малышева, будучи в отъезде, попала в дорожную катастрофу и уже не вернулась в Тюмень. Ее вынужденный уход был невосполним. Для многих она успела стать не только наставником, но и старшим другом. Но надо было работать дальше, наращивать объемы, особенно сейсморазведки, создавать новые партии. Уральский геофизический трест принял решение перевести из Кустаная в Тюмень супружескую пару инженеров-сейсморазведчиков: меня и Ину, но не тут-то было! Ина — немка по национальности, и в Кустанае, бывшем тогда местом ссылки, ее сразу взяли на специальный учет, как еще одну ссыльную, хотя приехала она туда после института своей волей, по моему распределению. И вот теперь не выпускали. Сначала я сам ходил в милицию, пытался доказать, что ведь женаты, двое детей, на что мне там отвечали: «Тебе что, наших девчат мало?» Тогда за дело взялись обе экспедиции и трест. Меньшиков и Уманцев пообещали вызволить Ину, а кустанайцы — всячески о ней заботиться и не давать в обиду. Конечно, я все равно уехал с тяжелым сердцем, хотя знал, что работа предстоит интереснейшая.
Свою работу в Тобольской партии я начал с повторения попыток получить отраженные волны на высоком берегу Иртыша, на горе у деревни Защитино. Ничего не получилось, и этим остались очень довольны геологи: «Правильно, геология тут предполагает кристаллический щит Тоболия, залегающий на небольшой глубине». Мы опустились с горы на пойму и первым же взрывом получили отраженные волны — фундамент на глубине двух километров! Вот тебе и щит Тоболия, вот тебе и геология! Отраженные волны не проходили из-за особенностей пород, складывающих гору. Значит, следовало идти низким берегом. Но пойму затопил весенний паводок, на этой горе мы оказались, как на острове. Я арендовал в Тобольске самоходный паром, погрузили на него все наше хозяйство. Хозяйство большое, а паром старый, деревянный. Перегрузили мы его основательно, плавание нас ждало опасное. Уманцев распорядился выходить на связь каждые два часа, чтобы, если что случится, вовремя организовать помощь. Но мы благополучно дошли до деревни Сабанаки, разгрузились, начали работать — где тут каждые два часа к радисту бегать? Я передал, что буду сообщать, как и раньше, утром и вечером. Радиосвязь в экспедиции была недавно организована, и дисциплина в ней держалась военная. Радисты — в основном, солдаты, вернувшиеся с фронта, их начальник Анатолий Яковлевич Оленев еще и профсоюзную организацию возглавлял. Строг был исключительно! И вот за один день я получил три выговора — по одному за каждый невыход на связь. Но потом убедил экспедицию, что двух сеансов достаточно.
Работали, как и в прошлое лето, вдоль дорог. Выбирали базой крупное село, так, чтобы идти профилем до него 25-30 километров и после него работать на удалении до 30 километров. Потом переезжали в следующее. В селах нас встречали гостеприимно, охотно предоставляя жилье, отпуская в долг картошку, молоко, мясо, яйца. В долг, потому что зарплату экспедиция по-прежнему получала раз в 2-4 месяца.
Бобровник И.И.:
По сравнению с деревней мы богачами были. После зарплаты местный магазинчик скупали полностью. Там обычно только и стояло какое-нибудь дорогое вино да крабы — никому в деревне этого не надо, да и цены недоступные. Но и нам с такими тратами денег хватало ненадолго, вот и брали потом у хозяев все, что они могли продать, в долг. А продать им обязательно надо было, потому что с них брали налог деньгами, хотя зарплаты не давали, трудодни выплачивали продуктами, да и какими — порой получали по горсти овса на трудодень. Как только налог отменили, тех же яиц стало не купить: своим ребятишкам надо.
Шмелев А.К:
Молодежь устраивала совместные игры, танцы, и любой парень или девушка готовы были уйти с партией. Одних хватало на один-два сезона, но многие так и остались на всю жизнь в геофизике. Обучались сначала на экспедиционных курсах — с первого года началась подготовка топографов, вычислителей, операторов и помощников операторов по всем методам. Некоторые потом и техникумы, институты окончили. Вот так в то лето ушли с нашей партией Аркадий Васильевич и Мария Константиновна Кузнецовы, братья Чусовитины…
Кузнецов А.В.:
Меня знакомые ребята, братья Черкасовы, уговорили: интересно, мол, бурение, работы взрывные! А я в райисполкоме тогда работал, отвечал за физкультуру и спорт, но все равно дома не жил, все в походах, все в разъездах: то посевная, то уборочная, то заготовка кормов, то лесозаготовки. Так что передвижной фактор не пугал, главное, чтобы работа была интересная. Три дня Черкасовы меня уговаривали, наконец я согласился и пошел в их бригаду буровым рабочим. Работал почти год, и жена тут же, в сейсмобригаде. Потом нас направили на курсы, и я уж помощником оператора стал, а Маша — вычислителем.
Чусовитин Я.Г.:
Мне некуда вертаться было. В колхозе — там что делать? Двадцать семь копеек на трудодень — бесплатно работать. А раз уж тут я подучился — так что от добра добра искать? И потом, однобокий я всю дорогу: как к одному боку пристал, так и шел, и шел, и до сих пор от этого не отхожу никуда.
Каравацкая Е.В.:
Молодые парни работали у нас после армии шоферами. Был такой Миня — лучше, чем трактор, ходила его машина, он на ЗИЛ-160 ездил… Водителям, пока станция работает, делать нечего, шли операторам помогать. Так Миша Бабанов из станции не выходил и скоро уже мог сам ленту принять. В 51-м году он уже начальником партии стал. По дурости своей погиб… Коля Малков танцевал от радости, если ленту примет. И еще парень у меня учился, с курсов Бобровника, Коля Могутов — большущий, неуклюжий, медлительный. Для начала я ему дала запись от небольших взрывов, чтобы поучился. «Можешь, — говорю, — десять лент запороть, но чтобы сам выдал». Он запорол двадцать одну. Взмок весь. Говорит: «Последнюю. Если и эту запорю, уйду к черту из этой геофизики-сейсморазведки!» И выдал. Обрадовался: «Остаюсь!»
Операторы-практики умели всё нажать как нужно, но что им из земли пришло, что сейсмограмма говорит — не понимали. Такими операторами девчата мои, старшие рабочие, из-за спины командовали. Шура Плахина, Надя Сверчкова, Маша Татарнина, Таня Ставцева могли и сами ленту принять. После были у меня на практике и студенты. Мальчишечка один из детдома Зигмунд Звуйковский (в Киевском техникуме учился) готовым оператором после практики уехал. Безотказный парень был. Вместе с рабочими косу пройдет, все сейсмоприемники проверит. Для меня это первое дело, ведь с сейсмоприемника вся сейсморазведка начинается, важно, где, как он стоит, как подключен. Бывало, что все подключено, отлажено, тишина на профиле, но один приемник пишет что-то несусветное. Что такое? А под ним жук ворочается! Но, в основном, поломка одна и та же случалась, мы ее сами и исправляли тут же.
Потом была дивчина одна из университета. Той наша работа не нужна была вовсе, ей бы волейбол да позагорать. Спрашиваю: «Зачем же ты учишься этому?» — «Я же в станции не буду работать, это не женское дело, у меня будут помощники, операторы». Уехала, осенью письмо присылает: «Опишите процесс получения сейсмограммы!» Но такие уже позднее появляться стали.
Насчет того, что, мол, не женское дело… Сколько себя помню, только с мальчишками дружила. И любимое наше занятие было — походы к Днепру, там мы по кручам лазили. Бегать я не могла: порок сердца, с девяти лет ревматизм развился, но ходила хорошо, от друзей не отставала. И в технические кружки во Дворец пионеров вслед за ними пошла. Если бы с моими болезнями в конторе сидеть, я бы, наверное, давно не жила уже! А тут — движение, свежий воздух и удовольствие от работы. И я никогда не выдавала больше нормы, рекордов не ставила. Норма была всегда, ну, может, чуть больше. Люди у меня затемно не работали. Если с 8 начали, то в 5 кончают. И аварий никаких не было.
Шмелев А.К.:
Много больше нормы она делала. И главное, материалы всегда качественные. Людей зря никогда не гоняла. Лена ведь оператором не сразу стала, опыт у нее уже был, и рабочие знали, что если она сказала так — значит, иначе нельзя. Авторитет у нее всегда был. А в станции какая чистота! Зато и работала станция безотказно. Менять ее на новую ни за что не хотела.
Каравацкая Е.В.:
Где-то году в 55-м Шмелев у меня станцию отбирал. Приехал такой серьезный, с какой-то комиссией. Знал, что будет оказано сопротивление! «Все, Леночка, с твоей «Эхо» уже никто не работает». Чем моя станция их не устраивала?! Я чуть не плакала: она у меня хорошо работала! После нее еще две были, и с каждой расставаться было жаль.
Шмелев А.К.:
Да я ей свою сейсмостанцию отдал! А она у меня необыкновенная была. Потом ее на самолете для авиадесантной сейсморазведки поставили. Каждая станция после рабочего сезона следующий на профилактике стоит, отлаживается, а эту операторы соглашались тут же брать, без всякого ремонта. Так — вроде все как в любой другой, но, видно, честный человек ее делал. Вот и Лена — с таким оператором любому начальнику партии работать одно удовольствие. Уж на нее-то всегда во всем можно положиться — больше, чем на самого себя.
Вторым оператором был я сам, помощником — Миша Лихтарь, а вот инженера-интерпретатора не было. Рассчитывали на Ину, но ее приезд все откладывался. То же самое в партии Монастырева. И опять на выручку пришел Свердловский горный. Ко мне инженером-интерпретатором назначили преддипломника Славу Шмакова, а в партии Монастырева проходила практику целая группа студентов под руководством Бунькова. Интерпретатором стал студент Косов, оператором студент Цибулин. Третья сейсмопартия была и вовсе студенческая и состояла из 11 человек и одной сейсмостанции. Сравнить с нашими партиями — в каждой 100 человек работающих, по две сейсмостанции, трактору С-80, по 5 автомашин — не партия, а всего лишь легкий отряд, но задача перед ними стояла серьезная: отработать методику ведения сейсморазведочных работ с воды. Начальником третьей сейсмопартии Уманцев назначил студента-дипломника Всеволода Андреева.
С Волькой мы познакомились еще абитуриентами, когда подавали документы на факультет геологоразведки. Приемная комиссия, ознакомившись с нашими аттестатами, рекомендовала переписать заявления и поступать на геофизику: новая ступень в геологии, прикладная наука, современная аппаратура — как раз для имеющих склонности к точным наукам. Мы оба были отличники, но про геофизику не слыхали. Но уж раз «прикладная наука» и на геологию похожа, согласились. Вместе учились два года, вместе добровольцами ушли на фронт. Но тут наши пути разошлись. Я из «кулацкой» семьи (отец был деревенским кузнецом), сосланной в Магнитогорск, мне и поступать-то в вуз с большим трудом разрешили, и на фронте в «подозрительных» оставался. Хоть и имел ранения и награды, но дальше сержанта не выслужился. А Волька в партию вступил, в командиры вышел, из армии его никак не отпускали, мог бы военную карьеру сделать. Командир он и правда был прирожденный: высокий, громогласный, всегда вокруг него было шумно и весело, такой центр притяжения. Но вот спину гнуть перед вышестоящим начальством — этого он не мог. Жил — как хотел, как считал честным и правильным. Решил доучиться — и вернулся в институт, пусть и через два года после войны. Андреев был известная личность не только в Горном институте, но и в Уральском геофизическом тресте. Такого студента можно было смело начальником партии ставить, не дожидаясь диплома.
Интерпретатором третьей сейсмопартии, получившей название Обской, стал студент четвертого курса Александр Пухарев, запомнившийся Уманцеву с прошлого лета исключительной самостоятельностью в организации работы магниторазведочного отряда.
Пухарев А.И.:
По возрасту я немногим моложе Андреева и Шмелева, войну, правда, был не на фронте, а на танковом заводе, что приравнивалось к армейской службе. А до войны, еще школьником, на золотых приисках работал. Родители были репрессированы, так что ни о каком институте тогда и думать не приходилось. Да и после войны нас с завода добром не отпускали. Хитростью паспорт выманил, сбежал, строго говоря. Привык ни на какую помощь не рассчитывать, обходиться тем, что есть.
От работы в Обской сейсмопартии в 49-м году у меня сохранились студенческий отчет и характеристика, подписанная Уманцевым. Отчет — сильно научный, без спецтерминов только в одном абзаце обошлось: «…Основные пути сообщения — реки. Период навигации длится с мая по октябрь. Второстепенное значение имеют грунтовые дороги, по последним движение в зимнее время затруднено снеговыми заносами, в период же весенней и осенней распутицы они вообще непроходимы. В вышеописанных условиях большое значение имеет начавшееся освоение воздушных трасс, но связь по ним поддерживается преимущественно самолетами У-2». Тут следует дополнить, что главным недостатком грунтовых дорог было все же их отсутствие. Только в южной части области связывали они населенные пункты. Зато «голубых дорог» хватало и на севере, и на юге, чем успешно пользовались партии гравиков и магнитчиков. Сейсморазведке перейти на воду значительно сложнее, но других возможностей для ведения летнего полевого сезона в северных районах не было.
Сейсмостанцию было решено установить на паузке — металлическая сварная баржа. Когда после сдачи сессии да копания «университетской канавы» (было в 49-м году такое задание возложено на всех свердловских студентов) я явился в Тюмень, паузок, под руководством Вольки Андреева, уже варили для нас на тюменском заводе «Цепи Галля». Теперь надлежало придумать, каким образом и где разместить сейсмоприемники. Лучше всего, конечно, на воде: она хорошо проводит колебания, и не надо было бы растягивать косу на заболоченных, заросших берегах. Но как быть с обычными речными волнами? Решили опустить сейсмоприемники вглубь, подвесить на буйках. А буйки сделать из пустых консервных банок. Сейсмоприемники тяжелые, банок понадобилось много, на каждый — целый букет. Всей экспедицией банки эти по Тюмени собирали. Отчистили, запаяли, сейсмоприемники загерметизировали. Долго возились со станцией: бракованная попалась, все контакты пережаты. Наконец поехали на реку пробовать систему. Баночное хозяйство себя не оправдало: банки пляшут на волнах, и сейсмоприемники вместе с ними. Да и разматывать косу по воде, с лодок, оказалось еще тяжелее, чем на земле. А вот взрывать в воде — гораздо проще: не надо скважины бурить. Косу с сейсмоприемниками перенесли на берег. Тут не удалось получить отраженные волны. А если работать преломленными, то размотки нужны по 10 километров и хотя бы приблизительно прямолинейные. В конце концов решили работать зондированием преломленными волнами там, где берег позволяет. Места для зондирований выбирать по лоции. Еще с отметкой времени надо было решить: до сих пор передавали по проводной связи, а наш радист Саша Григорьев предложил поставить зуммер и передавать по радио — отлично получилось. Единственно, потом выяснилось, — что таким же образом записываются на сейсмограммы и молнии.
Шестого августа выехали делать план. Хозяйства набралось — целый караван! Паузок с сейсмостанцией и нашими пожитками, два неводника (большие лодки) — один с взрывчаткой, другой с горючим, и два катера — немецкие, «Майбах», по 40 лошадиных сил, работавшие на авиационном бензине и развивавшие скорость до 12 километров в час, все это тащившие. Первый профиль развернули между Тобольском и Уватом. Взрывник у нас был один, а взрывпункта — три. Обучились. Я днем работал то взрывником, то оператором, а ночью — интерпретатором. Для начала Уманцев мою интерпретацию не принял: «Углы какие-то… Так не бывает! Пересчитайте!» Мы решили: углы получились из-за того, что профиль не прямой. Я формулу придумал, через косинус кривизну исправлять. Потом, правда, уже в институте, Бугайло мне сказал, что моя формула была ошибочной, но в чем ошибка — до сих пор не знаю. Еще обнаружили, что вверху по течению требовался больший заряд, внизу — меньший. Чем объяснить, не знали, но учитывали. Как и то, что на глубине хороший взрыв получается, а на мели много рвать приходится. Работе мешало разве что сильное волнение, а на сибирских реках оно нечасто.
При нашей работе выглядели мы, конечно, устрашающе и решили считать себя пиратами. Драные штаны заменяли нам «Веселого Роджера», Андреева называли адмиралом. У нас и гимн был почти собственного сочинения:
Адмирал Андрианеску — бог земной ecи для нас:
Кормит-поит хлебом-виски, при нужде дает аванс.
Приятель, смелей разворачивай парус — йо-го-го!
И смейся, как черт!..
И так далее. Волька, единственный из нас, был женат. Любил рассказывать, как на студенческом балу встретил девушку — совершенно необыкновенную. Мы слушали раскрыв рты…
Шмелева И.П.:
Валя Андреева потом рассказывала, как однажды кто-то из ребят, Григорьев, наверное, был командирован в город и завез ей письмо от мужа. Парень незнакомый, вошел, молчит и во все глаза ее рассматривает. А Валя на последнем месяце беременности была, да и так-то маленькая, кругленькая — засмущалась, не знает, куда деваться. И вдруг парень: «Она! Адмиральша!» — и бух на колени!
Пухарев А.И.:
На «адмирала» мы действительно только что не молились. Весело с ним было работать, и все у него получалось. Раз Андреев уехал за горючим, мы остались без катера, но шли по течению. К берегу баржу рабочий, самый здоровый из нас, причаливал. И вдруг провод лопнул. Колька с баржи спрыгнул с концом, доплыл до берега, вокруг березы обмотал — тот опять лопнул. Пришлось и мне прыгать с остатком провода. Еле доплыл. Замотали, а он и в третий раз лопнул. Паузок уплыл, а мы за ним по берегу в одних трусах, мокрые… Замерзли, комарье тут же налетело, а даже костра развести не можем: спички- то тоже уплыли. Ночью Андреев паузок привел: возвращаясь, встретил его на реке, выловил — уж как мы ему радовались!
Другое происшествие — с самолетом. Мы знали, что к нам вылетел Уманцев. Ждали-ждали — нет его. А уже на другой день прибегает пацан с телеграммой: «Выезжайте Демьянск с неводниками. Уманцев». Что такое — непонятно. Но зачалили неводники, поплыли. Причалили, поднялись на высокий берег и видим: на поле самолет лежит, а Уманцев с пилотом, засучив рукава, его на части раскурочивают. Оказалось, накануне они нас на реке не нашли, сели в поле. А утром подниматься — самолет в борозду попал. Шасси пополам, винт вдребезги, брюхо распорол. Ну, мы помогли самолет разобрать, наняли лошадь с подводой, свезли его по частям на берег, погрузили в неводники. Пилот Миша Елизарьев дней десять с нами плавал, пока за самолетом катер от авиаторов не пришел, был очень понурый, все утей стрелял и нас кормил. А мы всё летную сейсморазведку изобретали.
Находки попадались нам удивительные: бивень мамонта, акульи зубы (ну, может, не акульи, но очень похожие), серебряный рубль 1924 года, хрустальный графинчик… Потом все это в Самарово оставили, хотели в музей, но не знаю, туда ли попало. Мы спешили, уже сентябрь кончался, опаздывали на занятия. И профиль до Самарово сделать не успели, прошли только Черный Яр.
В Тюмени сдали всю документацию, получили характеристики от Уманцева. Я свою так и храню.
«Характеристика на студента 4-го курса Свердловского горного института Пухарева Александра Ивановича.
Пухарев Александр Иванович работал в Тюменской геофизической экспедиции с 30мая 1949 года в составе Обской водной сейсмопартии на должности интерпретатора. Принимал активное участие в организации впервые создающейся речной водной сейсмопартии, выработке методики работ по методу преломленных волн. Во время производственной полевой работы товарищ Пухарев исключительно добросовестно относился к своей обязанности интерпретатора, усложненной тем, что работа на реке Иртыш требовала внесения различных поправок в наблюдения из-за большой кривизны профилей.
Тов. Пухарев много сделал для обучения вновь принятых рабочих и вычислителей. Во время работы тов. Пухарев А.И. прошел практику работы взрывника и оператора. По своей подготовленности тов. Пухарев А.И. с успехом может работать техническим руководителем и начальником отряда по методу преломленных волн.
Начальник Тюменской геофизической экспедиции директор геологической службы третьего ранга Д. Уманцев. 2 октября 1949 г.». В Сибирь я больше не вернулся, хотя после этих путешествий она мне помнилась, конечно. Но для меня Урал родной. А здешние края — очень уж заливает все. Деревни стоят брошенные, взглянуть не на что. В селах нам говорили: «Хоть бы вы нашли что! Да чтоб вздохнул наш край!»
Шмелев А.К.:
Оборудование Обской сейсмопартии осталось под Ханты-Мансийском, здесь планировалась организация комплексной геофизической партии. В институт возвращались все студенты, в том числе и интерпретаторы первой и второй сейсмопартий Косов и Цибулин. В это же время мы с Монастыревым получили приказ командировать в распоряжение экспедиции операторов Бобровника и Каравацкую: формировалась еще одна сейсмопартия. Куда денешься — придется сажать в сейсмостанцию вчерашних шоферов, не зря же они в ней толклись — это я так рассудил. А Монастырев наотрез отказался отпускать не только Бобровника, но и Цибулина. Выговоры из экспедиции он получал по рации ежедневно, Цибулин и Бобровник пытались с ним договариваться по-хорошему -ничего не помогает. Пришлось им бежать тайно, на попутной машине.
Каравацкая Е.В.:
Я приехала в экспедицию раньше, явилась к Уманцеву. Посадил он меня перед собой, говорит: «Рассказывай». — «Что рассказывать?» — «Все рассказывай. Как живете, чего не хватает». Ладонями лоб подпер, ждет. Я подумала, начала рассказывать. Посреди разговора врывается Шалавин — геолог из нефтепоисковой экспедиции, бухнул карту на стол, ткнул пальцем: «Здесь бурить будем. Дайте обоснования!» Уманцев поглядел, пожал плечами: «Мы в этом районе не работали. Партии перебрасывать далеко». — «Что значит — не работали? У нас план! Уже оборудование завезено!» Вздохнул Уманцев: «Видишь, Лена, надо. Запустишь новую сейсмостанцию и примешь партию». — «Нет, говорю, — партию не приму. Оператором была и останусь». — «Ну, подумай сама — кого ставить?» — «А Бобровника поставьте! Парень хороший и в начальники рвется. Как раз ему подходит». — «Чего же хорошего, что рвется… Ну, ладно, сначала запустишь станцию, а там посмотрим». Станцию я за месяц запустила. И весь тот месяц писанину, как положено начальнику партии, вела. Еле дождалась Бобровника. Я как раз за бумагами сидела, когда он приехал, как его увидела, все это ему двумя руками двинула: «На!» И ушла свободная. Конечно, могла я работать начальником сейсмопартии и интерпретировать сейсмограммы, но оператор… Ведь первый берешь в руки что-то оттуда! Читать эти вести я умела.
Шмелева И.П.:
Я в Тюменскую экспедицию приехала только осенью, с младшей дочкой. Старшая после отъезда Саши серьезно заболела, врачи определили туберкулез позвоночника. Лечить ее можно было только в санатории, но кому нужен ребенок ссыльной немки! Наташу спасла семья Сегалей — тоже горняки-геофизики, учившиеся вместе с Сашей еще до войны. Женя совершила поистине чудо: каким-то образом она заставила туберкулезный санаторий железнодорожников принять совершенно постороннего ребенка. Переживала с нами вся экспедиция. И провожать меня в Тюмень тоже пришли все геофизики, оказавшиеся на тот момент в городе. Возможно, в пику сопровождавшему от спецорганов и его коллегам. По-моему, чувствовал он себя очень неловко, старался держаться в стороне и вообще не попадаться на глаза, подходил, только если надо было чем-нибудь помочь. В конце концов перебрался в другой вагон. В Тюмени сдал меня представителям экспедиции.
В партию к мужу первый раз я ехала ночью. Шофер Гриша Ростовщиков начал засыпать, велел мне песни петь. Но как я ни старалась, как он ни встряхивался, глаза у него закрывались, голова падала, машина пошла вилять… Доехали до какой-то деревни, он говорит: «Все, дальше ехать нельзя, перевернемся. Надо поспать». И повел меня в первую попавшуюся избу. А ночь же, нигде ни огня. Думаю: никто нам не откроет. Нет, открыли, пустили, тут же спать устроили. А в избе-то — ни тряпочки! И хозяева все, что могли… На квартирах мы жили — с нами тоже всем своим имуществом делились. У нас-то, при такой походной жизни, вовсе ничего не было. В Заводоуковске хозяйкой моей была Ефросинья Егоровна. У нее свои дети уже выросли, так она мне как мать была. Не только по возрасту, но и опыту, и заботилась, как мать. Добрая, мудрая, и в характере, и в облике благородство врожденное — как маму ее и вспоминаю.
В Тобольской сейсмопартии к моему приезду работали две учительницы, девушка после десятилетки и Клава Чунина — единственный готовый техник- вычислитель. Я сначала работала одна, интерпретировала сейсмограммы преломленных волн. Построила годограф и разрез. Боюсь, что получилась абракадабра, но Уманцев сказал: «Наконец-то я вижу геологически грамотную обработку!» Я была счастлива и почувствовала себя действительно инженером-интерпретатором. Правда, возглавлявшая поначалу камералку экспедиции Валентина Степановна Уманцева еще долго приговаривала, принимая наши материалы: «От ваших сейсмограмм у меня уже все печенки почернели!» Я обижалась, считая, что не так уж плохи наши сейсмограммы. И однажды, собрав все свое ехидство, спросила: «А какие они у вас раньше были?» — намекая на то, что с сейсмограммами она знакома не больше меня. Но Валентина Степановна засмеялась: «Розовые!» Она была техником-геофизиком, хорошо знала Магнитку, остальным методам училась наравне с нами, но если мы могли в чем-то ошибиться, то она, по своему положению, обязана была найти, исправить и объяснить эту ошибку. Еще бы ее радовали наши сомнительные сейсмограммы! Зато она была всехней мамой. Особенно, конечно, для девушек, работавших рядом с ней, в экспедиционной камералке.
Мне приходилось часто ездить с материалами из партии в экспедицию. Однажды в такой поездке меня пожалели и даже до слез. В тот раз вместе со мной возвращалась в Тюмень родственница одного из рабочих, приезжавшая к нему в гости из Ленинграда. С ребенком. Пришлось уступить им кабину, а самой лезть в кузов. Было очень холодно, и ветер. К счастью, в кузове оказался кусок брезента, под который мы еще с одной попутчицей и забились. Когда уже в Тюмени ленинградка увидела, как мы из-под этого брезента вылазим и у нас руки-ноги не разгибаются, у нее аж слезы брызнули: «Да что же это за жизнь такая?! Что это за работа для женщины?! Да никаких денег не надо!» Но мне моя жизнь не казалась ни слишком тяжелой, ни особо романтичной. Просто работа такая, я сама ее выбрала. Бывали иногда случаи… Я вспоминаю их как приключения.
А деньги — так, в сравнении с сегодняшними зарплатами работающих в поле, мы получали мизер, хотя для тех времен это была действительно высокая зарплата. Но при семейной жизни с Сашей нам порой нечем было за дрова заплатить. Он, как начальник партии, сам ездил в банк за деньгами. Вместе с ним отправлялись обычно попутчики. И, пока едут обратно, он раздает деньги в долг: кому-то матери больной послать, кому-то пальто зимнее купить. И не то что не записывал — даже не пытался запоминать, кому сколько отдал. Еще и сердился, когда я ему об этом говорила. Кто отдавал, а кто и нет. Сам он ходил в фуфайке, в ватных штанах и считал, что очень тепло, удобно, а значит, хорошо одет. Однажды к нам приехала его мать. Саша с Толей Кузнецовым отправились ее встречать, да опоздали к поезду. Потом она говорила: «Хорошо, что опоздали! Я в поезде-то расхвасталась соседям, что у меня сын — инженер, начальник, а встретили меня ну, чисто уголовники!» Боюсь, что в этих словах был укор для меня. Но дело не в том, сколько мы получали и как тратили. Это были вопросы быта, которые мы со своей работой не смешивали.
Шмелев А.К.:
Ина, и уйдя в декретный отпуск, продолжала работать в камералке: как раз готовился отчет, без нее было не обойтись. И вдруг приезжает Оленев, председатель разведкома, проводить расследование: почему я, нарушая трудовое законодательство, заставляю работать женщину, находящуюся в декретном отпуске? «Как же, — говорю, — заставляю? По документам она в отпуске, зарплату не получает. Палкой ее, что ли, еще из камералки гнать?» Отчет она закончила, увезла в Тюмень, а оттуда вернулась уже с сыном.
Шмелева И.П.:
Юрочку из роддома я принесла к девушкам в общежитие. Явилась, как к себе домой. И в голову не приходило, что стесняю. Да и не я одна. Постоянно здесь жили две подруги-сейсморазведчицы: Сима Гусак и Шура Бухленкова. Интерпретацией занимались мы втроем. Сима — техник, но зато в Тюмени с самого начала, мы с Шурой — инженеры, с примерно одинаковым опытом работы. Немного позже появился еще один интерпретатор Гриша Подъяпольский, заявивший нам при знакомстве: «Ну, я, конечно, больше вас троих, вместе взятых, знаю!» Он действительно оказался очень знающим инженером, но и мы, по-моему, не зря хлеб ели, тоже кое-что умели! Жила здесь же Нина Козлова, пока мой Шмелев не высватал ее за Толю Кузнецова.
Шмелев А.К.:
Толька был такой гуляка, что, когда он сказал мне, что хочет жениться на Нине Козловой, я только рукой махнул: «Где тебе! Она же серьезная девчонка». Но он не отступал и все доказывал мне, что он и хочет по-серьезному, по-настоящему. Оказывается, Нина сказала ему, что выйдет за него замуж только под мое поручительство. Пришлось рискнуть. И не напрасно.
Шмелева И.П.:
Зато в критический момент нашей семейной жизни я пошла помощи просить к тому же Толе. Родственников у нас здесь не было, и мы сами их друг другу заменяли. По воскресеньям в общежитии был гостевой день. Приезжали Лена Каравацкая и Иван Бобровник (их партия работала под Тюменью, на Тарманских болотах), девушки пекли пироги под руководством хозяйки, ставили самовар, являлись кавалеры…
Каравацкая Е.В.:
Часто у нас бывали Полина Щербич и Капа Кремлева — тоже из камералки девчата, электроразведчицы. Обе тюменские, чуть ли не одноклассницы. Полина первой в Тюмени Валентину Степановну Уманцеву встретила, знакомила ее с городом, помогала устроиться, потом так же и нас, приезжающих, принимала, привечала, даже подкармливала. И всегда знала, у кого какие беды, кому помочь надо. Но быстро замуж вышла за Сашу Чусовитина, на курсах они познакомились, и потом уж больше с мужем, с семьей. А Капа долго еще парням головы крутила.
Шмелева И.П.:.
По-моему, и Полина, и Капа сразу были люди очень серьезные. Капа не то что «головы крутила», она себе не позволяла головы вскружить. А была очень хорошенькая, остроумная — с ней наши ловеласы терялись. Да еще Лену Каравацкую побаивались: умница и язычок как бритва — не подступишься!
Каравацкая Е.В.:
Никого они не боялись. Изобретательные, черти, были! Виктор Гершаник, он к нам осенью 49-го приехал — астроном, что ли, по специальности? Все девчатам про звезды рассказывал. Однажды ночью мне выйти надо было, а он в сенях Нине опять про звезды. Ждала-ждала — нет, никак не кончит. Пошла. Свет из двери на него упал, гляжу — слезы в глазах, сейчас брызнут! Аж нехорошо мне стало. На следующий день в станции (он у меня практиковался) спрашиваю: «Что же это вы вчера до слез достоялись?» — «А я могу в любой момент слезы вызвать. Показать?» — «Покажи». Отвернулся, постоял минуту, поворачивается — полные глаза слез! Все кругом влюблены были. Начались свадьбы, и каждую кто-нибудь да оплакал.
Монастырев В.К.:
Женами и детьми мы обрастали очень быстро. К декабрю 49-го в моей партии было 36 детей! Мы дошли до Тевриза и тут получили радиограмму: перебазироваться в Викулово. Это за 220 километров, а зима, дорог нету, снегу много. У нас единственный трактор С-80 и десятка два машин ГАЗ-АА и ГАЗ-51. И, страшное дело, у нас не было денег совершенно, мы не получали зарплату месяца три.
Переоборудовали машины — будка, печка. Трактор тащил две-три машины. Одну партию, другую, третью, четвертую… По 12 километров в день проходили. В деревнях принимали хорошо. Потому что появляется откуда-то этот трактор, которого до сих пор тут не видали, довольно страшная сила, и начинает подтаскивать машины, диковинные агрегаты, кучу народу, тут и дети, шум, гам… И понимали так, что едет какая-то непонятная, но важная экспедиция, ее надо принять, накормить, на ночлег устроить, в дорогу снабдить и — чтобы скорее уехали! Деревни были нищие, но картошка — не проблема, молоко, хлеб — тоже были. Я везде оставлял расписки, что я такой-то, обязуюсь погасить задолженность. В Викулово приехали к весне. «Железный поток» своего рода. Надо было дисциплину держать страшенную, ведь народ всякий был. Из лагерей, бывшие зеки, из армии. Конфликты были, драться не дрался, но… всякое было!
Цибулин Л.Г.:
Я тоже так начинал. Когда на практике замещал Монастырева, мне пришлось организовывать второй отряд. То же ручное бурение, желонки, змеевик — черт бы его побрал, нужны здоровые парни — пришлось принять целую кучу. Половина из них оказались освобожденные из лагерей. Один отряд был из, так сказать, старослужащих, второй — новички. Тогда тоже бывало, что зарплаты нет месяц, второй, потом вдруг переводят деньги, причем столько, что в этих бедных центрах и наличности-то такой нет, начинаешь мотаться туда и обратно изо дня в день. На базе, где стояли, все же кормили хозяева, а для выезжавших надо было иметь хоть какие-то деньги на руках. Я помню, что даже занимал у старых рабочих. Было такое семейство, он буровой мастер, у него два зятя буровиками работали, жена кладовщица, две дочки на сейсмопрофиле, — денег изрядно получали. И вот надо отправить отряд на неделю, я к нему: «Давай». — «На, возьми, Лев Григорьевич». Как раз мы опять переехали в Викулово, и я вечером пошел на стоянку автомашин посмотреть хозяйским взглядом, как тут чего. Подхожу и слышу разговор: «Давай тряхнем этого начальника! Пускай и нам деньги дает!» А отвечает мужик, возле которого (я сразу заметил) все мои зеки кучковались: «Если бы деньги у него были, он что бы их держал, что ли? Давно бы роздал. У него их просто нету. Я лучше пойду картошки наворую на огороде, чем буду к нему приставать». Я к этому мужику такое уважение почувствовал! Ишь, думаю, как правильно рассуждает!
Монастырев В.К.:
У меня заместитель была честная, исполнительная, просто — доверенное лицо, года четыре проработала, помогала очень сильно. Получала деньги крупные — 100, 150 тысяч, ведь за 3-4 месяца сразу — мешками! (Купюры тогда еще такие крупные были.) Выглядела очень импозантно, ходила в модном кожаном пальто, такой же кепке. Правда, мужеподобная, и шрам на лице, и лексикон такой… лагерный. И кто-то узнал, что она, оказывается, просидела 10 лет за бандитизм. Она сама мне рассказала, что была в какой-то банде, за разбойное нападение получила крупный срок. Ее просто уволили, и не знаю, куда она потом девалась.
После нее мне прислали бывшего милиционера — он какие-то большие роли выполнял милицейские, в тюрьме работал. Моментально стал конфликтовать со всеми, получил прозвище Пункт Гэ. Потому что в то время была такая статья КЗОТ 47-я, пункт «Г»: «Уволен за неоднократные нарушения дисциплины». И вот он только на базу пришел, авторитета нет, уважения нет, и стал всем грозить: «Я тебя уволю по сорок седьмой пункт «Г»!» Ну и стал Пункт Гэ, его иначе и не звали, я тоже не помню ни имени, ни отчества. Он чего-то быстро исчез. Прислали еще одного. С женой приехал, москвич, интеллигентный очень. Тоже месяца четыре проработал, получил прозвище Курепочка, показал себя жуликом, но так, по мелочам. И вдруг арестовали: оказалось, что это крупный растратчик, на него был объявлен всесоюзный розыск. Третий — Козаков. Тоже сначала у меня работал, потом, в другой уже партии, украл деньги — тысяч двадцать и убежал.
Шмелев А.К.:
Тут целая история. Как раз тогда прошло сокращение в МВД — куда девать уволенных? Делать-то они ничего не умеют. Вот придумали ставить их заместителями, чтобы они присматривали за идеологией. Тем более у нас в сейсмопартиях коллективы большие, а начальники все, как на подбор, — беспартайные, с сомнительными анкетами. Я из раскулаченных, женат на немке, кстати, тоже из «кулацкой» семьи. У Монастырева родители и вовсе «враги народа». Бобровник побывал под фашистской оккупацией, может, его там завербовали. И сам начальник экспедиции — тоже беспартийный, пригрел целое гнездо темных личностей, — как тут бдительность не проявить? Так у Монастырева Пункт Гэ оказался, у меня алкоголик, глушивший одеколон, — тоже быстро сняли: растрату сделал. У Бобровника — Козаков. Из больших чинов, в свое время ингушей выселял, в Новосибирске чем-то там командовал. В качестве заместителя проявлял сверхъестественную оперативность и хозяйственность.
Бобровник И.И.:
Чувствую, что не чист на руку, и очень крепко, а поймать не могу. Что делать? Вскроются растраты или хищения, я, как начальник партии, сяду первым, с ним или без него. И тут ящик водки подвернулся: он его в машину к буровикам поставил, дескать, доедем до профиля, по-быстрому план сделаем и — пей-гуляй. В ту осень дожди лили беспрерывно, работа шла трудно… Конечно, с рабочих он бы не за один ящик вычел, а заодно показал бы, как начальник партии не мог организовать работу, а он — сумел! Думал я, думал и объявил ему строгий выговор под роспись. Хоть и знал, что объявлять не имею права, не моя номенклатура, нужно было писать на него в экспедицию. Но он не стал жаловаться на мои неправильные действия Уманцеву, а написал донос в обком. Что, дескать, мы с Каравацкой, очевидно, завербованные во время оккупации, вредительствуем, понапрасну расходуя народные средства и оттягивая открытия: на профиле подолгу сидим на одной точке, повторяем взрывы, вместо того, чтобы быстро отстреляться и ехать открывать дальше. А Уманцев покрывает и содействует вредителям.
Каравацкая Е.В.:
А я еще раньше в подозрительные личности попала. У нас в партии пропала рация, и радист написал донос, что подозревает в краже рации такую подозрительную, из оккупации, личность, как Каравацкая. Начались допросы, но рация вскоре нашлась: какой-то шутник засунул ее в вышедшую из строя сейсмостанцию, что ездила за нами.
Через некоторое время, уже в партии Бобровника, при Козакове, тогдашний секретарь комсомольский проводил у нас собрание. Мы досрочно план сделали, премию получили, рабочие уже выпить успели. Он нас поздравляет, потом говорит: «Но есть у нас Обская сейсмопартия, план не выполнившая. Она была в стадии организации. А в результате и у экспедиции плана нет. Сможет ли ваша партия за оставшиеся пять дней сделать дополнительно триста точек?» Парни кричат: «Сможем!» А где же смочь? Это только если стрелять, не глядя что получится. «Нет, — говорю, — не сможем. В лучшем случае, сто пятьдесят». — «А тебя, Каравацкая, никто не спрашивает! Мнение народа важно!» Бобровник отмалчивался. А ночью нас с ним к первому секретарю доставили. «Ну, рассказывайте, как вы заваливаете работу». — «Как заваливаем?» — «Это вам виднее — как!» Бобровник говорит: «В нашей партии сейчас два переходящих знамени, треста и экспедиции, и о каком завале вы говорите, мне непонятно».
Бобровник И.И.:
Там были и Козаков, и парторг экспедиции, и комсорг, и Уманцев. Не помню, кто что говорил, но постепенно обстановка стала теплеть, начали обсуждать уже Козакова и все в менее лестном для него тоне. Секретарь обкома спросил, как бы я поступил с Козаковым, будь он в моем подчинении. Я честно ответил, что выгнал бы на следующий же день. Как ни странно, но я почувствовал, что прямой и грубый ответ ему понравился. Отпустили нас…
После этого пришлось работать с Козаковым еще месяца два, пока однажды он, радостный и счастливый, не привез приказ о назначении его начальником вновь образуемой Велижанской сейсмопартии, на основе деления нашей партии пополам. «Кого ты мне дашь?» — «Бери, кого хочешь, кто с тобой добровольно пойдет, бери любую, на выбор, половину техники и оборудования». Избавился и от него, и от худшей половины рабочих, в основном выпивох и дебоширов. Жалко было отпускать только Колю Могутова, которого учила Каравацкая. Я послал его на экспедиционные курсы «академиков», где я в зиму 49/50-го года читал сейсморазведку. Он поехал оператором.
Шмелев А.К.:
После разбора «вредительства» Бобровника и Каравацкой была создана комиссия, которой пришлось доказывать документально и экспериментально, что иначе работать нельзя. Козакову предложили на деле отстоять свою правоту, вот и создали партию специально под него. Он проработал полгода (вернее, работал-то Могутов), настряпал липовых документов. Приехала за ним милиция. Он склонил повинную голову и попросил разрешения отдать последние распоряжения. Разрешили. Как в воду канул! А с ним и зарплата рабочих — 20 тысяч. Объявляли всесоюзный розыск — не нашли. А года через три встречаем его в Новосибирском тресте! Мы растерялись, а он — нет, опять из рук ушел. Не иначе, как еще где-нибудь успел поначальствовать.
Монастырев В.К.:
После Пункта Гэ да Курепочки у меня был такой начальник — Царь Горох! Главное, я сам себе его выпросил. Пошел к Уманцеву говорить, что я же инженер, мне надо геофизикой заниматься, а на мне хозяйство висит, от заместителей никакого толку… И тогда он прислал начальника партии (я остался техруком) — бывшего директора маслозавода, кирпичного завода еще и еще чего-то. Но рабочие его быстро начали травить, забастовки устраивать. Исчез Царь Горох. И опять мне пришлось работать начальником партии.
Подчиненные слушались. Первую партию я принял в 22 года. А выглядел лет на 16-18. Был не то что маленький, но худой очень. Потом еще подрос. Но дело-то не в росте. У меня очень тяж… серьезный характер. Школа жизненная трудная была. Поэтому вопросы решались элементарно. Никаких элементов непослушания, неподчинения.
Шмелев А.К.:
Где-то году в 51-м у нас шла проверка по профсоюзной линии. Проверяющая из треста приходит к Уманцеву и спрашивает: «Дмитрий Феодосьевич, а что это за проходимцы у вас работают: Монастырев, Шмелев, Бобровник, Уманцев — он такой серьезный был, медлительный — не понял, обиделся: «Какие проходимцы? — гудит. — Это же мои начальники сейсмопартий, правая рука, опора!» «Дмитрий Феодосьевич, да, по вашим приказам, их не то что с работы гнать — под суд отдавать давно пора! Вы посмотрите, у Бобровника — 26 выговоров. У Шмелева — 35, у Монастырева 37!»
Бобровник И.И.:
За своевольство получали. Да мы не обижались, воспринимали, как рычаг руководства. И понимали, что Уманцев о нас же беспокоится: все далеко от него, ответственность большая, а молодые, головы горячие…
Щербич П.П.:
Это уж точно. Такими петушками все приехали! Володя Монастырев на полевых работах заехал в татарскую деревню и вздумал там себя показать, вроде антирелигиозную работу повел — так шрам на всю жизнь сохранился!
Кузнецов А.А.:
Уманцев — он требовательный был. Не грубый, но спросить умел.
Монастырева Г.С.:
Опекун Дмитрий Феодосьевич был очень хороший. И так по-семейному у него это получалось. И глубоко порядочный. Молодым бы только с такими начальниками и начинать.
Каравацкая Е.В.:
Нам всем по двадцать было, а Уманцеву, наверное, сорок — нам он старым казался. И такой человек душевный — всей экспедиции как Батько.
Кузнецова Н.Г.:
А мне порой казалось — как ребенок. Он в работу с головой уходил, не видит и не слышит ничего. Понадобится какое объяснение, не знаешь, как и подойти. Оторвется и не сразу поймет, в чем дело, улыбается виновато, беспомощно… Он ведь вместе с нами учился, многое и для него было впервые.
Щербин П.П.:
Огромный, глыба целая, а ходил тихо-тихо, словно старался не помешать. Голоса никогда не повысит…
Шмелева И.П.:
Настоящий интеллигент, вдумчивый, внимательный, всегда выдержанный. С нами, молодыми специалистами, только на «вы», по имени-отчеству, с женщинами даже галантен. От такого обращения сам себя больше уважать начинаешь.
Монастырев В.К.:
А вот заместители все эти сумели к нему втереться — то есть простачок в этом плане был. Я теперь понимаю, как это могло быть. Хороший, душевный человек — это безусловно. Нормально с ним было работать. И защищал всех нас: и Бобровника, и Ксенафонтыча, и меня. Хороший человек!
Бобровник И.И.:
Я сам украинец, но лучшие люди, которых встречал, все уральцы были. Уманцев — первый среди них. Я, может, потому и в Тюмени остался, что с ним здесь начинал.
Шкутова О.В.:
Я с Дмитрием Феодосьевичем уже после работала, с 53-го года, в тематической партии, обобщавшей результаты первых лет разведки. Работать с ним было — как второй институт окончить, но теперь конкретно по нашей области.
Геологические результаты
Шмелев А.К.:
Результаты работы Тюменской геофизической экспедиции в виде подготовленных для буровой разведки структур пошли уже с 1950 года. Тем летом наша партия работала в районе села Покровка. Сделали несколько рекогносцировочных профилей и выявили Покровскую структуру. Ина подготовила материалы. Но в геологической экспедиции нам сказали: «Триста метров?! Так не бывает». — «А как бывает?» — «Бывает метров по 50-60». Годом раньше начальник Уральского геофизического треста Меньшиков приезжал на профиль под Дубровное, мы стали ему показывать, что вроде что-то где-то намечается. Он рукой махнул: «Пупырьки ищете? Не гонитесь за мелочью, ищите крупные поднятия!» Теперь уже Уманцев спрашивает: «Уверены?» — «Конечно, уверены!» — «Ну и стойте на своем! А то им то крупные подавай, то «не бывает» таких!»
Шмелева И.П.:
Но Гриша Подъяпольский взялся мою струкутуру переделывать. Никаких оснований для исправлений у него не было, так он: «Эта кривая неправильно пошла, она должна идти вот так…» И перерисовывает! Но и таким образом «неправильная» структура уменьшилась только на сто метров. Бурение показало, что мое построение было верным.
Шмелев А.К.:
На Покровской структуре работал и наш конкурент от геологоразведочной экспедиции Михаил Владимирович Шалавин, старейший геолог, возглавлявший структурно-поисковое бурение. Геологи в те годы считали данные своего метода более достоверными. Площади, подготовленные сейсморазведкой, покрывались сетью мелких, по 300-500 метров, колонковых скважин. На основании полученных с их помощью данных о верхних слоях осадочных пород делались выводы о глубинном строении. Если эти данные расходились с выводами сейсморазведки, глубокие скважины задавались по картам структурно-поискового бурения. В 52-м году Шалавин даже подготовил работу о вреде геофизики в нефтепоисковых работах, так как на нее отвлекаются средства, а дает геофизика только «умозрительные результаты». По мнению Михаила Владимировича, если бы на эти деньги увеличить объемы структурно-поискового бурения, то за четыре года были бы открыты нефтяные месторождения. Но факты говорили другое. На той же Покровской структуре из-за следования его выводам было пробурено вдвое больше скважин, чем требовалось. Среди молодых геологов геофизика уже пользовалась авторитетом, и Шалавин поддержки не нашел. Тем не менее структурно-поисковое бурение велось в Тюменской области до 1958 года, были пройдены региональные профили по Тавде, Конде. При этом Шаимский вал, давший в 1960 году первую нефть, остался незамеченным.
Каравацкая Е.В.:
Шалавин этот, как лиса, вокруг камералки ходил: «Девочки, девочки!» — а сам только и глядит, как бы в наши материалы влезть!
Шмелева И.П.:
Геолог старой закалки, привык работать с тем, что осязаемо, зримо. Керн, полученный из скважины, — все видно, все ясно. А сейсморазведка — аппаратура, подсчеты… Не мог в это поверить. Но сомнения, видимо, были, поэтому и «внедрялся» в нашу камералку. Мы, видя его тайные цели, материалы от него прятали. Хотя лично против Михаила Владимировича ничего не имели: был он такой веселый, обаятельный, так ухаживал за нами.
Шмелев А.К.:
В это же время была заложена поисковая скважина под Заводоуковском — по данным электроразведки. Вместо предполагаемого перегиба она попала в самый глубокий прогиб. Нашу партию срочно перебросили на разведку под Заводоуковск. Разделились на два отряда, продолжая детализацию Покровской структуры и работая под Заводоуковском. Здесь подготовили для разведочного бурения Заводоуковскую структуру и выявили Ингалинский перегиб. Открыли месторождения минеральных вод.
Бобровник И.И.:
Нашей партией по заявке геологов осенью 1949 года были выполнены площадные работы в районе деревни Патрушево, зимой — на Тарманских болотах. В последующем — площадные работы на Гусельниково-Кулаковской, Каменской, Ушаковской, Успенской, Зыряновской, Мальцевской и других площадях. Вслед за сейсмоработами бурились глубокие скважины, во многих из которых (Луговская Р-1, Тюменская 1-я опорная, пробуренная возле нынешнего Дворца геологов, Тюменские Р-2, Р-4 и др.) получена сильно минерализованная вода с газом. Нефти не обнаружено.
Называевская партия Монастырева в 1950 году в районе села Викулово выполнила площадные работы, послужившие обоснованием для заложения Викуловской опорной скважины. В это же время проводились работы по обоснованию других опорных скважин. По результатам структурно-крелиусного бурения были пробурены скважины: Гусельниковская Р-1, Ярская Р-3, ныне «Источник», Викуловокая Р-2 и Р-3 и другие. Как потом выяснилось, эти скважины попали в самые неблагоприятные для открытая нефти места.
Нефти на юге так и не удалось получить. Однако это еще не значит, что ее здесь нет. В описываемые годы геологи-буровики тоже только осваивали азы поиска и, следовательно, вполне могли «проворонить» открытия на юге. Скважина, вскрывшая в 1952 году газ в Березово, была чисто случайным попаданием в нужную точку структуры. Но благодаря этой случайности поиск на долгие годы был переориентирован на север области, закономерно и неуклонно оттягивая на себя лучшие кадры и оборудование. В наши дни граница нефтеносности на сотни километров сместилась на юг и подошла вплотную к Тобольским площадям, разведанным и разбуренным еще в далекие 50-е. Не исключено, что в скором будущем мы услышим об открытиях и на этих структурах.
Часть первая
Преждевременная экспедиция
1951—1953 годы
…Очень счастливой я себя чувствовала той весной. Еще хорошо — отношения с людьми. Мне всегда казалось, что добрые человеческие отношения нужны не менее, чем хлеб. И в Ханты-Мансийске они у меня были. Отношения со всей экспедицией складывались простые и товарищеские, нам было интересно работать, и сами мы были интересны друг другу…
Из воспоминаний И.П. Шмелевой
…Пока мы тут работали, где-то в кабинетах шла дискуссия о том, стоит ли вообще изучать север Тюменской области в таких крайне трудных условиях, без дорог и техники. Ведь даже если будет что-нибудь найдено, освоение почти невозможно…
Из воспоминаний Э.П. Резниковой
Рассказывают:
Бисеров Анатолий Васильевич — уже опытный электроразведчик, начальник отряда.
Быховский Борис Леонидович — выпускник 1951 г. Львовского техникума связи, в Ханты-Мансийской геофизической экспедиции (ХМГЭ) начал работать оператором сейсморазведочной партии.
Гершаник Виктор Абрамович — выпускник 1950 г. Днепропетровского института, по образованию физик-теоретик, вынужденный в Ханты-Мансийске стать сейсморазведчиком вплоть до начальника партии, но постоянно стремящийся уйти в интерпретаторы.
Жук Иван Максимович — начальник сейсмопартии, переведенной в ХМГЭ из Коми АССР.
Кузнецов Аркадий Васильевич — волею обстоятельств возглавивший сейсмопартию, в которой не было ни единого специалиста с высшим или средним образованием.
Кузнецова Мария Константиновна — одна из многодетных «камеральщиц».
Неустроев Фридрих Васильевич — техник-геодезист. Придя в геофизику в 1950г., остался верен ей всю жизнь.
Резникова Эмилия Петровна — инженер-геофизик, прибывшая в Ханты- Мансийск с сейсмопартией И.М. Жука. В дальнейшем старший инженер в отделе разведочной геофизики Главтюменьгеологии.
Чергинец (Жук) Вера Федоровна — инженер-геофизик, гравик, как декабристка, следующая за мужем по весьма отдаленным местам его работы: из Коми АССР — в Ханты-Мансийск и далее.
Чусовитин Яков Григорьевич — начальник гравиразведочного отряда.
Шкутова Октябрина Викторовна — начальник гравиразведочной партии.
Шмелев Александр Ксенафонтович — главный инженер Ханты- Мансийской геофизической экспедиции.
Шмелева Иоганна Павловна — старший интерпретатор ХМГЭ.
Стадия организации
Гершаник В.А.:
В Ханты-Мансийск я приехал к началу 50-го года. Направили меня в качестве инженера-интерпретатора в Обскую сейсмопартию — так официально именовалась сейсмостанция, которую Андреев тут оставил. Какая сейсмопартия, такой и интерпретатор: я и геофизиком-то не был! Окончил физико-математический факультет Днепропетровского института, считал себя физиком-теоретиком.
Дело не только в образовании. На фронте мне оторвало правую руку — сразу после 10-го класса отправился воевать, но никаких подвигов совершить не успел. Левая тоже отказывала, пришлось долго лечиться. Но все-таки в институт поступил. Первое время запоминал лекции на слух, потом научился каракули свои разбирать, но ясно было, что работать по-настоящему я смогу только головой. И вот такое распределение. Почему послали в геофизическую экспедицию, да еще в Ханты-Мансийск — никто не объяснял. Тогда начиналась борьба с «космополитизмом», вот, видимо, по этой причине. В Тюмени я два месяца практиковался: смотрел, как другие работают. А в своей партии работать первую зиму совсем не пришлось: единственным нашим транспортом были два трофейных немецких катера. Правда, Саша Григорьев, работавший летом со студентами и оставшийся теперь за начальника, пытался установить станцию на сани-розвальни и передвигать ее с помощью натуральной лошадиной силы — эксперимент не удался. Так и сидели без работы, без денег, без продуктов. Григорьев все рассказывал, как здорово они со студентами работали: изобрели «земноводный» метод (станция на воде, а сейсмоприемники на берегу) — до них с воды сейсморазведка нигде не велась, как жили весело… Дождались мы лета, попробовали работать по-студенчески. Повели профиль по Оби от Ханты-Мансийска к Нижневартовску. Хуже этого «земноводного» способа, по-моему, ничего придумать было нельзя. Катера старые, беспрестанно ломаются, берега заболоченные, а нам в этом болоте надо сейсмоприемники установить, да чтобы не в воде, косу тяжеленную растащить, да чтобы по прямой! А размотки приходилось делать по нескольку километров. Мы же ко всему еще и методом преломленных волн работали, при нем и размотки огромные, и взрывы мощнейшие требуются, а результативность… Ну ущербный метод, ни одна сейсмопартия в Тюмени им уже не пользовалась! Но так работали студенты прошлым летом, а мы самостоятельно перейти на метод отраженных волн не могли, рекомендации, что нам предлагались из Тюмени по телефону, использовать не умели. У нас же было ни одного геофизика! Оператором экспедиция прислала Мишу Бабанова — вчерашнего шофера… Все летние материалы пошли в брак.
К осени кое-как дошли до Покура. Там как разбурилась опорная скважина, надо было сделать сеймозондирование. Разгрузились. Из Тюмени обещали прислать трактора. Стали ждать. Саша Григорьев совсем сник и уволился, ушел из сейсморазведки Начальником стал некий Захаров, заявивший в ответ на вопрос об образовании: «Мне этих ваших институтов не надо! Я главное умею — с людьми говорить!» Оказался человек очень практического склада, в смысле прибрать, что плохо лежит. На работу его практическая сметка не распространялась. Так, когда в Ханты-Мансийск пришли долгожданные трактора, он заказал тракторные сани под сейсмостанцию шире, чем колея трактора. Естественно, за трактором такие сани идти не могли. Так и остались трактора в Ханты-Мансийске, а сейсмопартия зимовала в Покуре. Опять без работы, без денег… Весь 1950 год был страшно голодным.
Продолжение следует…