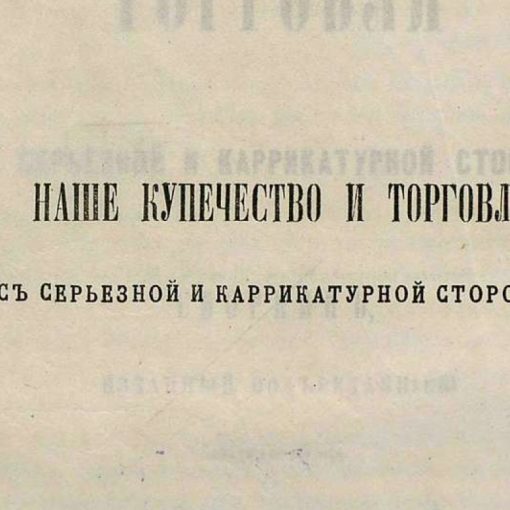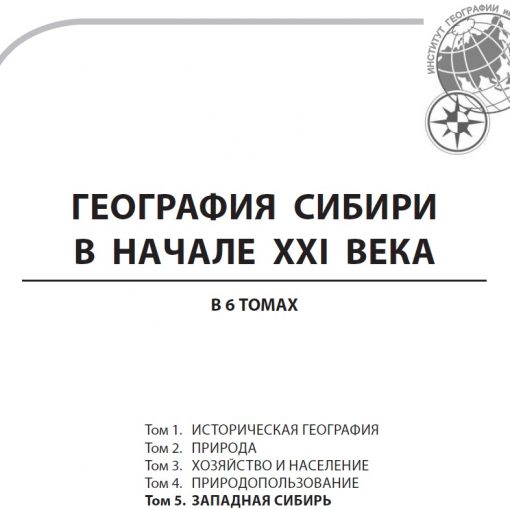Николай Коняев
Утром после чая отправилась к соседям за советом. Но не ко времени пришла…
Гусариха сияла и цвела, словно вдруг помолодела лет на двадцать. Легкой сделалась походка, быстрыми и четкими движения. Глаза лучились теплым светом…
— От Катьки телеграмму принесли — с датой дочерь поздравлят! Сорок лет с Цыганом прожила! Боже, сорок лет! — кивала на Ефима.
Курить Ефиму разрешалось только в сенцах, но сегодня он дымил вонючей папиросой, изредка косясь из-под крутых бровей на благодушную жену. С сапожною иглой и смоляными нитками в руках сидел на корточках у печки и ремонтировал к охоте кожаный подсумок…
— Он парнишкой смуглым, кучерявым был. В Рямовке, где жили, звали Цыганенком, а подрос — Цыганом окрестили, — ушла в воспоминания Гусариха. — Он сам привык к такой кликухе. Ефим — окликнешь, — ноль внимания, а на Цыгана отзовется. На гармонии с малолетства насобачился играть, у них в роду все были гармонистами. Сопливым еще был, в одной руке — калач, в другой — яйцо вареное, а на пупу гармонь елозит. Пиликал да пиликал, да так, Симуня, наловчился, что взрослых всех перепиликал. На пятачки и вечеринки стали приглашать. Скликаешь, бывало, девок на гулянку, а девки в один голос: будет Цыган играть, так придем, а не будет — делать нечего. На свадьбы первым гостем приглашался, во все компании тянули нарасхват. Не спился, слава Богу, — война, наверно, помешала. Мы до войны почти не знались: здравствуй да прощай. Не думала, что с ним судьба сведет. Ушел он на войну. Ушел да и пропал. В Германии застрял. Потом уже узнали, что в Германии, тогда все думали — убитый. Ну вот… Играют гармонисты, да что-то все не так, душу не берет. Цыган, бывало, развернет — мертвого подымет… Вот уже пийсятый. Зимой лежу на печке — то ли праздник был какой-то, то ли, как сегодня, выходной — слышу: на задах гармонь взыграла. Сердце, Сима, дрогнуло. Дыханье затаила — наяривает гармонь! Сестрице говорю: «Нюська, ведь Цыган играт!» Та на меня как на больную: «Какой тебе Цыган? Цыган давно пропал» Молчу, а сердце бух-бух-бух! И что, Симуня, думаешь? Не усидела на печи. Скок с верха долой, за пимы схватилась. Тятя: «Ты куда?» — Я: «Тятя, до гармошки. Ведь Цыган вернулся!» Тятя заругался: «С тобой все ладно, девка?» Я дверью хлоп и — ходу… А он сидит себе, христовенький, народ вокруг собрался. Посреди зимы! Во как, девка, было дело. Во какая встреча!
Историю о том, как через восемь лет Гусариха узнала по игре Ефима, Серафима слышала не раз и знала б наизусть, не вспоминай соседка новые подробности…
— Чем дырявить свой подсумок, лучше б поиграл, а мы, глядишь, потопали б, косточки б размяли, — бросила Гусариха Ефиму. — Сто лет гармонь с комода не сымал, зря тебя хвалила!
— Боюсь, оттопали свое, — сказала Серафима. — Ноги еле волочу — опухли на жаре, стали как столбы. По ночам в суставах ломит — спасу никакого, мази не берут.
— Кто, сказал, оттопали? — дурачилась Гусариха. — Как еще и спляшем! Ефиму стопку поднесем, он нам подыграт.
— Пусть вам Заволокин подыграт, он без стопки добро шпарит.
— Ага, — кивнула Серафима. — Я вот погляжу на братьев Заволокиных, как они гармонь пропагандируют, птахой улетела бы в деревню. У нас в Камышинке под Омском были гармонисты — вашим не уступят.
Ефим закончил свою мысль:
— А мы с тобою, Феня свет Даниловна, споем, когда отстроим дачу. Сядем на порожке, гармоню развернем и в песняка ударимся… Во когда споем!
Серафима рассмеялась недоверчиво:
— На дачу, что ли, замахнулся?
— Да ну его с его замахами, — поморщилась Гусариха. — Все бы плановал.
— А почему бы нет? — Ефим пожал плечами. — Пока здоровье позволяет, надо успевать. Снесут весной, так закукуем.
— Так ведь в копеечку влетит!
— Влетит, а кто же спорит? Что припасал на черный день, все придется выложить. Я без земли засохну в один год. Серафима разом сникла.
— Ой, как же я-то буду, а? Вы все-таки вдвоем, дачу смаракуете, все можно продержаться… Я-то буду как? Ни денег, ни здоровья.
— Да что уж убиваться? — вставила Гусариха. — Как-нибудь, чай не война.
— Пойду, — сказала Серафима. — Засиделась я у вас… Кота кормить пойду. Орет, поди, голодный.
Пришла домой, покликала кота, а кот запропастился. Села на кровать, лицо ладонями закрыла.
* * *
Серафима часто думала о будущем, реже — о минувшем. Но, размышляя о прожитом, раскладывала годы на светлые и черные, укоренялась в грустной мысли: прав был зампредисполкома — не умели жить.
Вся жизнь, как день, прошла в работе. С одиннадцати лет снопы за матерью вязала, Боже упаси, чтоб в чем-нибудь схалтурить. Сперва за трудодни — за «палочки» в колхозе, потом за жалкие гроши…
Легкой жизни не искала. Замуж вышла в двадцать семь, по деревенским-то понятиям — старухой. За кого пошла, тоже понимала. Матвей был старше на семь лет, только что из лагеря — ни кола ни двора, ни алтына за душой. Уж как в деревне ни стращали: тюремщик он и душегубец, и укокошит ни за грош, следочка не отыщется. Приехали на Север и жили душа в душу. Хоть от зарплаты до зарплаты, с копейки на копейку — охота да рыбалка выручали, но в мире и согласии. Сам работал в ВОХРе, сидел на ста рублях, она — куда без грамотешки? — в рабочих да техничках. Всего добра нажили — лодку с лодочным мотором, сети да ружьишко. На черный день не накопили капиталу. А зря. Ой, зря. Жили, получается, не то чтоб бестолково — вроде по-разумному, но без загляда наперед. Сыт, одет, обут и — ладно. Довольствовались малым, к богатству не стремились. Вот где промахнулись! На что, казалось бы, Матвей, жизнью тертый-перетертый, битый-перебитый, — и тот, бывало, говорил: хуже, мать, того, что было, уже никак не может быть. Хватит, натерпелись…
И как иначе было думать, когда, казалось, жизнь установилась, как погода, ничто не предвещало перемен. В магазинах худо-бедно поесть-попить стояло, одеться выбор был… Чего еще хотеть? Чего еще желать? Кто мог подумать, чем все обернется, что к старости настигнет новая беда?
Прав был исполкомовский бугай: трудиться надо было на себя. Гусаровы давно, видать, смекнули. Вот у кого бы поучиться в свое время. Сиди и плачь теперь горючими слезами…
Из радио на стенке под легкую мелодию вперемежку с птичьим щебетом звучал слащавый голос психотерапевта:
— Чувство усталости покидает тело… Свежеет в голове… На душе легко и чисто…
За дверью завопил внезапно кот.
8
Серафима проводила квартирантку на каникулы. Проводив, всплакнула в одиночестве…
Квартировала Лена у нее вот уже три года. Пустила постоялицу не столько ради денег, хоть и двадцать пять рублей были ей подспорьем, сколько от тоски и одинокости. Случалось, квартирантка пропадала сутками, Серафима беспокоилась, сосала валидол — время-то тревожное! — звонила коменданту в общежитие, бранилась вгорячах и обещала выгнать, но Леночка глядела на нее козьими глазами, и Серафима остывала…
Яшка Шнайдер (тьфу, тьфу, тьфу да через левое плечо!) вроде бы одумался, вышел наконец из двухнедельного
запоя.
Однажды Серафима наведалась в барак, застала горемыку в собственной «берлоге».
Он лежал на низком продавленном диване, накрывшись рваной простыней, и, обливаясь крупным потом, глотал горячий чай, заваренный вкрутую. На тумбочке, застланной газетой, стояли чайник, кружка с желтыми потеками чифиря.
— Живой? — осведомилась Серафима.
— Живой, да мало толку.
Спертый воздух с вонью винных и табачных перегаров волной ударил в нос, и Серафиму чуть не вывернуло тут же наизнанку. Она толчком открыла дверь и отдышалась у порога. Прошла к окну, сквозь черное стекло которого почти не пробивался свет, и приоткрыла фортку.
Яшкиной «берлогой» называлась комната с газовой плитой и умывальником над тазом, отделенными от «зала» грубостругаными досками, забранными в паз, где на ржавых гвоздиках вверху держалось нечто заменяющее штору. Весь интерьер этой «берлоги», прокопченной дымом, составляли стол, накрытый, как и тумбочка, желтыми от давности газетами, два рассыпающихся стула с мягкими сиденьями без спинок, кособокий шкаф с незакрывающейся дверкой, набитый скомканным бельем, гитара на гвозде и осколок зеркала. Всюду — на полу, в углах, на подоконнике — стояли батареями мутные бутылки, склянки, полные окурков, валялись корки хлеба, бутылочные пробки…
«Все пропил, все промотал! Когда-то любо было глянуть. Чистота, уют, порядок. Ковровое покрытие… А ковер на стенке? А магнитофон?..»
— А где магнитофон? — остановилась Серафима посредине комнаты, увидев на столе пустующее место.
Яшка глотнул чая и отставил кружку:
— Загнал за пару стольников. Без бабок я, теть Сим… Без бабок, без работы. Две недели фестивалил, работу потерял.
— С чем и поздравляю! Добился своего. Зато с Шурупом нагулялся. Откуда ты и выкопал богатого такого? Нет чтоб подыскать товарища серьезного.
— Только без нотаций! Шурупа проводил. Баста. Надоело. В завязке я, теть Сим. Вот отдышусь и — за работу. Рабочим в магазин. С Тосей разговаривал — берет на испытание.
— Крепко ль завязал-то? И долго ль развязать? Сколько раз ты зарекался? До первой лишь получки, знаю я тебя. В пятом долго не продержишься, вылетишь как пробка.
— Все, все, все, теть Сим. В завязке. Решил самостоятельно. Обрыдло по-свинячьи…
— Кабы так оно и было!
Яшка встал с дивана, прошелся до порога.
— А ты по делу или — так?
— Да попроведывать тебя. Дай, думаю, зайду — не помер ли с похмелья? Да и по делу тоже, — замялась Серафима.
— Усек, теть Сим. Врубился. Будут покупатели. Сегодня же и будут!
Яшка вдруг повеселел:
— Гляжу, за ум берешься, а? Давай с тобой на пару исправляться?
— Чего мне исправляться? Я давно исправная! — Серафима оскорбленно помолчала. — Ну, я пошла. Берись за ум!
— Да по тридцатнику с полбанки! — вдогонку крикнул Яшка. — Копья не уступи!
* * *
Слух о том, что в горсовет обратились верующие с просьбой узаконить православную общину, прошел в Кедровом год тому назад. Молва не удивила околоток: здесь не было секретом, что богомольцы города имели свой молельный дом. К сборщикам старух и стариков на Перековке относились с недоверием — в памяти всплывали жуткие легенды о проживавших некогда вблизи семьях староверов…
Зимой попала на глаза свежая газета с письмом известного в районе ветерана.
Серафиму удивило не столько содержание письма, озаглавленного броско: «Даешь народу Храм!» — сколько подпись под письмом — к народу обращался старый коммунист, бывший секретарь Кедровского горкома. Бывший аппаратчик каялся в грехах, поскольку в свое время руку приложил к варварскому сносу церкви в южной части города, теперь же, осознав преступность прошлых «подвигов», заново оценивая путь, пришел к необходимости возврата к «истокам» и «корням», призвал вернуться к православной церкви и воссоздать в Кедровом Храм, но не на прежнем месте, оскверненном нынешней пивной, а непременно в центре города, на Советской площади, напротив здания горкома, себе в укор и в назидание потомкам.
Вскоре после покаянного письма состарившегося грешника Лена Дыбина пришла с сияющим лицом: «Серафима Ниловна, что делается, а! В Кедровом будет Храм! Сегодня вынесли решение наши депутаты. Чуть наискосок от здания горкома — на Большом Холме! Вы представляете, какая красотища? Ай да молодчуги богомольцы, добились своего!»
И вновь не столько весть о разрешенном Храме, сколько искренний восторг молоденькой студентки поверг в недоумение: «Тебе-то что за радость? В Бога, что ли, веруешь? Что-то непохоже…» — «Так я же отродясь в церкви не бывала… Ужасно любопытно!»
Серафима хмыкнула, взглянула недоверчиво. Вечером к Гусарихе зашла: «Храм им подавай! Тут крыши нет над головой!» — и осеклась на полуслове, вспомнив о «святом письме»…
Листок из ученической тетради, исписанный расшатанными буквами, был обнаружен в сенцах на полу недели две тому назад. В подброшенном письме скупо сообщалось о неком больном мальчике одиннадцати лет, на берегу неведомой речушки увидевшем Христа и получившем от него послание с наказом девять раз переписать и в три недели разослать по разным адресам. Богобоязненный мальчонка выполнил Христово поручение и был вознагражден чудесным исцелением…
Под страхом всяческих напастей письмом предписывалось сделать то же, что и мальчику с неведомой речушки. Серафима колебалась. И вроде бы не верилось в обещанные кары, наслышана была о подобных письмах, и в то же время понимала: никто не застрахован от беды, тем более она. Взяла у Лены чистую тетрадь, три копии осилила к полуночи. Одну подсунула Гусарихе, вторую надписала Сотниковой Тосе, а третью — сдуру — Яшке. Пальцы занемели с непривычки, отложила переписку в долгий ящик…
Теперь же смутный страх перед неясным будущим заставил вновь вернуться к письмам.
* * *
В десятом часу вечера негромко постучали. Серафима вышла в сенцы.
— Кто?
— От общего знакомого, — ответил мягкий мужской голос. — К вам посоветовал зайти.
Серафима лихорадочно зашарила руками, пытаясь найти ощупью крючок.
— Сейчас… Минуточку… Постойте!
Дверь наконец открылась. На крыльце стоял мужчина с располагающим лицом. Поодаль, у калитки, в свете от окна стояли в ожидании двое его спутников.
— Здравствуйте, мамаша, — кивнул приветственно мужчина. — Гости, знаете, нагрянули, надо б угостить, но… сами понимаете. А Яков подсказал…
— Войдите! — Пропустив вперед мужчину, включила свет в прихожей и опрометью скрылась в кухне. С пылающими щеками, с внезапной дрожью пальцев из рюкзака достала водку. — Осталось с поминок четыре бутылочки, сплавить бы их с глаз! — сказала как бы в оправдание. Взяла обеими руками теплую бутылку, вынесла в прихожую. — С поминок, говорю… Куда ее девать? Сама не пью — стара, и молодой не увлекалась…
Мужчина понимающе кивнул, из заднего кармана плотно облегающих светло-серых брюк выудил бумажник.
— Четыре, говорите? Так я, пожалуй, все и взял бы. Вам, я полагаю, все равно? Оптом даже интересней?
Серафима справилась с волнением.
— Еще б не интересней, в минуту гора с плеч!
Мужчина чуть смешался, заглянув в бумажник.
— Вот если б по пятерочке скостили… Стольник у меня. Хотя, я понимаю, не в ваших интересах.
Но Серафима с радостью вцепилась в предложение.
— Да заради Бога! Берите ее всю. Стольник, значит, стольник! — И снова скрылась в кухне.
— Очень вам признателен, мамаша, — бормотнул мужчина, отсчитывая деньги. Бросил их на стол и рассовал бутылки по карманам. Серафима проводила покупателя и вернулась в дом.
— Вот и все, избавилась от водки. Прости меня, грешную, Господи!
9
Духота белых ночей сменялась дневным зноем. В кюветах радужно струились испарения бензина, от дымов лесных пожаров дали затуманились, пойму обмелевшей Невлевки затянуло мглой, по вечерам в Кедровый доносило запах гари. Черной пеленой на город навалился смог…
Днем Серафима укрывалась от жары в Леночкиной комнате, наглухо зашторивала окна, включала вентилятор. В поздние часы поливала грядки, прореживала зелень.
* * *
Утром почтой принесли бумагу из собеса, приглашали для вручения талонов.
В битком набитом стареньком автобусе, катившемся толчками по разбитому асфальту, Серафиму, сжатую со всех сторон, крутило, как вертушку, потными телами озлобленно сопящих пассажиров, входивших и отчаянно локтями пробивавшихся к выходу.
Приехала в собес, а там столпотворение. Для получения талонов нужно было предъявить паспорт, трудовую и… рентгенограмму. Собес производил учет пенсионеров и заодно оказывал содействие больнице. Паспорт Серафима всегда брала с собой, куда б ни отправлялась, поскольку, слава Богу, знала: без бумажки ты букашка… Но трудовую и рентгенограмму? Это было что-то новое. Но Серафима стала ждать…
За полированным столом в уютном кабинете сидела крупная девица с томными глазами, с огненной копной крашеных волос. Мельком взглянув на Серафиму, склонилась над конторской книгой. И Серафима встрепенулась, узнав в девице Зою Колыванову… Пятнадцать лет назад Зоинькина мама — Вера Николаевна — работала бухгалтером в конторе горрыбкоопа, а Серафима там же убирала и по совместительству числилась курьером. Малышка-первоклассница Зоя Колыванова часто заходила заплетать косички, и Серафима вызывалась услужить. Смышленую малышку любили все конторские.
«Да кто же это к нам пожа-а-аловал?!» — сюсюкали они, одаривая общую любимицу всяческими сластями. «Зоинька пришла», — любезничала девочка. «А что нам Зоинька расскажет? Знает Зоинька стишки?»
«Будь умницей, дочура, — подталкивала мать на середину кабинета, — сделай тетям одолжение, расскажи стишок». Зоя уточняла: «С выражением?» — «Ну да».
Зоинька старалась, в речи чуть «прицокивая»:
Я маленькая девоцка
играю и пою.
Я Ленина не видела,
но я его — люблю!
«Еще, еще, хорошая! — просила бухгалтерия. — Прочти нам что-нибудь еще!»
Зоя вопросительно глядела матери в глаза. Мама разрешала, справедливо рдея от смешанного чувства нежности и гордости: «Ну, если тети просят, сделай одолжение!»
Зоя уступала:
Камень на камень,
кирпиц на кирпиц.
Умер наш Ленин
Владимир
Ильиц!
«Ах, сладкая ты наша!» — бурлила бухгалтерия. «Славненькая девочка!» — млела Серафима.
Зоинька вздыхала не по-детски скорбно и обращалась к матери с вопросом, приводившим бухгалтерию в неописуемый восторг: «Мамоцка, поцто меня так любят?»
Не отрывая томных глаз от разграфленной книги, Зоинька спросила:
— Все ли принесли?
Серафима вкрадчиво склонилась за столом.
— Уж не гони меня обратно, доченька хорошая. На Северной живу — у черта на куличиках. Автобусы полнехоньки, а ноженьки не ходят. Приеду следующий раз, все и предъявлю.
— Ничего не знаю — было указание. По радио давали объявление.
— Да разве все уловишь, что оно бормочет? Приеду следующий раз — все, Зоя, привезу…
В глазах у Зоиньки сверкнуло любопытство. Серафима пояснила, предугадав вопрос:
— Ты, может быть, меня не помнишь — маленькой была, а я тебя прекрасно помню. И тебя, и мамку — Веру Николаевну. Тебе, бывало, косы заплетала. Волосики хорошие, мяконькие были…
Зоинька вздохнула удрученно:
— Так что вы от меня хотите? Порядок есть порядок, он один для всех…
Проклиная все и вся — порядок и собес, учет и горбольницу, автобус и жару — Серафима поплелась на остановку.
В собес вернулась к вечеру. С пачкой документов в фартучном кармане. Народ уже разбрелся. Села в коридоре, отдышалась…
Послюнив пухлый пальчик, Зоя полистала собесовскую книгу с колонками фамилий, ткнула красный ноготок в строку под Серафиминой. Из выдвижного ящика стола достала пачку отштампованных талонов.
— Пожалуйста, Колягина. Больше разговоров!
На паспорт, трудовую и рентгенограмму она и не взглянула. Вот что доконало Серафиму. И — лопнула внутри ее пружина…
— А документы для чего? Зачем в такую даль сгоняла? Бессовестная, как погляжу! Такая молодая, а ни стыда ни совести. Я к «мамоцке» твоей как-нибудь наведаюсь, все ей обскажу!
Зоинька вскочила, выронила книгу.
— Ваше дело предъявить, а уж смотреть мне или нет — позвольте мне самой решать!
— Жаловаться буду вашему начальству!
— Это вы умеете. Вас хлебом не корми.
* * *
После долгих злоключений Серафима прилегла, но сон не шел. Так и эдак рассуждала, а выход виделся один — в Камышинку. Домой…
Как жить дальше на чужой земле? Скоро Перековку разорят. Даже Яшка не заглянет, разве что за опохмелкой. От Леночки придется отказаться — больше комнатенки не дадут, вдвоем не развернуться. Страшно жить одной. А ну как заболеешь? Свалишься бревном? Никто воды не поднесет, горшка никто не вынесет. Ноги и сегодня через силу ходят, а через годик-два? Заживо сгниешь в пустой квартире. В пятом магазине слышала историю: в «ямке» нынешней весной в домике-скворечнике нашли старуху-инвалидку, умершую от голода…
И что ни говори, Кедровый — пристань временная. Сколько б ни жила на чужой сторонушке, а домой тянуло. Север, он для молодых…
Ехать. Надо ехать! Нечего раздумывать. В Камышинке родня, все равно не бросит. Хоть и на родню сегодня не надейся… Свои друг к дружке охладели, родня родню не признает, стороной обходит, словно бы куска не поделили. Как там Парамон? Вот тебе и братка! Ни открытки, ни письмишка. До сих пор, однако, не простил, что удрала тогда с Матвеем. За что такая нелюбовь? Жизнь близится к концу, пора б остепениться, держаться друг за друга, рук не разжимать. Остаток дней прожить по-человечески…
И все же — ехать, ехать. Нельзя здесь оставаться. Пускай несладко будет дома, никто веселей жизни не устроит — везде нужда, у всех нехватка, но будет там покойней на душе, страха одиночества не будет. Да и совхоз не отмахнется в крайнюю нужду, вспомнит, что своя, в колхозе начинала. Дров машину привезет и огород распашет. Картошку на коленях, но посадит — много ли ей надо? И поросенка заведет. Курочек с десяток. Уток… Уток, ну их к дьяволу — прожорливы! — лучше бы гусей. Ужель совхоз половы пожалеет?
Но главное, — умрет, схоронят по-людски, поплачут и помянут, к могилке тропку проторят. Избенку-то придется покупать, никто квартиру не подарит. У Парамона тесно, своя семья сам пят. Найти жилье несложно, считай, что пол-Камышинки крест-накрест заколочено, были б только деньги — вот в чем закавыка. Куда ни кинь — и всюду клин, и упирается в деньги.
Продолжение следует…