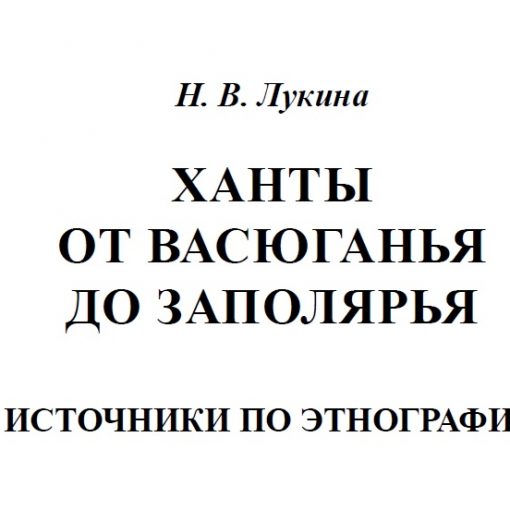Николай Коняев
Тесная кладовка и чердак сарая были с незапамятных времен завалены разным барахлом. Настало время взяться за приборку.
Из нагромождения посуды, коробок и узлов Серафима извлекла на свет канистры и бачки, винты и инструменты. Сети, весла вынесла в сарай. Из паутинного угла обеими руками выволокла в сенцы железный сундучок, набитый дробью и картечью. С гвоздя в стене сняла ружье и патронташ, полный тусклых гильз с желтыми глазками капсюлей. Старую двустволку с надтреснутым прикладом, схваченным латунной полоской, с промасленными черными стволами протерла влажной тряпкой, занесла в прихожую.
За ружьишко, однако, уцепился Яшка, подгадавший к вечеру.
— Что, пушку продаешь? — Он заглянул в стволы, огладил ложу и приклад.
— Продам, — кивнула Серафима, — к чему оно теперь?
Яшка испытующе взглянул из-под бровей.
— Возьму, если не шутишь.
— Зачем оно тебе? Ты ведь не охотник.
— Буду приобщаться. На уток осенью схожу… Спрячь, не продавай. Хорошая пушенция. Матвей Егорыч, помню, дорожил. В ментовке разрешение оформлю, сразу и возьму…
— И сундучок в придачу, — предложила Серафима.
— И лодку надувную! — спохватился Яшка.
— Что еще за лодку?
— Резиновую лодку. Была у вас. Двухместная. «Омега».
— Кажется, была, — кивнула Серафима, — а где она теперь — убей меня не помню.
— Ты поищи-ка хорошенько. А я оформлю разрешение, все чохом и возьму.
* * *
Прибравшись к вечеру в кладовке, подошла к сараю. Приставив лестницу к стене, ступней опробовав на прочность перекладину, медленно, с опаской поднялась наверх, раскрыла дверцу настежь. Из чердачных пыльных сумерек пахнуло кошками и плесенью, войлоком и вениками, висевшими попарно в связках на жердине вперемежку с ржавыми язями. Влезла на чердак. Когда глаза привыкли к сумраку, в углу наискосок различила ящик, в котором, вспомнила, хранились тент и надувная лодка. Серафима, морщась, подошла вплотную и, наступив на что-то мягкое — живое, непроизвольно дернулась и вскрикнула в ладошку…
В промежутке между ящиком и бревном в венце сарая на соломенной подстилке увидела истерханные полы Матвеевой «москвички», на которой, с головой накрывшись тентом, лежал мужчина в рваных башмаках. В изголовье у него виднелась сложенная вдвое ветхая фуфайка с торчащими из дыр клоками грязной ваты. Сбоку, на дощечке, стояли банка, полная водой, и полбуханки хлеба. На обрывке сморщенной газеты валялись головы и кости обглоданных язей…
Не отводя от ложа глаз, Серафима медленно попятилась к болтающейся дверце. Спустилась по скрипучим перекладинам до середины лестницы, грудью навалилась на трухлявое бревно, высунула голову в проем.
— Эй, кто там? Отзовись!
Выждав несколько секунд, выкрикнула громче:
— Кто ты есть? Подай же голос!
Человек под тентом шевельнулся, под край шуршащей парусины втянул поочередно обе ноги.
Струхнула Серафима, вскрикнула вибрирующим голосом:
— Я вот за милицией сполькаю!
Человек от вскрика вздрогнул, замер на мгновение. Из-под тента выпростал взлохмаченную голову, поднял белеющее в сумраке лицо. Уперев ладони в плотную засыпку, сдвинул тело к изголовью, сел и сбросил в ноги тент. Откашлявшись, глухо произнес:
— Не бойся, добрый человек… — Он взял в руки банку, обливаясь, лязгая зубами, сделал несколько глотков.
Серафима обмерла.
— Ве-е-еня? Полигло-от?! Ты как сюда попал? Другого места не нашел? Облюбовал лежанку! А ну-ка выметайся с чердака!
Дрожащими руками обнимая лестницу, грудью прижимаясь к перекладинам, Веня Полиглот спустился с чердака и тут же сел на землю, уткнув лицо в колени, прерывисто и загнанно дыша. Он был в замызганной штормовке поверх зеленой майки, в разбитых башмаках с присохшими к подошвам комками белой глины. Потные, давно не стриженные волосы грязными пучками свисали с головы.
— С похмелья, что ли, маешься? — спросила Серафима. — Вам похмелье не беда. Вставай. Иди отсюда!
Веня поднял голову, окинул Серафиму безразличным взглядом. Испитое лицо, багровый потный лоб пылали нездоровым красным цветом.
Серафима ойкнула.
— Да ты, никак, в жару? Вот еще подарок! Вот еще беда-то! И давно ты здесь? Ведь это ты меня тогда переполохал. А если бы помер на чердаке? А если б не полезла я туда? Да что ж теперь с тобою делать? Куда тебя девать? Ступай уж в сенцы, что ли… Сомлеешь ведь на солнышке. Идти-то сможешь, нет?
— Смо-у…
— Давай, сердечный, потихоньку.
Ваня медленно поднялся и нетвердым шагом пошел за Серафимой. Усадив его на раскладушку, она слазила в подполье, достала кружку клюквенного морса. Веня жадно выпил, закашлялся до слез.
— Вишь, как тебя скрутило! Что же мне с тобою делать? В «скорую» звонить? Ну конечно, в «скорую»! — Серафима, охая и ахая, отправилась к Гусарихе.
14
— Больного разбудите! — приказал врач. Из глубокой сумки достала стетоскоп и градусник.
Гусариха стояла у порога, неодобрительно качала головой, глядя то на Веню, то на Серафиму, то — вопросительно — на женщину-врача.
Веня разомкнул слипшиеся веки, раскрыл глаза с прожилками на выпуклых белках, обвел присутствующих долгим мутным взглядом. Вздохнул и слабо улыбнулся черными губами.
— Курточку снимите! — скомандовала врач.
Трясущимися пальцами Веня выковырнул пуговицы из прорезей штормовки, неуклюже заложил термометр под мышку.
— Да не тем концом-то, Веня, — заметила Гусариха. — Совсем уж как ребенок!
Врач достала ручку и бумагу, пристроилась за столиком в углу.
— Имя, отчество, фамилия?
Веня кашлянул.
— Попов… Вениамин Михайлович Попов…
Простые имя и фамилия больного человека, которого никто от мала до велика не называл иначе, как Веня Полиглот, вдруг поразили Серафиму первоначальным смыслом: ведь и у этого несчастного, дошло до Серафимы, были мать, отец, семья, работа, радости, желания… Так где же и когда, и по какой причине — и есть ли оправдание тому? — утратил человеческое имя Вениамин Михайлович Попов? И есть ли смысл в его существовании, страданиях и муках?..
Врач, взглянув на градусник и вскинув в удивлении ресницы, скомандовала:
— Встаньте!
Веня встал и сдернул майку, поспешно ее скомкал и сунул под матрас. В бока уставил тонкие рахитичные руки. Вздохнул, и немощная грудь заколыхалась в мелком кашле.
— Дышите… Глубже… Глубже!
— Сима, выдь-ка на минутку, — позвала Гусариха.
Серафима вышла на крыльцо и прикрыла дверь.
— Дура ты. Дура ты набитая! — постучав себя по лбу, выдала Гусариха. — Зачем домой его втащила? Отправила б в больницу своим ходом!
— Так он ведь еле дышит.
— Дошел бы, не подох. А подох, так, может, к лучшему б.
— Ой, Феня, как ты рассуждаешь… Все же человек.
— Ладно, сострадалица. Я что хочу сказать? Кружку, из которой напоила, выбрось на помойку… Кто знает, вдруг из легочных? Слышишь, как бухикат? И это, что еще?.. — Гусариха запнулась. — Постель перетряхни. Матрас, подушку, одеяло… У него, поди, кишмя кишит в башке… А запах от него? Как от помойного ведра!
— Так, может, заберут его в больницу?
— Не знаю. Побегу. Не заберут, так выгони.
Врач смотала трубку стетоскопа, сунула в кармашек белого халата. Сделав жаропонижающий укол, заполнила рецепты, отдала распоряжения:
— Обильное питье, лекарство и покой… Боюсь, что воспаление. Надо бы ему в стационар, да коек нет свободных… В пятницу явиться обязательно. Если станет хуже, вызывайте «скорую». Вот, кажется, и
все…
— Спасибо. До свидания, — кивнула Серафима и, проводив врача, вернулась в сенцы.
Веня одевался.
— Я сейчас уйду… Оденусь и уйду. — Веня натянул замызганную майку и надел штормовку.
— Куда же ты подашься? — раздумчиво спросила Серафима.
— Где-нибудь перекантуюсь. Теперь-то как-нибудь… Спасибо вам, хозяюшка, за вашу доброту.
«Где-нибудь да как-нибудь!» — передразнила Серафима.
— Вот что, мой хороший, разденься и ложись. Очухайся маленько. Полежишь до пятницы, а там пойдешь в больницу — лечиться тебе нужно. Куда сейчас подашься? Снова на чердак? В таком-то состоянии? Ты поглядел бы на себя — краше в гроб кладут. От слабости шатает, как былинку. Голодный и холодный. Ложись и не перечь. Стеснительный какой! — Поставив точку в разговоре, подчеркнуто решительно зашла в дом. Вернулась с мылом, свежим полотенцем, стопою нижнего белья под мышкой и в руке. — Нагрею сейчас воду, помоешь голову и ноги… И переоденься в чистое — осталось от Матвея, мужа моего. Носи и поминай.
Веня растерялся окончательно. Сидел как истукан, глядя на Серафиму ошарашенно. Она поставила ведро с водой на газ, смахнула со стола в карман рецепты, отправилась в аптеку.
Гусариха, как тень, скользнула на дорогу.
— Что, Симуня, увезли твою находку?
— До пятницы велели погодить.
— А он? Где он сейчас?
— У себя оставила… Куда такого квелого?
— Ай, дура. Дурочка наби-и-итая! Что ж ты, девка, думаешь? Да пока ты ходишь, он тебя обчистит, нитки не оставит!
— Не-ет, — возразила Серафима. — Он, Феня, не из тех. Видно ж человека. Он — тихий да стеснительный какой-то.
— Все они стеснительны в стеснительных условиях. Ты, Сима, неученая. Иди, а я пронаблюдаю, с чем будет уходить… Ай, дура ты. Ай, дура!
* * *
Три дня, две долгих ночи провел у Серафимы Веня Полиглот. Она поила его морсом, отварами из трав и сцеженной ухой из свежей щуки, которую принес Ефим Гусаров. По утрам больному становилось легче. Сидел, держа между колен темные ладони, сложенные лодочкой, беззвучно шевелил сизыми губами, глядя как завороженный, в одну точку…
Перед уходом встал чуть свет. Серафима вышла, увидела его одетым и обутым, сидящим на крыльце. Веня обернулся, улыбка тронула обметанные губы.
— Утро доброе, хозяйка!
— Здравствуй, Веня. Здравствуй. Чего же спозаранку? Дойдешь ли до больницы?
— Спасибо, как-нибудь…
— Да не за что, чего там. Нелюди мы разве? Лечись и больше не хворай.
— Пойду.
— Ступай. Храни тебя Господь!
Веня Полиглот направился к калитке. Взялся за вертушку и остановился. Взглянул на Серафиму, повернулся назад…
— Вы — добрый человек. Я должен вам сказать… не доверяйтесь каждому, не надо… — заговорил он сбивчиво и скомканно. — Когда сидел на чердаке, я слышал, к вам стучали, видел — заходили… Шурупа тоже видел. Так вот, он — зверь… Он — хуже зверя. За деньги он на все способен. Остерегайтесь этого мерзавца!
Серафима опустилась на крылечко…
* * *
Перед Новым годом Полиглот и Ангел, прозванный Кудрявым за голую макушку и Ангелом за кроткий, добродушный нрав, в прекрасном настроении вернулись из пивной уже в восьмом часу. Днем на десятку сдали стеклотару, собранную тут же, в аэропорту, в карманах у обоих позвякивала мелочь. В зале ожидания было пусто и неприбрано. Пассажиры, гомоня, толклись внизу, на первом этаже. Облюбовав для отдыха кожаные кресла, Полиглот и Ангел в блаженстве вытянули ноги — в кои веки выпала удача отдохнуть по-барски…
Ангел подобрал газету с пола и вдруг клубком скатился с кресла. Присел и поглядел по сторонам. Молниеносно сцапал с грязного паркета пухлый кошелек, впихнул его под свитер: «Теркаем отсюда, покажу сурпризу!»
В женском кошельке оказались старые квитанции, истертые бумажки, резиновой тесемкой стянутая пачка новеньких червонцев.
Тысяча рублей!
Ангел взвизгнул от восторга.
Утром — жизнь прекрасна! — отправились в пивную. На другой день — тоже. На третий — головастый мужичонка в дубленом полушубке возник перед столом: «3-здорово, п-п-пролетарии. В-весело живете. Н-нельзя ль объединиться?»
А отчего нельзя? Объединиться можно. С Шурупом — Машка Быстроход и Галя Парфюмерия. Водка на столе…
Затем — «братание» и гомон, ерш на посошок, длинная дорога в «ямку» под горой, в Шурупову «конуру», где, он уверял, «устроим марафон»… Визг Машки Быстрохода, скабрезные намеки Парфюмерии. Крюк до «спиртоноса»…
И снова — водка на столе, огрызки сухой рыбы, табачный смрад и копоть, и — мрак, провал в небытие…
Очнулся Полиглот в Центральном парке отдыха. Один. В кромешной мгле. Над головой — заснеженные лапы необхватной ели, вокруг — взрыхленные сугробы и под ногами — окропленный кровью снег. Веня встал на четвереньки, осмотрелся. Вывернул карманы — ни копейки. От пробирающего холода клацая зубами, ощупью нашел в снегу шапчонку. Встал и пошатнулся от головокружения и, обхватив затылок, дико взвыл от боли — пальцы обагрились теплой, липкой кровью. Вслепую выбрался на узкую тропу, собрал остатки сил, пошел на фонари, уперся наконец в пятиэтажку. Зашел в подъезд, по каменистым ступенькам поднялся на площадку, упал на батарею…
Пришел в себя в больнице. С перевязкой на проломленном затылке лежал с мучительным вопросом в голове: куда девался Ангел? Вышел через месяц и — на аэровокзал. Безвылазно сидел в зале ожидания, выискивая друга в толчее толпы. Но высмотрел не Ангела — Шурупа. Шуруп с бригадой вылетал на буровую. Столкнулся с Полиглотом и — остолбенел. «Здорово, п-пролетарий. А я слыхал, ты сдох».
Полиглот: «Где Ангел?»
Шуруп засуетился: «В Б-березовке К-кудрявый, л-л-лично проводил!» А на самом — «кольчуга» — серый, грубой вязки свитерок Кудрявого.
— Кудрявый подарил? — осведомился Веня.
— Д-да, в п-память о минувшем!
В апреле вытаял Кудрявый в дальнем углу парка. В день похорон Кудрявого Шуруп встретил Веню на подходе к кладбищу, вытащил бумажник из кармана.
— «В-вот тебе, убогий, стольник, п-покупай билет и в-вали из города. В-вали куда п-подальше, не з-задавай в-вопросов. Д-даю неделю сроку… Н-надеюсь, в-фсе понятно?»
— Понятно, — замер Полиглот. — Еще бы не понятно!
— В-вот и хорошо, — осклабился Шуруп. — В-веди себя примерно — д-долго будешь жить. А если не п-по-слушаешь, отправишься к п-приятелю!
Два месяца скрывался Веня Полиглот на чердаках и стайках Перековки.
15
Серафима пила чай спозаранку, после того, как накармливала поросенка. Кабанчик рос и становился все прожорливей, приходилось по два раза в сутки, утречком и вечером, рвать для него крапиву — благо под заборами хватало этого добра, — мельчить ее в корыте, запаривать с картошкой.
Но сегодня что-то нездоровилось — вялость и разбитость чувствовались в теле, ложка выпала из пальцев, звякнула об пол. Кот, развалясь на койке, лапами усердно тер мордашку — намывал гостей.
— Кого мне намываешь, барсук неповоротливый? — бурчала Серафима, неспешно прибирая со стола. — Генка не разгонится, Парамон тем более. Письмишко бы прислал, и на том спасибо…
Прошло всего полмесяца, как она отправила в Камышинку письмо, но нарастало беспокойство — ответит ли брательник, не примет ли за старческий каприз нешуточную просьбу…
День прошел в неясном ожидании. Вечером зашла с работы Тося.
— Я что хочу сказать? Завтра с утра яблоки будем продавать. И диетические яйца. Так что подходите, а то вам не достанется.
— Вот спасибо, Тосюшка! Нет-нет да выручишь меня. Яблоки-то ладно, яблоки не ем — вдруг попадут с чернобыльской заразой, а яичек нужно, пусто в холодильнике… Да пройти присядь хоть на минутку!
— Ой, да я попутно, надо бы домой…
Любила Серафима Сотникову Тосюшку за ласковость и нежность. Усадив ее за стол, вновь разлила по чашкам чай. Ладная, спокойная, с тонкими бровями над голубыми добрыми глазами, с губами, тронутыми легкою улыбкой, Тося выглядела мудрой, чуть утомленной жизнью женщиной. И Серафима, глядя на нее, в который раз подумала о сыне: какой он все-таки пентюх, кого он променял и по какой неволе? Цены бы не было невестке и жене!
И все же показалось, что в Тосюшке сегодня что-то необычное, какое-то сомнение в глазах, смятение, вопрос и нерешительность…
— Серафима Ниловна, а что, о Генке ничего так и не слышно? — спросила как бы ненароком, дуя на горячий чай в чашечке на блюдце. Спросила и зарделась, кровь так и брызнула к лицу.
— Не-е-ет, — протянула Серафима, — молчит, как в рот воды набрал. Не едет и не пишет, наверно, по уши в работе… А что? — насторожилась. — Тебе известно что-нибудь?
— Да нет, я так, — смутилась Тося.
Все-таки она недоговаривала что-то!
— Прямо хоть езжай к нему в разведку… Я бы, Тося, съездила, если б не супружница евонная — та его от матери отшила. Я ее и видеть не желаю.
— Что же так категорично? Может, и поладите, как свидитесь, поближе познакомитесь…
— То-сюшка, роди-и-имая! Не лежит душа. Чужая она мне. Чужая мне и Генке. Материно сердце не обманется. Жалко мне его.
Тося отхлебнула чая, отставила вдруг блюдце. Стряхнув с колен невидимые крошки, сказала, глядя в сторону:
— Не знаю, как и быть… Может, вы подскажете. Предложенье сделали на днях. И во сне не снилось!
Серафима вперила глаза на разрумяненную Тосю. «Так вот ты с чем пришла! Вот почему о Генке любопытствуешь! То-осюшка, родимая! Все еще надеешься? Наплюй ты на него. Забудь. Устраивай судьбу. Устраивай, пока еще не поздно!» — так она подумала, но вслух произнесла:
— Хороший человек-то?
— Добрый… Но — с изъяном.
— Ну так что ж теперь-то. Которые без брака, давно к рукам прибратые. Главное, чтоб, Тосюшка, с умом и не калека…
— Слабый, к сожалению. Слабый и безвольный.
Серафима вскользь перекрестилась.
— Пьяница, поди?
— А вы его не хуже знаете.
— Не Яшка ли?!
— Да… Он.
— Ну и… что же ты?!
— Ответила: подумаю.
— Думай, Тося. Думай. Дочка у него. С матерью живет. Мать тоже непутевая — гулящая бабенка. Из-за нее и Яшка спортился — в запои ударяется. Все ли знаешь про него? Ой, боюсь, не все! Кабы не подвел под монастырь. Тем более с Шурупом дружбу водит… А ты ведь молодая.
— Серафима Ниловна, да полноте, ей-Богу! Какая молодая? Тридцать пятый год! Другие в моем возрасте детей имеют взрослых. Взрослых! Понимаете? — Облокотясь на стол, Тосюшка обеими руками подперла круглые пылающие щеки, заплакала беззвучно. — Прождала, дуреха. Все глаза на ваши окна проглядела. Как девчонка неразумная… Как школьница… А Яша, — Тося всхлипнула, достала носовой платок, — вволю нахлебался, понял кое-что. Сам сказал: «Я — слабый, держи меня в узде, пожить хочу по-человечески… А что рисковый, знаю». Я ведь тоже спятила — помочь ему хотела. Вроде пожалела, а после испугалась. И за него, и за себя. Да и за вас… Я знаю: он и вас втянул в эту авантюру, так что прошу: простите! Простите нас обоих, Серафима Ниловна!
Будто паром с головы до ног обдало Серафиму. И то, что не могло присниться в жутком сне, явилось откровением. Неведомый канал, по которому «Столичная» поступала к ней, имел исток в подсобке магазина №5. И изначальным звенышком цепочки «Яшка — Серафима — покупатель» являлась Сотникова Тося…
Все это молнией прошило Серафиму, и, потрясенная открытием, она не в силах была вымолвить ни слова.
* * *
Утром, встав на табуретку, из-под вороха тряпья на шифоньере достала емкую коробку из плотного картона с откидными боковушками расслоенной крышки. Включила в кухне свет, села с краешку стола, вытряхнула деньги на блеклую клеенку. Красные, зеленые, синие купюры пышной, оплывающей с боков округлой горкой лежали перед Серафимой. Она уставилась на деньги, не смея к ним притронуться. Сидела изваянием согбенной с каменным лицом…
С кровати на пол прыгнул кот, пробежал к порогу.
— Да чтоб ты провалился! Из-за тебя, блудливого, сердце оборвалось! — Выпустив на улицу кота, приступила к пересчету…
По заведенному недавно распорядку наведывался Яшка по субботам, в один и тот же час, сразу после передачи «Время». Входил без стука, как домой, снимал с плеча затаренную сумку, мягко ставил в ноги.
С полувопросительной улыбкой глядел на Серафиму. Столкнув с колен Барона, она без слов вставала с кресла и выключала телевизор. Кряхтя, тащилась в Леночкину комнату. Открывала крышку погреба и, встав на четвереньки, запускала руку в яму. Со ступеньки деревянной лестницы, ведущей круто вниз, брала пустую сумку с той же броской надписью, кидала ее Яшке. «Все, что выручила,— тут». Затаренную сумку ставила на место возвращенной.
С той же вопросительной улыбкой Яшка бережно брал сумку за ремни, встряхивал слегка: «Сколько тут сегодня?» — «Столько, сколько есть! — бросала раздраженно. Считай, простая арифметика: пятнадцать штук по тридцать… Сколько получается?»
«Прилично. — Яшка белозубо улыбался, рассовывая деньги по карманам. — Ты просто молоток у нас, теть Сим. Ударница торговли». — «Будет зубоскалить — не до шуток!» Яшка на глазах отсчитывал «зарплату»: «Сегодня получаешь с прогрессивкой, фирма ценит расторопных!» С «прогрессивкой» выходило до двухсот от партии. Когда он уходил, Серафима, не считая, совала выручку в коробку, заваливала тряпками…
Разложив деньги по столу дышащими стопками, Серафима, слюня пальцы, просчитала каждую, сложила все в одну стопу и обвязала шелковой тесемкой. Подумав, обернула суконным лоскутком… Без малого две тысячи! Это ли не деньги? Взвесив на ладони аккуратный сверток, вбросила в коробку, заметалась в поисках укромного угла. В раздумье встала у кровати, опять метнулась в кухню. Вернулась с ножиком в руке, вспорола шов перины и, сунув сверток в прорезь, в пуховое нутро, зашила мелкой стежкой…
«Все! Господи, прости!»
* * *
Не знала Серафима слов молитвы, но не могла не помолиться во искупление грехов. Из-под кровати выдвинула фанерный чемодан, обитый по углам мягкой красной жестью, щелкнула замками, откинула продавленную крышку. Из-под стопки «смертного» — нижнего и верхнего белья, платка и пары полотенец, тапочек и крестика на мелкозвенной цепочке — достала бабкину икону, завернутую в бархатный лоскут. Развернув и выставив на свет, шершавыми подушечками пальцев дотронулась до выцветшего лика… Установила легкую икону в передний угол затемненной горницы, накрыла свежим полотенцем. Зажженную свечу поставила на краешек надтреснутой подставки. Встала на колени…
— Господи, прости! Если есть Ты, слышишь, видишь — внемли моим мольбам. Прости нас, грешных, недостойных! Учил Ты жить по совести, учил добру, смирению — не вняли, не услышали. Отвыкли мы от добрых слов, сердцем очерствели, убогому и сирому куска не подадим, над старостью смеемся, измываемся. Завистливыми стали, нелюдимыми, во зле и лютости погрязли… Но если сотворил Ты мир для человека, молю, не отвернись, прости за прегрешения, очисти наши души от скверны и жестокости, дай веру в справедливость!.. Не от хорошей жизни нелюдями стали. Одна я одинешенька, нет впереди просвета… Прости мою корысть. Слезами и молитвами искуплю вину. Дай только выбраться отсюда!
Серафима встала и распрямилась. Последний раз перекрестилась на икону с потрескивавшей свечкой на подставке, из подпола достала сумку с водкой, снарядилась к Яшке.
Окончание следует…