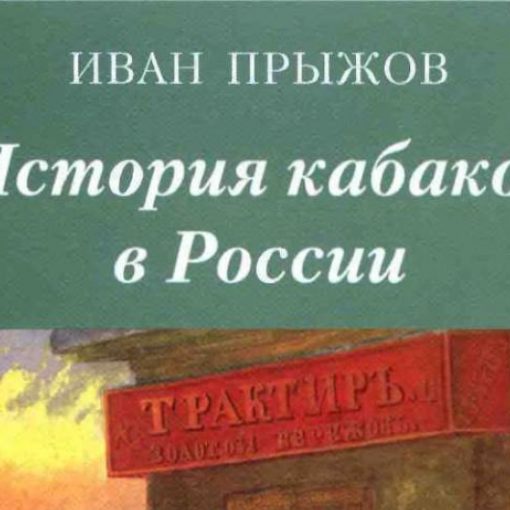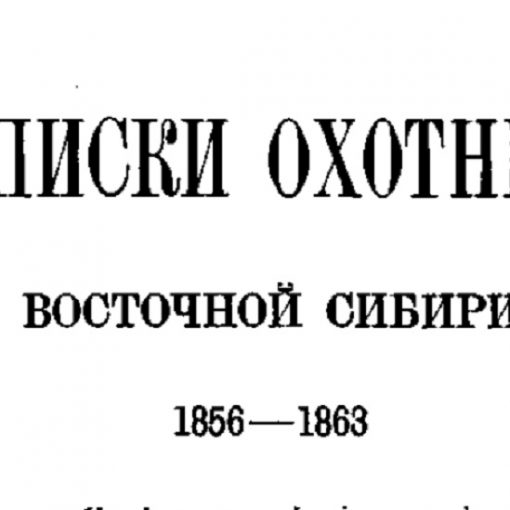Николай Коняев
Субботним вечером 26 декабря 1987 года продавщица Осихинского сельпо Дарья Семочкина, как обычно, пересчитала выручку, сдала магазин под охрану Кузьме Шагову, по-уличному — Кролику, и отправилась домой. Лампочка на столбе около магазина перегорела еще осенью, и Дарья, раскинув руки, осторожно, точно по жердочке, перешла впотьмах обледенелую дорогу. Напротив дома старика Шамарина вдруг остановилась…
В распахнутой калитке горбатился иссиза-синий плотный сугроб. Ни со двора, ни ко двору не виднелось ни следочка. Дарья вспомнила: поземка мела в ночь на четверг, стало быть, сосед не выходил из дому третьи сутки. Последний раз видела Шамарина в среду… Да, в среду, после обеда. Хлеб из пекарни только подвезли, и народу еще не набежало. В магазине были двое — он и Мотря Шагова, Кузьки Кролика благоверная. Шамарин взял буханку белого, сушек полкило, пачку папирос. Постоял, помешкал и спросил бутылку.
Она отмахнулась: «Что ты, Василий Егорыч! Какая нынче водка? Указ на огненную вышел. То, что было, выдули, а завоза нет».
«А ты бы посмотрела хорошенько, может, затерялась бутыльчонка, — попросил старик. — Или, на худой конец, поллитра парня с топором».
Старушонка Шагова ввернула вполушутку: «Ты, Шамара, погляжу, зачастил без Агриппины. Как она уехала, сдружился с этими «парнями»!
Шамарин отшутился: «Э-э, девка! Отчего мне, молодому-холостому, не кутнуть? Вот приду сейчас домой, стопку опрокину, сапоги нашоркаю, подамся по сударушкам. Чем не кавалер?»
«Откавалерилася, Вася, кавалерка-то!» — отбрила шустрая старуха.
«И откудова ты, Мотря, все как есть-то знаешь? — старик прищурился лукаво и тут же горестно вздохнул. — Да-а, слышь-ка, никудышный кавалер сделался с Шамары… А поллитру, деушки, не просто так прошу. Именинник я сегодня, скромно выражаясь. Надо б душу удоволить».
«Тады оно коне-ешно, — согласилась Мотря, — грех не пропустить! Уж ты, Дашутка, ублажи, не пообидь Шамару».
Она не устояла: «Не знаю, что и делать… Разве что в подсобке поискать? Только вы уж спрячьте ее в сумку, чтоб никто не видел… Увидят — набегут, беды не оберешься».
И вот — как в воду канул дед. Три дня в сельпо не появлялся, ограда позавьюжена. Но окошко в доме светится…
И вспомнился Дарье ночной разговор с мужем. Иван в первом часу вышел на двор и, воротясь, проронил мимоходом: «Что-то у Шамарина третью ночку свет горит… Чего ему не спится?» Тогда Ивановым словам не придала значения. «Бессонницей страдает», — бормотнула сонно. Поговорили и забыли. Но сейчас тревожно сделалось вдруг Дарье. Подгоняемая смутным, суеверным страхом, заскочила в сенцы, рванула в доме дверь…
— Ты бы оторвался от газетки! — выдохнула мужу.
В ожидании жены Иван с газетою в руках сидел напротив телевизора.
— С чего переполохалась?
Дарья облизнула ссохшиеся губы.
— Ты когда последний раз с Шамариными встречался?
— С Шамарой? В среду… Двадцать третьего.
— А вчера-позавчера?
— Не-ет… А что случилось?
Дарья обессиленно села на диван.
— Третьи сутки старичишку не видать, и проведать на ум не взбредет. Соседи называемся!
Тревога от жены передалась Ивану.
— Да что случилось-то, скажи!
— Пока еще сама не знаю. Только чую, что неладно. Надо бы проведать.
…Дверь в доме Шамарина взломали уже ночью. В прихожей на столе увидели бутылку из-под водки, стакан и миску пельменей. На предтопочном листе валялись клочья скомканной бумаги. Бездыханное тело старика находилось в горнице. В серой клетчатой рубахе, в темных в мелкую полоску мятых брюках, комом сбив половики, он лежал на полу ниц, скрюченными пальцами вцепившись в уголки подушки…
Утреннее вскрытие показало отравление угарным газом.
1
С утра подморозило, поскотина обелилась инеем, а днем, когда пригрело солнце, заблестела, заискрилась испарениями…
— Нашто человек живет? Вот взять, к примеру, дерево, березку эту кудлатую. Богом дана человеку, и голимая от нее польза. Мурашки-букашки по стволу шныряют, пичужки в ветках прыгают — поют-заливаются. Радуются. Станет, родимая, весной оживать-распускаться — глазу любо, сердцу дорого. Сладким соком напоит, в тенечке от жары укроет, от ветру заслонит. Ты ее, красоточку, зугубишь, распилишь на кусочки, расколешьизмельчишь, в печи зимой спалишь, а она тебя же и теплом одарит. Вот тебе и дерево. С ним понятно все. Оно на радость и на пользу человеку дадено. А нашто, спрашивается, человек живет? Ведь он, хитер-бобер, отдавать не любит, он заграбастать норовит. Он-то для чего на землю Богом сослан? Не ведаешь, Серуха? То-то и оно. И никто не ведает. Человек, он — главная загадка всей природы… Однако будет нам с тобою разглагольствовать. Домой пора, подружка.
Осихинский пастух Василий Шамарин тяжело поднялся с клока овсяной соломы под раскидистой березой, размял затекшие ноги, запахнул полы дождевика. Ладонью, отполированной кнутовищем до глянцевитой желтизны, потрепал за холку оседланную кобылу, потоптался сбоку, всунул ногу в стремя и, оттолкнувшись от земли, легко взлетел в седло.
Раньше обычного сбил пестрое стадо в кучу, направил к озеру, на водопой. Живой цепью растянувшись вдоль кромки илистого берега, коровы медленно цедили взбаламученную воду, затем, глубоко увязая в няше, екая селезенками, выбирались на сухое…
Пастух меж тем из-под руки оглядел село. Задворки огибала голая березовая рощица, за ней во всю ширь простирались утыканные рыжими скирдами поля вперемежку с багряными колками. Сквозь черные ветви древних талин по ту сторону озера виднелись убранные огороды, бабы и ребятишки копнили картофельную ботву, протапливались бани, в синеватой стелющейся дымке темнели силуэты стаек и амбаров. Терпкий березовый дух распаренных веников докатился до поскотины…
Через полчаса медлительное стадо втянулось в пыльную улицу. С перестуком распахнулись калитки, заскрипели петлями ворота. Мерно покачиваясь в седле, с достоинством, чуть заметным кивком головы Шамарин отвечал на приветствия сельчан. Стадо с утробным мычаньем растеклось по дворам и загонам, лишь кучка шалопутных коровенок во главе с красавцем Зевсом Кузьки Кролика, округлыми боками ломая ветхие жердины, ринулась на огороды, где на задах дозревали капуста и брюква, островками рябились полеглые листья хрена, корнями вбирающего последние соки земли…
Тонкие, обветренные губы пастуха скривились в осуждающей усмешке.
— Хозя-я-ява, вашу мать! Скотину, гля-кось, встретить недосуг!
Сопроводив остатки стада до края длинной улицы, Шамарин круто завернул кобылу. Из-за оград донеслись мужские окрики, гогот потревоженных гусей, ленивый брех собак. Послышались ласкающие голоса хозяек, бряцанье дужек подойников, и чуткое ухо Шамарина различило перезвон молочных струек, постепенно переросший в тихую мелодию…
Пастух подъехал к дому, соскочил с верха, на потном кобыльем брюхе ослабил подпругу. Протянул к обвислым, обслюнявленным Серухиным губам сухую корку хлеба. Затем решительно рукой толкнул калитку, намотал на кнутовище сыромятную «змею», вбросил ее в сумрачный проем амбара на мешки с картошкой. В дом не заглянул — знал, что Агриппина на вечерней дойке. Через заднюю калитку пошел по огороду к бане.
Агриппина еще утром наполнила водой котел и чугуны, натолкала в каменку березовых поленьев, подмела в предбаннике, вымыла полок. Шамарин поднес спичку к свернутой берестке, она вспыхнула как порох, загудел огонь. Он посидел недвижно перед каменкой, докурил и встал, произнес отчетливо и твердо, как только что дошедшее:
— Живем ведь помаленечку!
Утром встал чуть свет. Сполоснул лицо под умывальником, оделся, вышел из дому. Поглядел поверх забора на безлюдную середку. Противоположной стороной прошел к конторе Казыдай, управляющий совхозным отделением. Старик отправился вослед.
Вскоре к дому пастуха подрулил грузовичок. В кабине рядышком с водителем сидел напыщенный старик. Глаза блестели нетерпением, на макушке матово отсвечивала круглая пролысина. Из дому вышла Агриппина. В наброшенной на плечи плюшевой жакетке, в резиновых калошах, резкая в движениях. Вошла в амбар, замешкалась.
Старик поерзал на сиденье, ступил на подножку машины.
— Ну чего застряла? Шевелись маленько!
Агриппина огрызнулась:
— Не понукай, я тебе не Серуха! Топор вот нигде не найду. Куда его запрятал?
— В углу он. За мешками.
— Да где же за мешками?
— В дождевик завернутый.
— Вот куркуль-то, — пробурчала Агриппина. — Все-то прячет от кого-то, все-то прячет! — Нашла топор, лопату, подошла к грузовику.
Старик принял нехитрый инвентарь, вбросил его в кузов и, всем своим видом показывая, что не намерен терять ни минуты впустую, щелкнул дверцей перед носом Агриппины…
В полдень у ворот шамаринского дома высилась гора отборных, полешко к полешку, дров. Старик закатал рукава. Из сарая выкатил дощатую тележку, смазал солидолом оба колеса, подбил, где требовалось, гвозди, принялся возить дрова в ограду. Сделав кряду три-четыре ходки, складывал пахучие поленья вдоль высокого забора. Работал с наслаждением, неспешно, чтоб надольше хватило. Поминутно отступал, любовался ровной кладкой. Вечером из дому вышла Агриппина, позвала на ужин. Шамарин только отмахнулся. Отмахнулся через час и через два…
— Какой ты вредный да настырный! — сердилась Агриппина. — То шагу сделать не заставишь, то не остановишь. Бросай дрова — суп в чашках стынет!
— Холодный за милую душу пойдет!
— Ну, черт с тобой, ходи голодным! — Агриппина громыхнула дверью.
Шамарин будто на крыльях летал. Домашняя работа не была ему в тягость. Дело спорилось, пела душа. Радовали дрова — сухие, колкие, сплошь береза. Радовало, что дешево — в поллитру водки — обошлась вывозка. Что работы впереди — непочатый край…
Завершил поленницу уже глубокой ночью, при свете переноски, но и на том не закруглился. Вышаркал метлой обширный двор, размел круговину за воротами. Покурил на крыльце и лишь тогда отправился на отдых…
Неделя не прошла, а пролетела. Старик поднимался ни свет ни заря, выпивал литровку молока, выскакивал на двор. Картошку из амбара ссыпал в погреб, из-под открытого навеса убрал остатки прошлогоднего сена, высвободил место новому укосу. Прикинул на глазок: можно чуточку продать, при нынешнем дождливом лете любой с руками оторвет, только заикнись. Починил забор, на толевой кровле сарая заделал дыру, проверяя на прочность, простучал обушком топорика ограду, с удовольствием вогнал в сухую древесину дюжину гвоздей. Когда придирчивому взгляду не за что стало зацепиться во дворе, пошел на огород. Недовольно вскрякивал, носочком сапога выбивая из-под земли пропущенные Агриппиной картофелины, кучками складывал их на траве. Собрал в копешки вялую ботву, прошел к капустным грядкам. Оглядел ряды тугих и круглых, как мячи, вилков, коснулся холодного, соблазнительной белизны и свежести листа, но не отщипнул — всему свой срок. С трудом выдернул хвостатую брюквину, ножичком отслоил мягкую кожуру, отрезал кружочек плода, захрумкал, блестя широкими крепкими зубами. На обратном пути рассовал по глубоким карманам картошку, тяжело опустился на ступеньку крыльца, свесил между колен жилистые руки. Обозрел ухоженный двор и ощутил неимоверную усталость.
Вот, кажется, и все. Можно отдохнуть.
2
В один из ясных дней начала октября, когда лег снег, ледком сковало землю, с утра сходив на огород, старик скомандовал с порога:
— Все, мать, беремся за капусту!
— И то, отец, дошла! — кивнула Агриппина.
После завтрака Шамарин наточил ножи, Агриппина приготовила кадушку и тазы.
Спустя еще немного времени старик принес мешок вилков. Примостился у стола, смахнул с вилка взлохмаченные листья. С сочным хрустом острый нож вошел под кочерыжку. В три движения руки Шамарин вырезал ее в виде пирамидки. Махом развалил напополам тугой вилок и отщипнул кусочек спелого листа, бросил на язык.
— Не капуста, мать, — арбуз!
Поднялся перестук двух ножей, резиновый скрип кочанов. Работали молча и споро. Не услышали, как отворилась домашняя дверь и на пороге возник внук.
— Физкульт-приветик, дорогие!
— Прие-ехал! — Агриппина, бросив нож, метнулась к своему любимчику.
— Явился, попрыгун! — сдержал эмоции Шамарин.
Внук вернулся из Каменки, где участвовал в районных соревнованиях по баскетболу. Худой, высокий и нескладный, наклонился к Агриппине, неуклюже чмокнул в щеку.
— Заждалась тебя, Колюшка! Уехал на три дня, а пропал на всю неделю, — пожурила Агриппина. — Бабка всяко передумала.
— Разыгрались, бабсик!
— Опять? — старик сурово поглядел на внука.
— Что — опять? — не понял тот.
— Опять это слово поганое — бабсик? Где ты его откопал? На какой помойке? Чтобы я не слышал больше!
— Лады, дедок. Не распаляйся. — Внук встряхнул кроссовки у порога, юркнул в свою комнату. Оттуда вышел в плавках и с полотенцем на плече. На ходу нагнулся к Агриппине, чмокнул во вторую щеку и потрусил к умывальнику.
— Дури в тебе, погляжу! — ножом хватив по кочану, пробурчал старик. — Девятнадцатый год жеребцу, а все как ребятеночек, малютится. Все-то рысью, все-то он вприпрыжку. В районе, что ль, не наскакался?
— За что на парня напустился? — вступилась Агриппина.
— Он не старик и не калека, чтоб ползком по дому ползать. Скоро в армию пойдет, научат там по досточке ходить.
Колька, шумно отдуваясь, растирался полотенцем.
— Какой, мать, из него солдат? — искоса взглянув на внука, подковырнул старик. — Тощий он, что куренок.
— Были б кости — мясо нарастет.
— Нет, не возьмут его на службу!
Агриппина возмутилась:
— Почему вдруг не возьмут? Чем Колька наш не вышел? — Куда он годен без специальности? В институт не проскользнул — тяму не хватило. А в армии с правами тракториста нынче делать нечего.
— В армии, дед, безработицы не наблюдается, — подал голос внук.
— Ишь ты, грамотей! — хмыкнул недоверчиво Шамарин. — Тебя-то точно не возьмут.
— Ты, дед, ей-Богу, как репей, — не стерпела Агриппина. — Прицепился — не отцепишь. Дай поесть с дороги парню. — Сдвинула на краешек стола тазы с шинкованной капустой, поставила тарелку спелых помидоров, глиняную хлебницу с нарезанной каралькой, кружку молока. — Садись, внучек, перекуси.
Внук оделся, сел за стол. Шамарин тоже сделал перекур, уселся на порожек.
— На такую солдатню надежи мало! — заключил уныло.
— Так весь в тебя, дедуль!
— Позубоскаль вот мне еще! Напишу отцу, какой ты!
— Какой?
— Неслух, вот какой. Вызову отца, пускай повоспитывает.
— Поздно спохватился.
— Еще пока не по-оздно! Тебя-то оброта-ает!
— Раньше надо было думать. Повестку мне вручили.
Агриппина встрепенулась:
— Какую, Колюшка, повестку?
— Не в суд, вестимо, — в армию.
Старика с порога будто ветром сдуло.
— Голова садовая! Пошто не сразу сказал?
— Считай, что объявил. — Внук залпом выпил молоко.
— Спасибо, милый бабсик!
Агриппина всхлипнула:
— На здоровье кушал!
— Голова два уха! Олух несусветный! — застонал старик.
Колька удивился:
— С чего вы оба всполошились? В армию так в армию, сходим и туда.
— Отцу с матерью дал телеграмму? — спросила Агриппина.
— Напишу с дороги.
— Как это — напишу? А телеграммку? — Шамарин вдруг вспылил. — В армию идешь — не девок в клубе жулькать! Соображаешь или нет? Надо, чтоб родители приехали.
— Не успеют. Призываюсь послезавтра.
— Что-о?! — вскричали старики.
У Агриппины разом опустились руки. Шамарин выпучил глаза.
— Ты что себе, дурила, позволяешь? В мячик в Каменке играл и в ус не дул? Не знал, что на службу тебе собираться? О проводах подумал? Стариков удумал опозорить?
Внук сокрушенно качнул головой, попятился к двери.
— Шебутные вы мои! Впереди два дня. Времени — вагон с маленьким прицепом. Все успеем в лучшем виде.
— Дверь за ним захлопнулась.
Шамарин крякнул раздраженно:
— Развели тут канитель! Не ко времени с капустой!..
Продолжение следует…