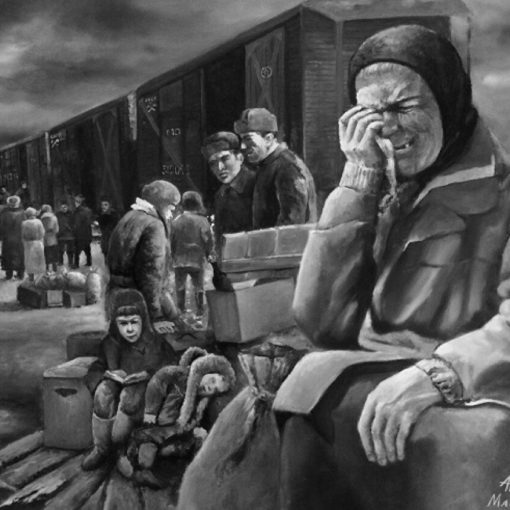А. Оленева
Более чем за три с половиной века существования села, положившего начало Ханты-Мансийску, сменилось много поколений, купеческих сословий, представителей власти и даже не один раз общественный строй, а село все живет.
Советская власть в Самарово установилась весной 1921 года, позже, чем в других населенных пунктах Самаровского района. Здесь произошло вооруженное столкновение между красными и белыми.
Я хочу рассказать о небольшом эпизоде этих дней, очевидцем которого была моя мама. По стечению обстоятельств она оказалась здесь, когда исход сражения был уже предрешен.
А дело было так. Наша деревня находилась в 20 километрах от Самарова вверх по Иртышу. В нескольких километрах от деревни есть речка Максимовка. В этих местах разместилась часть отряда белых, вероятно, они шли на помощь своим. Полевой телефон не работал, другой связи не было, поэтому они не знали, как разворачиваются события.
Белые выделили одного человека и послали в разведку. В нашей деревне был заведен такой порядок: снаряжали по очереди людей, чтобы везти в Самарово то или иное официальное лицо, и называли это просто — возить очереды. Для этих целей был неводник на четыре греби, на корме сидел опытный рулевой-кормовщик.
В этот раз в числе четверых незамужних женщин была и моя мама. Посадили они пассажира и поехали. А ехать было небезопасно: Иртыш еще не совсем очистился ото льда, по нему плыли отдельные льдины. Ни о каком восстании они не знали и не ведали.
Подъезжая к Самарову, они услышали нечастые выстрелы, струхнули поначалу, но большого значения не придали, так как стреляли не по ним, а по другим лодкам, которые отплывали от берега и намеревались пересечь Иртыш, чтобы спастись, если повезет.
С берега заметили лодку. Как только они причалили, подбежали вооруженные люди и взяли под стражу их пассажира, как будто его и ждали. Он понял, что его ждет, и стал бледен, как полотно. Вместе с ним увели и рулевого. Девчат страшно мучило происходящее и то, что увели кормовщика.
Бой уже закончился. Мама видела, как на берегу и на дороге собирали убитых с той и другой стороны для захоронения: кладбище было рядом. Так они пробыли в лодке на берегу несколько часов, отлучиться куда-либо никому не разрешали. Они так и не узнали, кто был этот человек. Рулевого допросили и отпустили, мама с подругами, натерпевшись страху от всего увиденного, поспешили вернуться домой.
Как сложилась судьба тех, кто был в Максимовке? Наверное, узнав все от вернувшихся из Самарова, они ушли туда, откуда пришли, а, может быть, судьба их сложилась иначе…
Самаровское купечество. Я редко слышала, чтобы их называли купцами, просто говорили, что они были богатые, торговали, при этом называли фамилию. Из ближайших деревень в Самарово приезжали за покупками: женщины — за нарядами и украшениями, мужчины — за продуктами, сбруей, рыболовными снастями и другими покупками.
Из рассказов моих родителей видно, что купцы умели торговать, умели показать товар лицом, привлечь покупателей, не ленились раскинуть куски тканей: от ярких шерстяных из гаруса до разных шотландок, кисеи, батиста, сатина, могли поиграть украшениями. Покупатели приглядывались, примеривались, торговались, чтобы подешевле заплатить за аршин. Добрый купец отпускал и в долг. Наряды из таких тканей я видела у моей матери в сундуке, данные ей в приданое.
В окружении моих родственников звучали такие купеческие фамилии: Соскины, Шеймины, Кузнецовы. У последних в кухарках жила моя тетка, старшая мамина сестра, неграмотная деревенская девушка, пока не вышла замуж. Из семьи Соскиных я знала двух сестер: Ольгу и Марию.
От своей старшей сестры я знала, что они из богатой семьи. Куда девалось их богатство? Мария потом закончила Тобольский медтехникум, а Ольга работала уборщицей. Расспрашивать что-либо об их прошлом было неэтично, так как близко я не была с ними знакома, да и зачем ворошить прошлое и бередить душу.
Жаркий июльский день 1934 года. Я впервые в Самарово, в русском купеческом селе. Хотя приближался праздник — Ильин день, но не слышно было колокольного звона церкви, приглашающей прихожан к святой службе, так как церкви уже не было.
По центральным улицам Кирова и Свободы и по улочкам, сбегающим к Иртышу, стояли деревянные крестьянские дома, одно- и двухэтажные, построенные в разные годы. Новых домов было мало, но добротные сохранились. Они отличались по внешнему виду: наличниками с нехитрыми украшениями, ставнями. В них, наверное, жили зажиточные крестьяне и купцы. В основном же бросались в глаза старые дома с маленькими окошками, покосившиеся и почерневшие от времени, непогоды и температурных перепадов. Про ремонт фундаментов тогда еще не знали, поэтому такое жилье оседало, уходило в землю и окончательно разрушалось.
Речка Курья расколола часть берега, здесь образовался маленький полуостровок, на котором размещалась старая пристань с проходной и билетной кассой. Зала ожидания по существу не было, и пассажиры ждали очередного парохода прямо на улице в любую погоду.
В период разлива речка Курья доставляла много хлопот жильцам, дома которых стояли на ее берегах. Я ее про себя называла маленькой бухтой. Когда на Иртыше штормило и тяжелая волна била о берег, речка была хорошим укрытием от стихии маленьким суденышкам, лодкам и лодочкам, на которых приезжали из соседних деревень крестьяне.
Через Курью был перекинут мост, тогда еще новый, широкий, с высокими перилами. Он соединял пристань с основной частью Самарова. На нем всегда было оживленно, ехали подводы, спешили пассажиры на пароход или прохожие. В летнее время, особенно в субботу или воскресенье, этот мост и улица Свободы были прогулочным «проспектом», особенно для молодежи, принарядившейся и прихорошившейся. Далеко за полночь были слышны веселый смех, неторопливые шаги, негромкие разговоры.
Улицы не имели никакого благоустройства. Осенью превращались в болото и без сапог невозможно было пройти. Местами улица Свободы была выложена круглыми бревнышками, наверное, еще при царе, они были подвижны, как клавиши, и подводам ездить по ним было ох как непросто.
На месте книготорга стоял старый двухэтажный дом, в нем жили люди, пока он совсем не разрушился. Около него, где теперь остановка автобусов, чуть ближе к дороге, шла торговля. На выходной день колхозники из близлежащих деревень привозили на продажу молочные продукты, картошку, овощи.
На этом же пятачке торговали мороженым, именно здесь я его увидела и попробовала первый раз. Стояла бочка со льдом, в ней емкость с мороженым. Продавец ложкой наполняла цилиндрический металлический стаканчик, снизу давила на поршень, и мороженое легко вынималось. С вафельной хрустящей корочкой, сладкое, светло-розового цвета, душистое, а самое главное — из натуральных продуктов — это мороженое было настоящим наслаждением! Его можно было есть, не торопясь, оно до самого конца не расплывалось.
Мои детские глаза разбежались, когда я увидела торговлю товарами прямо на прилавке, на улице. В деревне у нас такого не было. Здесь лежали школьные принадлежности — покупай что и сколько хочешь. Здесь были палитры, акварельные краски, перья разных названий — от школьного до рондо, переводные картинки, пеналы, карандаши в коробках и россыпью и многое другое. У другого продавца — галантерея: ленты атласные ярких цветов, брошки, бусы, приколки, шпильки, пуговицы и другие мелочи.
Торговали не кто-нибудь, а корейцы. Каким ветром их занесло в этот медвежий угол — одному Богу известно. Стоили товары дороже, чем в магазинах, да в них многого тогда и не было. Позже я поняла, что это был рынок по свободным ценам, видать, НЭП доживал последние дни в такой глубинке, как Самарово. Года через два этих торговцев не стало, торговлю полностью взяло под свой контроль государство.
Продолжал строиться рыбоконсервный комбинат. Стройка велась на захоронениях, фактически на кладбище, на котором еще 300 лет назад хоронили умерших. И вот пришло время нарушить их последнее пристанище. Отвели новое место для захоронения, теперь оно находится в Южном переулке. Вряд ли кто перенес туда останки своих близких. Да, не храним мы уважение к гробам — это, конечно, непростительно никому. Раз шла стройка, пришлось выкапывать и останки усопших. Куда их потом девали — не знаю. Может, сожгли, может, спустили в Иртыш.
Люди шли работать на новое предприятие, там платили деньги. Получился небольшой отток молодежи из окрестных деревень. А там тяжелый ручной труд, примитивная техника, отсутствие холодильных установок.
Для передовиков труда, их тогда называли стахановцами, существовали маленькие привилегии: им на квартиры развозили продукты, чтобы они, придя с работы, могли спокойно отдыхать. В нашем семейном альбоме хранилось маленькое фото. На нем запечатлены маленький фанерный фургончик, лошадка, запряженная в сани. Около фургона, где были продукты, суетились рабочие. Подъехали и остановились у дома одного из адресатов. К сожалению, это фото не сохранилось.
Комбинатская столовая стоит на том же самом месте. Тогда не надо было спрашивать, где она находится, ее можно было найти по ароматным запахам, которые разносились далеко. Блюда готовили в основном рыбные. Уха была из осетровых и стерляжьих голов и потрохов, вкусная, свежая, наваристая и недорогая. Была жареная с разными подливами рыба, были, конечно, и третьи блюда. Пообедать мог каждый желающий.
Самаровская дорога — главная пешеходная магистраль, соединяющая село Самарово с рабочим поселком Ханты-Мансийском. Она тогда начиналась с Чапаевского переулка. Крутой подъем, лес, опорный пункт (так тогда называлась опытная станция) и главная дорога. Это была просека строгой ширины по всей ее длине. Из-за высоких могучих деревьев, которые стояли стеной по обеим сторонам, она казалась тропинкой, хотя можно было проехать и на лошадях. На полотне дороги пней не было, зато было много обнаженных корней, и ехать по такой дороге летом было тряско, хуже, чем по кочкам.
Дорогу местами пересекали болота, и в дождливую погоду она становилась непроходимой, поэтому приходилось углубляться в лес, чтобы обойти трясину. Тучи комаров гнались за пешеходами. Зимой дорогу никто не чистил, после буранов и заносов первое время идти было тяжело, пока не проторят сани и пешеходы. Частые ухабы, нырки, раскаты, бугры и впадины затрудняли движение.
Дорога с утра до вечера была оживленной, интересно было ходить по ней, можно было встретить земляков, знакомых из деревень и поселка, постоять, поговорить, отдохнуть, поставив вещички, посидеть на пеньке.
Позже стали делать насыпь, рыть канавы, появились пассажирские машины, это те же грузовики, оборудованные под пассажиров: в кузове сделали сиденья-скамейки, борта подняли чуть повыше, пассажиры поднимались с заднего борта по лесенке. Попасть на такой транспорт и проехать было благом. Машины курсировали от почты до Самарова. Остановки назывались так: Почта, Горка, Просека, Госпар, Нарсуд, Самарово (если память мне не изменяет).
На этом месте знакомство с селом Самарово не заканчивается. Немногим более чем через год я снова оказалась здесь. Вспоминаю холодное утро 1 сентября, село в густом тумане. Мы, ученики, шли в школу, хлюпая в жидкой грязи. Внешней торжественности не было: ни пышных бантов, ни парадной школьной формы, ни тем более цветов. Просто пришли, сели за парты и начали урок: не помню и поздравлений с началом нового учебного года. Это была школа №4, правда, тогда она не имела номера, так как школ было мало и они не нуждались в нумерации.
Здание было новое, еще пахнущее свежим смолистым деревом. Стены нештукатурены, полы и окна некрашены. Классных комнат не хватало, поэтому пионерская атрибутика хранилась в коридоре. Здесь же дети проводили перемены. Как только звенел звонок, они вставали в круг и танцевали незатейливый танец «левая-правая» под свой напев-музыку. Потом пели песни про Павлика Морозова, «Легко на сердце от песни веселой…» и другие.
А мне было нелегко и невесело. Мысленно я была в своей деревне, в нашей старенькой избушке, теплой, светлой и уютной, где пахло подовым хлебом, шаньгами, начиненными творогом и пропитанными сметаной, пахло жареной рыбой. Дома была мама, сестра и маленький брат, остались подружки, не поехавшие учиться.
Мне очень хотелось домой. А возвращалась я из школы в мрачное, полуподвальное помещение, где отец у знакомых снимал квартиру. Там уже жила женщина, которая уходила рано на работу. Перед этим она топила русскую печь. В самый пыл и жар задвигала ведерный чугун с водой и доводила ее до кипения. Этот кипяток заменял нам чай. У нее не было даже чайника, и у меня никакой посуды, нищета голая да и только. В комнате стоял стол без клеенки, вместо стульев — лавки. Одна из них была шире остальных, я подставляла скамейку, и это была моя кровать. Такие жесткие условия я выдержала всего недели две… И до свидания, село Самарово и несостоявшийся четвертый класс. Я — дома!
…Прошли десятилетия, я стала взрослым человеком, приходилось летом уезжать в отпуск. Теплоход отчаливал от берега, медленно набирая скорость, а я, стоя на палубе, смотрела, как удаляются горы, строения, лес. Всегда мысленно задавала себе один и тот же вопрос: когда же я снова вернусь в маленькую страну Самарию, мою родину?
«Новости Югры», 28 июня 1997 года