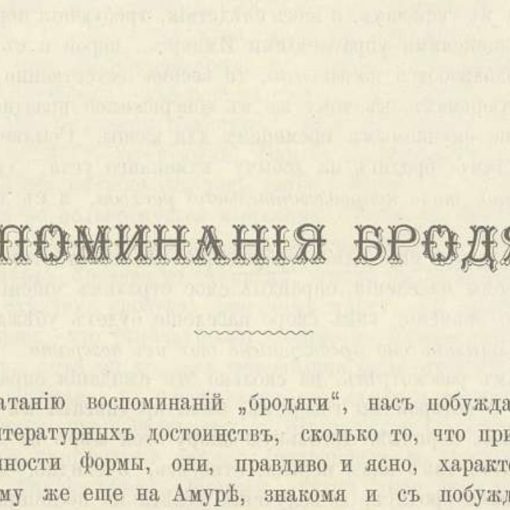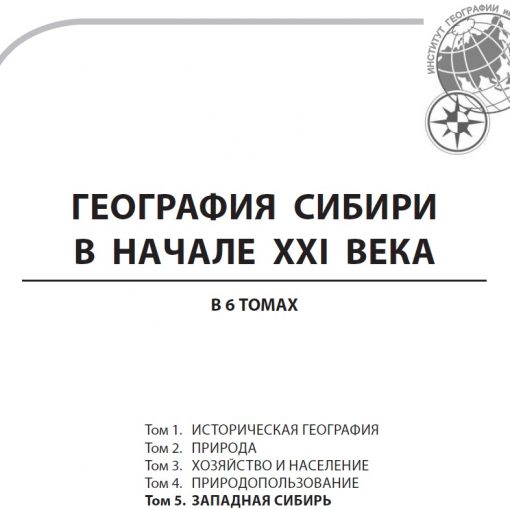Александр Мищенко
Теперь можно и возвращаться. Мы спустились в распадок и вышли на болото. На чистом от снега месте еще светло. Пытаемся определить, куда же идти. Картыков сокрушенно проговорил:
— Заблудились, парень.
Посоветовались и решили двигаться наугад вдоль болота, может, выйдем логами к Ильехану.
Заметно похолодало. Брюки и телогрейки заледенели и стали как жестяные. Хорошо, хоть нет ветра. Охотник движется ровно, я же едва удерживаюсь на ногах, спотыкаюсь о невидимые кочки и валежины.
— Тропа! — зовет меня Картыков.
По лосиному следу идти безопаснее, но труднее. Ноги съезжают в узкий желобок. Равновесие удерживать трудно, приходится балансировать, будто идешь по канату, хвататься за ветки колючего можжевельника.
Такие тропы пролегают здесь вдоль всех логов. В низинах много корма — кустарниковой березы, осинок, мха, багульника, сочных болотных трав, вот лоси и приходят сюда. Редко кому удается увидеть их здесь: зверь очень чуток. Охотник настигает его только благодаря собакам.
…Когда мы с Картыковым тронулись в первый поход по дальнему урочищу, он заявил:
— Может, лося добудем сегодня, одну лицензию я оправдал в этом году. На второго лося петлю поставил. Решил испробовать, есть ли толк в такой охоте. Дней десять назад прибегал сюда с тросом. Долго уж без проверки, а тут Дружок еще задержал!
На тропе между соснами увидели мы тогда только рога лося в стальной петле да обглоданный скелет. Картыков сразу определил, что это дело росомах и медведя. Он стоял растерянный и подавленный, как на похоронах.
— Теперь я вроде и браконьер… Все! Не ловил раньше петлей, теперь и сыну закажу. Убийство это ведь. А был бы транспорт, слетал и проверил. Худо без него, совсем худо… Пришел к председателю колхоза за лошадью однажды — мясо лосиное из тайги привезти, — не дал, корма, мол не успеваем завозить, скот голодный. Гусек суконный, балахон этот — на себя и подался к скрадку своему. Погрузил там мясо на карточки, впряг собак, сам коренником стал в упряжку. Трое суток ушло на обратную дорогу.
А декабрь, холод страшный, лед на ручьях трещал, кора берез и сосен лопалась, будто стреляли, — описывал этот путь Картыков. — Днем-то с морозом можно бороться, а ночью, как выяснит, он прожигал до костей. Вот меня и прихватило. Домой добрался — кых да кых! Истаял весь, как свечка стал. Курить бросил да жир медвежий, не переставая, пил. И оклемался, вишь, выздоровел.
Вечером у костра Картыков долго молчал. И вдруг его словно прорвало. Опять выплеснулась наружу горечь неудачи с охотой на лося. Охотник бичевал себя, и для меня это было несколько неожиданным. Он говорил о природе, которая живет вечно, об охоте, о человеке, о том, что жестокость можно оправдать, когда она разумна. «Охотник ведь не мясник, скотобоец какой-то, заканчивал Картыков на тихой и грустной нотке. — Мы со зверем живем вместе в тайге. Я и его душу, беды знаю лучше других. Жалко бывает красавцев лесных…»
Далеко завел нас соболек. Полночи мы плутали в поисках Ильехана и лишь на рассвете вышли к пойме ручья. Отоспались у костра, и вновь пошли таежные будни.
Утром небо затянуло белесой хмарью. Воздух морозный. До обеда мы проходили впустую. Белки как вымерли. Не было и боровой дичи.
— Не пойму отчего, — ломал голову охотник. — Может, маловодица повлияла? Два года уже мелкая Обь, рыбе нереститься и пастись негде. Несколько десятков лет такого не бывало. А пусто в реках — пусто и в тайге. Всегда такая «арифметика» выходит…
Зашли в густой ельник и обнаружили вскоре, что снова заблудились. По полуденным кронам стали выходить к Ильехану.
— Видишь, ветки густые, — подсказывал мне Картыков, — полуденная сторона дерева. В полдень солнце здесь самую жизнь ему дает.
— А компас у тебя есть, Володя?
— Был школьный, разбил.
— Карту, выкопировку бы тебе хорошую заиметь, чуть что, и сориентировался, — заговорило во мне топографическое прошлое.
— Да где ж ее взять? Не слышал, чтобы охотники в наших местах имели карты. Мы ж не геологи.
У Ильехана остановились. Пора было обедать. Картыков взял котелок и пошел долбить лунку. Я стал выкладывать куски вареного мяса, хлеб, сахар.
Быстро развели костер. Картыков следил, как закипает вода.
— Наливай, — говорю я ему.
— Погоди, перекат на чаю появится, белым ключом закипит — тогда.
— Дошел, самый чай сейчас будет, — улыбается охотник и снимает котелок.
Растираем над кружками комки плиточного чая. Настой получается ароматным и живительным. Чувствуешь, как разливается по телу блаженный напиток.
И опять мы в пути. Попали на куртину сухостоя. Я услышал треск за спиной. Оглянулся — никого. Картыков рассеял недоумение:
— Сухие деревья трещат, к теплу, значит.
Словно в подтверждение его слов ветром разнесло хмарь, выглянуло солнце, и веселою стала тайга, заискрилась, Картыков легонько трогает топорищем беличьи следы. Вмятины мерзлые.
— Старые, — определяет охотник.
В нескольких местах находим посорку чешуи с сосен, скорлупу кедровых орехов. Это белка расщелкивала их, добираясь острыми зубами до ядрышек. Я нашел свежий след. Картыков быстро наклонился, дунул в него. Радостно глянул на меня снизу, выкатив голубоватые белки глаз.
— Впить, сдвинулись средние и крупные комочки снега, десяток минут назад белка была здесь.
Собаки взяли след белки и быстро загнали зверька на сосну. Дружный и радостный лай огласил округу. Белка прыгала с ветки на ветку, пугливо зыркала вниз широко расставленными главами и нервно подергивала распущенным хвостом.
Прицеливался Картыков не торопясь. Выстрел. Мимо. Снова белка на прицеле.
Меня это уже не удивляет: не так-то легко промышлять белку, тут есть свои сложности. Охотник прицеливается в голову зверьку так, чтобы основной заряд прошел мимо и не повредил шкурку. Весь расчет на одну-две крайние дробины.
Еще выстрел — и белка, кувыркаясь, летит к ногам охотника. И вскоре занимает свое место в связке у пояса. Картыков любуется ее голубовато-серым мехом. Лицо у него, как и после каждой удачи, большой или маленькой, просветленное. А тут особая радость: Картыков наслаждается белкованием — торжественной тишиной, в которую вслушивается до звона в ушах, урканьем застигнутой на дереве белки, шорохом полевок, шебуршанием поползней.
Впереди заманчиво синеют горы. Пойма Ильехана смыкается, и ручей тесниной проходит к Тор-Ежу. Это приток Батлымки. Поразительно красивое место! Куполообразные вершины, живописные увалы, ступеньками спускающиеся в глубокие лога. Кажется, будто все породы деревьев района собраны здесь, как в заповеднике. На северных сторонах острова кедрач, ельник, на солнечных косогорах — сосна, в ложбинах — мелкий осинник с обглоданными стволами и скусанными ветками. Корой и молодыми побегами осины питались в период осенних гульбищ лоси. Некоторые деревца сломаны — это буянили взъерошенные в период гона, с налитыми кровью глазами и раздутой шеей самцы.
И впервые в своей жизни я увидел здесь рощу корабельного леса. Глянешь вверх — голова кружится, легкими облачками плывут высоко в небе зеленые кроны сосен. И, словно золоченые, горят в лучах солнца струны стволов. Стеной стоит могучий лес, дереву тут и упасть нельзя.
— Видел, как одиночки-сосны растут? — спрашивает Картыков и сам себе отвечает: — Кривые. А эти, вишь, к солнцу как тянутся. Недаром старики говорят: «Не гонитесь в одиночку за счастьем, а идите за ним гуртом, дружно».
С опушки соснового бора мы увидели залитую солнцем долину Идьехана. Плавно спускались к нему лесистые увалы, за которыми виднелись синие горы. И через всю чащу — ослепительно голубая дымка. Мне вспомнилось слышанное об одном художнике, как он однажды открыл такую же картину в тайге, но с собой у него не оказалось красок. А пошел позже с мольбертом и не нашел поразившей его воображение лесной панорамы и всю жизнь потом искал ее, рисовал и писал полотна, которые стали после его смерти шедеврами. Загляделся на открывшийся вид и Картыков. От избытка чувств вдохнул полной грудью ароматного смолистого воздуха.
— Раздолье, — услышал я.— Вот бы полететь, как птица.
Картыков был необычайно выразителен в эту минуту. Густая поросль щетины скрывала скулы и круглила лицо мягким овалом. Большие черные глаза и разлетистые брови делали его похожим на обаятельного джигита. Охотник весь светился. Я никогда не видел, чтобы Картыков любовался тайгой, природой. Обычно все его мысли, чувства, эмоции были связаны непосредственно с охотой, с азартом таежного промысла.
Зачарованный голубыми далями Ильехана, стоял и я, не шелохнувшись. Казалось, пошевелись, отойди в сторону — исчезнет эта картина, как видение, цветной сон.
Над нами раскинулось небо, высокое, ясное, с какой-то звонкой голубизной. Здесь удивительная природная акустика. Где-то в логу дятел принялся с упоением долбить ствол. Гулкие и мелодичные ноты, словно дятел бил по пластинкам ксилофона, долетали до нас. Так можно было стоять, любоваться, впитывать в себя эту красоту бесконечно, но нас ждали охотничьи дела. И мы углубились в тайгу.
На исходе дня собаки напали на росомаху и быстро загнали ее на дерево. Я легко сбил этого медвежистого темно-бурого зверя с грубым, лохматым мехом. Картыков замешкался и едва отобрал росомаху у собак, отшвыривая их руками и ногами. Это немного охладило их пыл. Да и интерес к убитой росомахе уже пропадал, хотя они горели еще охотничьим азартом. Собаки стояли поодаль, надеясь, что хозяин их обласкает. И услышали устную благодарность Картыкова:
— Молодцы, собачки!
Мера поощрения дошла до собак, они завиляли хвостами, продолжая поглядывать на росомаху, которую охотник держал в руке. Росомаха вдруг шевельнулась. Оказывается, она была только ранена. Картыков перехватил росомаху ка загривке покрепче и невозмутимо бросил каждой собаке по кусочку хлеба.
— А это материальный стимул, — улыбнулся охотник. — Теперь можно приступить к учебе.
Он опустил раненую росомаху на землю. Зверек затравленно вертел острой мордочкой, вспыхивали зеленым огнем его блестящие глазки, мелко подрагивали бока с белыми разводами.
— У-усь! — закричал охотник. Собаки прыгнули к росомахе, хищно оскалив зубы, но охотник успел выдернуть ее прямо у них из-под носа и поднять вверх. Росомаха словно вдохнула новых сил и с бесноватостью затрепетала в руках охотника, выбросила веера сильных когтей.
— Поймался, вор, поймался, пропастина, — с ненавистью чеканит Картыков похитителю добычи в капканах охотника, в продовольственных скрадках.
Зверек шипит и фыркает, показывая собакам острые зубы. Охотник продолжает урок, собаки бесятся от злости, готовке разорвать росомаху. Это жестокая учеба, но собак нужно натаскивать.
К ночи мы снова вышли к Ильехану. Широкая долина, обрамленная по обеим сторонам лесистыми гребнями увалов, была залита щедрым светом круглого шара луны. От деревьев падали голубые тени. Фосфоресцирующе сверкал снег. Будто завороженный колдовским лунным сиянием, Картыков смотрел на долину и удивленно, словно он видел все это впервые, прошептал:
~ Да ведь это ж Ильехан! — и тихо, дыханием одним засмеялся.
Когда мы в тот вечер отдыхали у костра на густой пихтовой подстилке, я спросил:
— Володя, не страшно бывает в тайге оттого, что один и один все время? — спросил я,
— Привык бирючить.
— А если ногу, положим, сломаешь? — допытывался я.
— Случится что — доползу, — ответил Картыков.
Лицо его было задумчивым, в глазах бились отсветы огня. Он словно забыл обо мне и е отрешенностью проговорил после сиплого вздоха:
— Живем — не люди, умрем — не покойники. Загнешься где-нибудь, и никто не узнает.
— На пятьдесят километров сил хватит?! — воскликнул я, ошеломленный его решимостью.
— Зубами буду землю грызть, а доберусь до зимовья. Ладно, что это мы о мрачном заговорили? — оборвал Картыков. — Давай-ка лучше песню споем, а то все некогда было.
Насчет песни у меня пролетело мимо ушей, и я пытал Картыкова о своем:
— А если не хватит мочи ползти?
— Не хватило бы — не ходил на охоту бы, — жестко отрезал Картыков. — Лет пять еще можно не беспокоиться…
Меня потрясли мрачное спокойствие и решимость Картыкова, и перед глазами встали картины возможного события. Вот охотник ползет по снегу, волочит сломанную ногу, она распухла, одеревенела. А он хватается за кочки, за корни и ветки, вспахивает телом снег, пальцы рук побелели, из уголков искореженного болью рта сочится сукровица,..
А Картыков начинал в это время несколько песен, но они как-то не шли. Может, оттого, что искусственно взбодрил себя. Но задумчивость Картыкова постепенно рассеялась, и он легко и с раздольностью запел песню, предварив ее замечанием: «Рыбаки ее у нас очень любят». В песне говорилось о лесной фее, которая жила над рекой и, купаясь в Дунае, попала в рыбацкие сети. Ее увидел юноша Марко и полюбил. Наутро красавица фея исчезла. В поисках ее Марко бросился в Дунай. Он утонул, а песня о нем осталась. Пение захватило глубинное в Картыкове, и он закончил на пронзительной грусти:
А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут,
И сказок про вас не расскажут,
И песен про вас не споют.
С первых же куплетов я понял, что это «Валашская легенда» молодого Горького.
— Как и когда попала эта песня в Батлым? — спросил я охотника.
— Ее наши отцы и деды пели еще.
— А русский язык от кого ты узнал?
Картыков с удивлением вскинул брови:
— От них же.
С самого начала нашего знакомства я внимательно вслушивался в речь Картыкова. Родной язык народа ханты в чем-то схож с клекотом птиц. Фразы Картыкова очень музыкальные. Чувствуется, что они наполнены богатыми народными речениями и оборотами. Образным оказалось у него и русское слово. И по журналистской привычке я все время полню свою записную книжку.
«Светогон» — так называет Картыков электрика. «Сундук на закрытом замке» — о скряге; «прискребчивый» — о вредном соседе; «захребетник» — о тунеядце; «и поилица и кормилица» — о реке. «Кто любит шти наварные, а кто жену нарядную», «Как хозяин, так и гость, вешай рюмочку на гвоздь», «Милости просим, с кого гривен восемь, а с вас ничего», «Хозяин — барин: хочешь ешь, хочешь задавись» — присказки. «Не зря меня вчера целый день давом давило» — по поводу перемены погоды. «Портянкой нашего брата не сметешь», то есть нас много. «В сердце дета» — в середине лета.
Язык помогает глянуть в седое прошлое, и мне думается о тех временах, когда россияне только-только начали осваивать Сибирь и несли сюда свою культуру, привычки, знание ремесел, весь свой трудовой опыт, и зарождалась крепкая дружба между первопроходцами и местными людьми. И понятнее, ближе становилось мне читанное у исследователя Тобольского Севера конца прошлого века Дунина-Горкавича о том, что в домах ханты и манси водился «скусный» фамильный чай (по-нынешнему мелкий, байховый), нередко звучали звуки гармоники… А легенду о Марко и красавице фее, по-видимому, занесли на Север либо политические ссыльные, которых немало бедовало на здешних берегах, беглые или самоходы, как их называли здесь, бежавшие от царского гнета, либо энтузиасты-учителя.
Еще одну ночь провели мы на ногах: далеко ушли, увлекшись промыслом. Вот уж истинно, что охота пуще неволи. К утру только добрели мы до своего заиндевелого костровища. Почти сутки прошли с того часа, как загасили мы огонь, отправляясь на промысел.
Шатаясь словно пьяные, разводим костер, перетрясаем от снега лапник, сушимся, утоляем голод и валимся спать. В лицо — жар огня, в спину — лед стужи. Завернуло свирепо, мороз градусов тридцать.
Это был нелегкий сон, казалось, что тело прокалывают десятки острых металлических игл. Разбудил меня Картыков. Я лежал, разметав руки, одной пятерней доставал до снега. Мороз успел прихватить три пальца, они начали уже белеть. Охотник стал растирать их.
— Домой! —- сказал Картыков. — Дорога знакомая, не собьемся: ночь светлая,
Мы надели сохни — брезентовые чуни с кожаными головками, устелив их внутри сухой травой. Вскинули на плечи ношу и отправились в ночной поход. У меня в рюкзаке — хозяйственное снаряжение. Сверху навязаны бродни и пальто (его я превращал в матрац). У Картыкова за спиной медвежье сало,, кусками утрамбованное в кужемку, большой берестяной короб, с боков которого аккуратно увязаны топоры.
Кужемки — проверенная веками хозяйственная утварь ханты, и меня не удивляет, что Картыков любит их. В них ничего не сомнешь, к такому коробу легко приладить любую поклажу. Хорошо и отдыхать с ним, сидя на земле: откидываешься, как в кресле. Как и многие батлымцы, Картыков почитает белую тайгу — чистые высокие березовые леса. В ходу у него береста. Ею охотник покрыл крышу таежного зимовья, и водоустойчивой она стала. Наделал чумашек черпать воду из лодки. Изготовил из бересты две люльки дочкам, сняв верхний слой ее по рисунку, украсил национальными узорами и орнаментами.
Бывая на Севере, я не раз убеждался в художественной одаренности детей ханты, манси и ненцев. Талантливо рисуют они птиц и зверей, тайгу и тундру. Это передалось им из веков. Ни социальный гнет и беспросветная нужда, ни метели, морозы и другие невзгоды не могли убить, задушить поэзию у народностей Севера.
Много поэтичного открылось мне в Картыкове за месяц. В избушке у охотника делают всегда остановки рыбаки, направляясь в верховья Батлымки. И однажды они оставили у него нарс-юх, национальную пятиструнную балалайку, напоминающую по форме лодочку. Ее называют еще играющим деревом и делают из ели или кедра.
— Пусть лежит у тебя, — сказали рыбаки, — на остановках будем играть.
Через несколько месяцев, в Тюмени уже, я узнал, что Картыков смастерил к этому нарс-юху приставку — «сцену», напоминающую барабан с цветными боками. На ней красовались две куклы в национальных костюмах — парень с девушкой. Внутри барабана была система блоков, соединяющих кукол с нитками, выходящими наружу: Картыков цеплял их к пальцам и, умело «дирижируя», начинал наигрывать плясовую мелодию. И куклы пускались в пляс. И для задубевших от ветров и ледяной работы друзей его это был самый лучший в мире концерт.
Дома у Картыкова я видел еще торопыт-юх — это национальные гусли, по-местному — кричащее дерево. Торопыт-юх очень мелодичный инструмент из елового корня, в его голосе много от курлыканья журавлей. И поэтому торопыт-юх называют также журавлиным деревом. С ним Картыков тосковал обычно в одиночку, когда находило на него такое настроение.
На рассвете мы пришли к избушке. С ближней лиственницы деликатно протявкал ворон. На этот раз его призыв послужил нам не побудкой, а сигналом ко сну.
Мы проспали целые сутки. Встали, Картыков начал перебирать мешок с пушниной, поглаживая шкурки:
— Мя-я-ягкое золото… В общем, ничего добыли, даже хорошо.
В трофеях у нас были соболь, росомахи, беличьи, заячьи шкурки. Одна лиса в капкан попалась.
— Попробуем сегодня порыбачить, — сказал Картыков.
Погрузили на карточки колья и спустились к Батлымке. Речку крепко сковало льдом. Было солнечно. Искрился розовый, в косых лучах солнца снег. Далеко у поворота курилась полынья.
— Мороз сейчас на Обь давит, вода там крепче, чем спирт, пожалуй, — говорит Картыков. Станет река, тепло будет. Всегда так. Скачала малый рекостав. Схватит все протоки, тепло наступает. Потом опять холод. Это уже на большой рекостав. Мороз с передышками работает.
Сейчас разрежем пешней всю речку, — продолжает Картыков, показывая на лед. Наставим в стену кольев, между ними натолкаем до дна елочных веток, а у берега майну вырубим и морду поставим. Понял?
Иду рубить ветки, а Картыков делает майну. Я натаскал целую гору лапника и стал долбить лед. Беру пешню поудобнее: одной рукой ка уровне груди, другой — на уровне пояса. Трудновато колоть лед. А Картыков, оказывается, наблюдал за мной и вдруг объявляет:
— Так лентяи лед колют. Учись!
Берусь руками в одном месте. Дело пошло веселее… Все готово. Картыков погружает в майну морду.
— Ну, ловись рыбка маленькая и большая!
В чистых струях воды видны прутья ловушки. Сделать морду не так-то просто. Жала ее из лиственницы. Скреплены они кольцами из черемухи, а обвязаны ременными заготовками из кореньев кедра или сосны.
Собаки крутятся вокруг майны, ждут рыбки. Верный и Шарик начали валяться на снегу.
— Буран ворожат, — замечает Картыков. — Ну, смотрим!
Вытаскиваем морду. Внутри прутяной ловушки трепещут крутобокие чебаки, красноглазые сороги. Высыпаем улов на лед, сверкает, переливаясь под солнцем, серебряная горка. Мороз быстро сковывает рыбешку. Картыков бросает собакам чебаков. Они ловко, на лету схватывают их и с жадностью разрывают.
Я направился в избушку готовить уху. Только стал взбираться на берег, как услышал за спиной вскрик. Картыков, неестественно запрокинув руки, навзничь падал в майну. Он успел-таки схватиться рукой за шест, который крепился к морде, и выпрыгнул на лед.
Я подбежал к нему. Он сидел, не поднимаясь, и забористо, тяжело дышал.
— Голова закружилась, — объяснил он, когда я привел его в избушку. — Простыл, наверное, когда блудили после соболька. А может, у костра тогда просвистело.
У Картыкова поднялась температура. Я укрыл его шубой, раскочегарил печку так, что она стала малиновой и гудела, как дизель. А охотник все ежился и постанывал:
— Морозит, словно щипками все тело щиплет.
Натопил ему медвежьего жира, он выпил его.
Спал Картыков тревожно, со вскриками, Всю ночь шумел над избушкой, выл по-волчьи, скребся в дверь колючий, злой ветер — наворожили-таки собаки. Я беспокоился за Картыкова и несколько раз просыпался. Часов после пяти дерганого сна дрема прошла окончательно, и, вперив взгляд в темень избушки, я раздумался о спутнике своем по батлымеким тропам. Толчок мысли дали наплывающие на меня в воображении ночные виды Западно-Сибирской низменности с самолета, море огней нынешней тюменской земли — искрящиеся громады домов в новых городах и поселках, нервные сполохи электросварки на трассах трубопроводов, парадные, розовые зарницы в облаках от газовых факелов, маячки проносящихся встречными курсами самолетов и вертолетов, извивы рубиновых цепочек огней стоп-сигналов автомашин, идущих по бетонкам вечерней отливной волной с месторождений в базовые города и поселки.
Цивилизация, индустрия этой земли, увиденная мной в темени таежного зимовья, выкованы были из дикой природы, которая теснится, сокращается под натиском человека шагреневой кожей. Редкими становятся здесь теперь представители охотничьей профессии. Исчезают охотники-промысловики мало-помалу, как птицы и звери, на которых они охотятся. Я не пессимист по натуре, и думалось мне в дальнем зимовье на Батлымке, что на смену древнему промыслу придут искусственное разведение, интенсивное управление дикими животными, птицей, охотники нового склада мышления. Пройдут столетия, наука шагнет далеко вперед, и, может быть, для изучения и поиска зверей изобретут неслыханные чудо-приборы, но и древнее как мир тропление следов зверя по снегу, лежащее на грани науки и искусства, не будет утрачено и забыто, и очень важным казалось мне запечатлеть в записках своих с таежной тропы «последнего из могикан» в Батлыме, человека, кому лесная его работа дает светлое ощущение сопричастности таинствам жизни сибирской тайги, ее удивительного и непостижимого никогда до конца, как вселенная, мира. Как никогда остро почувствовал я, что очень важно для нас не растерять ценное, что передается от охотника к охотнику из века в век.
Наутро мы устроили выходной день. Охотник отлеживался. К полудню выглянуло солнце. А после обеда к нам заехали два рыбака с верховьев. Они отправлялись в Батлым за продуктами.
— У нас тоже все на исходе, — озабоченно проговорил Картыков. — И мы с вами едем. Продуктами запасемся, передохнем немного.
Я быстро собрал рюкзак, и мы сели в розвальни. Дорога была еще ненаезженная (рыбаки неделю назад проложили первую колею), но каурая лошаденка резво бежала по просеке. Лоснились на солнце ее упитанные бока.
— Сейчас у ней силы как у буйвола, — повернулся ко мне Картыков. — Здесь ведь лошадь как корова в Индии. Словно священное животное. На все лето их в пойму, в полуденную сторону отпускают, и ходят они стадами, едят, дичают. И только в зиму собирают лошадей и в работу впрягают. В сезон, правда, дела им много. Но северные лошади выносливые, все выдерживают.
Рыбак-возница озорно махнул кнутом и легонько стегнул лошадь по крупу.
— Веселей ты, Шурогайка!
Лошаденка стала чаще перебирать ногами. Через лес тянуло легким ветерком. Пахнуло смолистым ароматом сосны и снегом.
Выбрались наконец из лесу. По пойме лошадь пошла еще быстрее. Солнечные лучи уже скользили по равнине, слепили глаза. На крутом берегу вдали показался Батлым с косами вечерних дымов над крышами. Под горой, у крайнего порядка домов, Картыков увидал черные точки. Его воспалившиеся губы тронула улыбка.
— Мои короеды шастают…